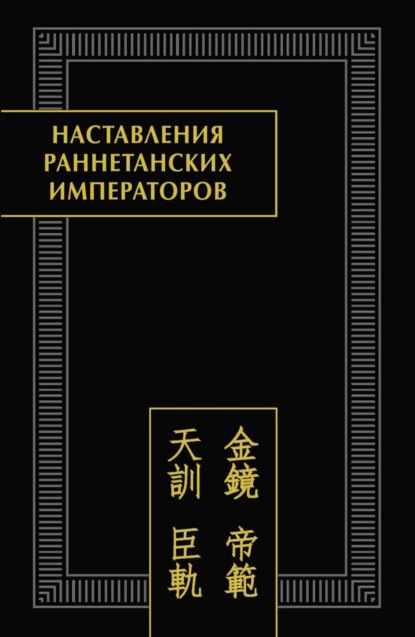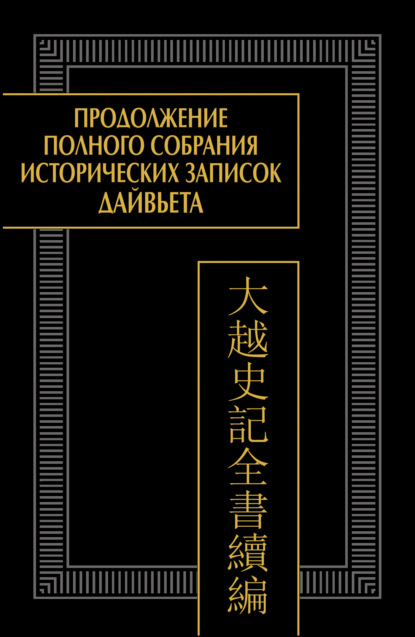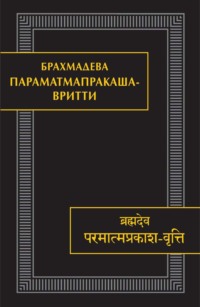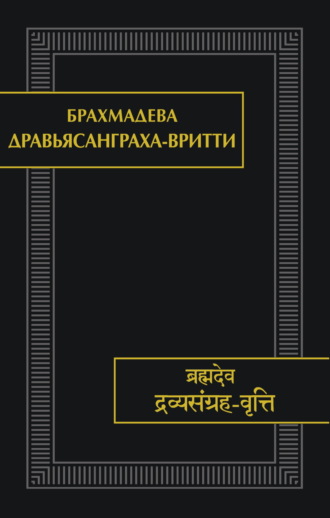
Полная версия
Дравьясанграха-вритти
Однако здесь все-таки имеет смысл внести уточнение, поскольку относительно даты создания текста ДСв (и, соответственно, времени жизни его творца) у нас есть возможность опереться на факты как внешнего по отношению к самому сочинению, так и внутреннего характера. Внешним в данном случае выступает факт наличия манускрипта ДСв Брахмадевы в бхандаре Джайсалмера[14], каталог которого (с. 49, пункт 15) сообщает, что эта копия была сделана в 1484 самват[15], т. е. в 1428 г. по европейскому летоисчислению, в Мандаве (Māṇdāva) во время правления царя Раи Шри Чандараи (Rāi Śrī Cāndarāya)[16]. Следовательно, время жизни Брахмадевы, автора ДСв, относится к XIV в., во всяком случае, не позднее первой четверти XV в. Вторым важным фактом внешнего характера выступает обширное цитирование ДСв Брахмадевы в тексте «Карттикея-анупрекша-тика»[17] – созданном в 1556 г. комментарии Шубхачандры[18] на популярное в дигамбарской традиции руководство по медитации под названием «Карттикеяанупрекша» (предположительно IV в.)[19]. Иными словами, Брахмадева должен был жить раньше Шубхачандры.
Сам автор ДСв часто ссылается на предшествующую ему дигамбарскую литературу: он цитирует другие сочинения Немичандры Сиддханты Чакравартина (X–XI вв.) – «Гоммата-сару» и «Трилока-сару», тексты из Corpus Cundacundae (III–IV вв.)[20], «Арадхану» Шиварьи (II в.?), «Таттвартха-сутру» Умасвати (III–IV вв.)[21], «Таттва-анушасану» Рамасены (XII в.?), «Яшастилака-чампу» Сомадевы (959 г.)[22] и т. п., из чего становится понятно, что нижний предел времени жизни Брахмадевы – XI век.
В первом абзаце своего комментария ДСв Брахмадева пишет о том, что Немичандра, автор «корневого» текста «Дравья-санграха», сначала составил малую версию этого сочинения, состоящую из 26 гатх, а позднее она была расширена для Сомы, жителя Ашрамапуры, и казначея Шрипалы Мандалешвары во времена великого царя Бходжи, правителя Дхара в стране Малва[23]. Этот Сома выступает в роли ученика, чьи вопросы и недоумения разрешаются в тексте Брахмадевы, – очевидно, именно его имеет в виду комментатор, когда говорит: «здесь сказал/спросил ученик» (atrāha śiṣyaḥ), и от его лица задаются вопросы по ходу рассуждения: «каким образом?» (katham), «в силу чего?» (kasmāt), «как это?» (kathaṃbhūtaṃ), «что отличает?» (kim viśiṣṭam) и т. п. Иногда же автор прямо приводит имя Сомы.
У нас нет никаких подтверждений тому, что Немичандра был современником Бходжи и что изначально текст ДС был почти вдвое меньше его нынешнего объема. Однако из этих слов комментатора можно сделать вывод, что сам Брахмадева жил значительно позже Бходжи из Дхара, которого он называет чакравартином[24] времени кали-юги. Очевидно, что Брахмадева имеет в виду царя Бходжу из династии Парамаров[25], правившего Малвой со столицей в городе Дхар (совр. штат Мадхъя-Прадеш) в 1010–1055 гг.
Брахмадева в своем комментарии делит 58 гатх[26] Немичандры на три неравные по объему главы-адхикары (adhikāra), первую из них (гатхи 1–27) он называет «Шесть субстанций – пять протяженных субстанций»; вторую адхикару (гатхи 28–38) он обозначает как «Семь „реальностей“ – девять категорий»; и третью (гатхи 39–58) он именует «Путь Освобождения». Первую и третью адхикары Брахмадева подразделяет на внутренние адхикары (antarādhikāra), а их, в свою очередь, разбивает на тематические части (sthala). Так, первая адхикара состоит из трех внутренних адхикар, первая и третья из которых включают в себя девять и пять частей соответственно. Помимо этого, в конце первой адхикары приводится небольшое дополнение (cūlikā), где дается расширенное истолкование ранее объясненных шести субстанций. Вторая внутренняя адхикара первой адхикары частей не имеет. Вторая адхикара состоит из семи частей и не имеет деления на внутренние адхикары. Третья адхикара подразделяется на две внутренние адхикары, первая из них имеет две части, а вторая – три. Кроме того, каждая адхикара содержит небольшие разделы (pātanikā), где также дается небольшая экспозиция определенной темы.
Такое дробное деление гатх и без того небольшого трактата Немичандры преследует одну важную, с точки зрения комментатора, пропедевтическую цель – выделить общие тематические блоки внутри обсуждаемой области, а их, в свою очередь, поделить на более частные предметы. Брахмадева распределяет по главам (адхикарам), внутренним адхикарам и частям не столько сами сутры (хотя они и выступают единицами деления), сколько комментарий к ним. Текст Брахмадевы, используя «коренные» (mūla) гатхи Немичандры в качестве ключевых концептов, или опорных рубежей, по сути, является полным и довольно подробным изложением всей джайнской доктрины, как ее понимает дигамбарская традиция. По этой причине в начале XX в. данный текст был утвержден в качестве обязательного при сдаче экзаменов на получение звания «пандит» в дигамбарской традиции, а правительство Джайпура предложило ДСв для экзаменов на звание «упадхьяя»[27] в санскритских университетах [Śāstrī 1999: 11][28].
Дж. Шастри, первый издатель ДСв, характеризуя текст с точки зрения его языковых особенностей, замечает, что «санскрит в нем настолько прост, что проще этого уже и быть не может» [Śāstrī 1999: 10]. Безусловно, получивший хорошее традиционное образование (что подразумевает превосходное знание санскрита) дигамбарский пандит имел полное право так утверждать, но на внешнего по отношению к индийской культуре читателя данное сочинение не производит впечатление «проще простого». Синтаксические структуры предложений действительно особых затруднений не вызывают, автор часто использует одни и те же формульные словосочетания для характеристики истинной природы атмана (например: śuddhabuddhaikasvabhāvena, букв. «с собственной чистой, просветленной единой природой», которое неоднократно встречается по всему тексту, как только речь заходит о сущности духовной субстанции; svātmalābha, букв. «обретение собственного атмана», и т. п.). Тем не менее в силу того, что комментарий Брахмадевы представляет собой истолкование джайнской Дхармы в ее полноте, включая и онтологические и эпистемологические концепты во всей их «цветущей сложности» (выражение русского философа К. Леонтьева), чтение ДСв и проникновение в тонкости интерпретации гатх Немичандры Брахмадевой не кажутся легкой задачей.
Особую сложность для понимания и соответствующего адекватного перевода с санскрита на русский язык представляет применение Брахмадевой учения о точках зрения, основу которого составляет выделение двух базовых точек зрения – обыденной (vyavahāranaya) и подлинной (niścayanaya)[29]. Не вдаваясь в детали, приведенные в самом комментарии, можно отметить, что первая описывает нечто (объект, событие, явление) таким, каким оно нам кажется, представляется, а вторая говорит о том, каково оно есть на самом деле. Один подход фиксирует феноменальную сторону бытия, другой опирается на ноуменальное понимание существующей действительности[30]. Первым, кто в истории дигамбарской традиции применил подобную стратегию, был, очевидно, Кундакунда (III–IV вв.)[31]. Брахмадева вполне успешно продолжил ее использование, но уже в более детализованном виде.
Несмотря на то что название комментируемого произведения (и, следовательно, комментария также) свидетельствует о том, что данный текст посвящен рассмотрению души, материи и других субстанций, признаваемых джайнизмом, т. е. является трактатом по онтологии, тем не менее объяснение природы шести субстанций здесь выступает в качестве средства постижения атмана. Как справедливо подметил Дж. Шастри, комментарий Брахмадевы «является хорошим сочинением по мистицизму» [Śāstrī 1999: 10][32]. Продолжая традицию, представленную сочинениями Corpus Cundacundae, Брахмадева пишет о трех видах атмана: внешнем (bahirātma), внутреннем (antarātma) и высшем (paramātma)[33]. По отношению к внешнему атману автор допускает три трактовки, первая из которых заключается в том, что тот, кто склонен к удовольствию, получаемому с помощью органов чувств, является внешним атманом. Вторая трактовка предполагает единичность души в теле и других субстанциях в силу отсутствия знания различения. Третий подход к пониманию того, что есть внешний атман, подразумевает осознание того, что является приемлемым, что следует принять в рассмотрение (upādeya), а что – неприемлемо и что не следует принимать во внимание (heya) – при понимании «атмана» как «сознания», а недолжных состояний типа вожделения и т. п. как «ошибки»; не верящий в эти категории считается внешним атманом[34]. Внешний атман – это наличествующая в живом существе потенциальная способность достичь освобождения от колеса сансары. Внутренний же и высший атманы – это реализация подобной возможности. Внутренний атман понимается Брахмадевой как отличный от внешнего. Высший атман – это тот, кто обрел совершенное знание, не подвластное никакому изменению и ошибкам. Он может быть поименован тысячью восемью именами, включая и «Шиву», и «Будду», и «Брахму», и т. д., поскольку речь идет об истинной природе духовной субстанции, заключающейся в бесстрастном всеведении.
Дж. Шастри подчеркивает, что «обычно самым трудным предметом является описание атмана с подлинной точки зрения. У несведущих отсутствует способность к этому. А способные, не зная о пути неодносторонности, блуждают вокруг да около» [Śāstrī 1999: 10]. Комментарий Брахмадевы помогает решить данную дилемму посредством обращения к «колесу точек зрения» (nayacakra), применяемому автором к истолкованию атмана. Помимо общего деления точек зрения на обыденную и подлинную автор выделяет подвиды каждой. Так, подлинная точка зрения может быть чистой и нечистой, а обыденная – различающей (sadbhūta) и неразличающей (asadbhūta); эти последние, в свою очередь, подразделяются на иносказательную (upacarita) и неиносказательную (anupacarita). Таким образом, автор говорит о том, что духовная субстанция может быть описана с шести точек зрения, в зависимости от того, на что обращается внимание и что находится в «объективе» рассуждения.
В процессе комментирования Брахмадева активно использует сочинения предшествующей дигамбарской традиции. В отличие от комментаторов более ранней эпохи (например, Пуджьяпады, Акаланки Бхатты и т. п.), он не только использует фразы типа tathā coktam (букв. «а также сказано») без ссылки на источник цитаты из произведений других учителей – Брахмадева прямо указывает одного автора (помимо Немичандры, гатхи которого он объясняет), Кундакунду[35]. Видимо, ко времени создания ДСв этот дигамбарский ачарья не просто входил в число авторитетных учителей прошлого, но его тексты уже воспринимались представителями дигамбарской ветви джайнизма как части сиддханты[36], наряду с «Дхавалой», «Джаядхавалой» и «Махадхавалой» – комментариями к, вероятно, самым ранним текстам дигамбарской традиции – «Кашая-прабхрите» и «Шаткхандагаме»[37]. В ДСв встречается не только имя «почтенного божественного ачарьи Кундакунды», но и названия его сочинений: «Панчастикая-сара», «Самая-сара», «Правачана-сара». Кроме того Брахмадева цитирует «Нияма-сару», «Моккха-пахуду» и «Бараса-анувеккху», также входящие в Corpus Cundacundae. Автор ДСв, отстаивая свою позицию по тому или иному доктринальному вопросу, ссылается на «Таттвартха-сутру», «Мулачару»[38], «Локавибхагу»[39] и текст под названием «Панчанамаскара»[40]. Цитирование сочинений авторов предыдущих эпох для подтверждения и пояснения собственных взглядов – вполне понятная практика, к которой прибегают не только джайнские мыслители. Единственное необъяснимое явление представляет собой довольно обширное, но ничем не маркированное цитирование другого комментария – «Таттвартха-раджаварттики» (9.6.16) Акаланки Бхатты (VIII в.). Такое анонимное «цитирование» (а по сути, просто страница из трактата Акаланки Бхатты) имеет место при объяснении восьми видов чистоты самообладания. Ранее никто этого не заметил: ни Дж. Шастри, ни А. Упадхье, авторы предисловий к изданиям ДСв и ППв, ни словом не обмолвились на этот счет. Да и в перечислении сочинений, на которые ссылается в своих комментариях Брахмадева, ни тот ни другой индийский исследователь не упоминали Акаланку Бхатту. Автор «Раджаварттики», очевидно, не входит в число цитируемых Брахмадевой учителей[41]. Почему Брахмадева никак не обозначил «позаимствованный» у более раннего дигамбарского (и весьма авторитетного в традиции) автора кусок текста – совершенно непонятно, ведь в других случаях чужой текст он оформляет как цитату…
Брахмадева при толковании ДС Немичандры, отстаивая положения джайнской доктрины, полемизирует с другими школами индийской философской мысли. Однако мнения оппонентов он приводит в самом общем виде, не цитируя произведения, а просто называя найяиков, санкхьяиков, чарваков, буддистов, мимансаков и т. д. Ввод противоположной позиции (пурва-пакша) происходит в тексте комментария также благодаря использованию определенных языковых маркеров: atha matam – букв. «затем, [возможно] мнение»; kaścid āha – букв. «некто сказал» и различного рода вопросительных слов. Подобный риторический прием позволяет автору комментария полнее раскрыть тему, продемонстрировать силу джайнской позиции и, возможно, удерживать мысль читателя, чье внимание могло ослабнуть.
Помимо истолкования слов гатх ДС и различных цитируемых текстов Брахмадева неоднократно использует фразы типа tātparyam (букв. «это понимается [так]»), iti bhāvārthaḥ (букв. «таков истинный смысл»), ayamatrabhāvaḥ («здесь смысл такой»), iti vārttikam (букв. «таково истолкование»)[42], что позволяет комментатору видеть в тексте еще один идейный слой. Подчеркивая подобными словосочетаниями значимость приводимого толкования, Брахмадева указывает на существование не только буквального смысла той или иной фразы или положения, но и более глубокого смысла, не очевидного для неискушенного ученика. Важно понимать написанное с точки зрения языка и общей логики рассуждения, но не менее значимо проникать в суть прочитанного, ухватывать кроме того, что сказал данный автор (Немичандра, Кундакунда и др.), то, что он хотел сказать и с какой целью.
Эта техника «считывания» подлинного смысла изучаемого текста сохранилась в джайнизме до настоящего времени. Получившие образование традиционного типа (т. е. в религиозных учебных учреждениях) и занимающиеся распространением знания джайнской доктрины и толкованием древних трактатов среди широкой аудитории единоверцев современные пандиты также прибегают к поиску и выявлению «истинного смысла» древних шастр. Зачастую умение такой смысл находить и объяснять ценится далекой от академической науки аудиторией куда больше, чем навыки грамматически правильного прочтения текстов.
Комментарий Брахмадевы никогда не становился объектом самостоятельного исследования ученых[43] и никогда не переводился на европейские языки. Этому есть несколько причин, в их числе и крайне незначительная степень изученности джайнского философского наследия вообще и дигамбарского в частности. Те немногочисленные исследователи джайнизма, которые занимаются изучением собственно текстов, предпочитают обращаться к самым ранним произведениям традиции или же к самостоятельным авторским сочинениям. До полномасштабного анализа обширной комментаторской философской литературы дело пока не дошло. Кроме того, текст Брахмадевы относится к сравнительно позднему времени и в силу этого не привлек внимание исследователей, чьи усилия сосредоточены на изучении более ранних периодов литературы. Таким образом, предлагаемый ниже перевод – первый опыт подобного рода в западноевропейской индологии, занимающейся изучением джайнизма.
На сегодняшний день существуют три издания этого текста, одно из них – Nemichandra Siddhanta Chakravarti. Dravyasagraṃha / Ed. by S.C. Ghoshal. Arrah, 1917 (Sacred Books of the Jainas. Vol. 1) (переизд. Delhi: Motilal Banarsidass, 1989), в котором текст Брахмадевы приведен в конце книги без комментируемых гатх, составляющих само это издание. Второе – Śrīmannemicandrasiddhāntidevaviracitaḥ Bṛhaddravyasaṃgraha Śrī Brahmadevasya saṃskṛta vṛtti Śrī Javāharlālśāstripraṇīta hindībhāṣānuvāda ceti ṭīkāddvayopetaḥ. Agās: Śrīparamaśruta prabhāvak maṇḍal Śrīmad Rājacandra āśram, 1906 (переизд. 1999). Публикуемый ниже перевод комментария Брахмадевы сделан по третьему изданию: Śrīmad Nemicandrasiddhāntadevaviracita Bṛhad-dravyasaṃgraha aur Laghudravyasaṃgraha (Śrī Brahmadeva viracita saṃskṛta vṛtti sahita. Hindī ānuvādak Paṅḍit Rājakiśor Jain. Jaipur: Paṅḍit Ṭoḍarmal Smārak Ṭrast, 2006. Комментируемые гатхи ДС на джайн-шаурасени приводятся в латинской транслитерации жирным шрифтом и курсивом, это же сохраняется и при переводе с санскрита в комментарии Брахмадевы, который разбирает слова и словосочетания каждой гатхи, сопровождая их пояснениями. Цитаты из других сочинений на пракрите также даются в латинской транслитерации и выделяются курсивом, а цитаты на санскрите – только в переводе. Это позволяет наглядно увидеть смену языковых «регистров» в процессе комментирования Брахмадевой. Деление по главам (адхикарам) и названия глав осуществлены самим дигамбарским автором, но подчеркивание слова «комментарий» после каждой гатхи ДС сделано мной. Нумерация в приведенных цитатах, где удалось их идентифицировать, в тексте ДСв также проставлена мной; там же, где источник цитаты не установлен, я оставила цифру «1», как это сделано в сочинении Брахмадевы. Текст ДС Немичандры был издан мной впервые в 2012 г. в книге «Дигамбарская философия от Умасвати до Немичандры: историко-философские очерки» [Железнова 2012а]. В данном издании перевод отдельных гатх был подвергнут незначительным изменениям, для того чтобы подчеркнуть языковые и стилистические особенности этого трактата в контексте комментария.
Брихаддравьясанграха-Вритти
(«Комментарий на „Большое собрание субстанций“»), толкование, составленное на санскрите почтенным Брахмадевой
Перевод
Первая адхикара
Шесть субстанций – пять протяженных субстанций
Поклонившись высшему атману1, сиддхе2, восхваляемому в трех мирах3,
[чья] собственная природа – естественное сознание
и блаженство4, незапятнанному и неуничтожимому, ||1 ||
и Джинешваре5, проповедующему чистую душу6 и другие субстанции7,
я приведу краткий комментарий на сутры8 «Собрания субстанций». ||2 ||9
Так, в стране Малва, друг владыки города под названием Дхар, царя-чакравартина10 времени кали-[юги] по имени Бходжа11, друг первого министра благословенного Палы в городе под названием Ашрама, в святилище благословенного тиртханкара Мунисувраты12, страшась страданий обитателей ада, противоположных «вкусу» «нектара» счастья, порожденного осознанием субстанции чистого атмана, желая испить потоки счастья, порожденного размышлениями о высшем атмане, любя размышления о тождественной-в-различии «троякой драгоценности»13, «лотос» среди избранных способных [к освобождению душ] по заказу царского купца по имени Сома, хранителя казны и исполнителя множества других обязанностей, на составленное прежде почтенным Немичандрой Сиддхантадевой «Краткое собрание субстанций» в двадцати шести гатхах, впоследствии с целью [получения] полного знания об особых «реальностях»14, комментарий-толкование написанного «Большого собрания субстанций» начинает прежде всего с разбиения на адхикары. Так, начиная со [слов] jīvamajīvaṃ davvaṃ и до конца двадцать седьмой гатхи, [идет] первая адхикара (1–27)15, описывающая шесть субстанций и пять протяженных субстанций16. Сразу за ней, начиная со [слов] āsavabaṃdhaṇa и до конца [следующих] одиннадцати гатх, [идет] большая вторая адхикара (28–38), в основном описывающая семь «реальностей» и девять категорий. Следом за этим, начиная со [слов] sammaddaṃsaṇaṇāṇam и до конца двадцатой гатхи, [идет] третья адхикара (39–58), в основном описывающая Путь Освобождения17. Таким образом, следует знать, что [в трактате] три адхикары в пятьдесят восемь гатх. Итак, в первой адхикаре до конца четырнадцатой гатхи (1–14) [дается] истолкование субстанции «душа». Следом за этим, начиная со [слов] ajjīvo puṇa ṇeo, до конца восьмой гатхи (15–22) описывается субстанция «не-душа». Следом за этим, начиная со [слов] evaṃ chabbheyamidaṃ, до конца пятнадцатой сутры (23–28) разъясняются пять протяженных субстанций. Таким образом, в первой адхикаре следует выделить три внутренние адхикары. Так, среди четырнадцати гатх первая гатха – в основном выражение поклонения. Вторая гатха сутры, начиная со [слов] jīvo uvaogamao, [имеет] форму сообщения о душе и других девяти темах. Сразу за ней идут двенадцать сутр в качестве разъяснения девяти тем. Так, с целью постижения души, начиная со [слов] tikkāle cadupāṇā, приведена одна сутра (3), сразу за ней с целью описания двух [видов] направленности [сознания]: знания и ви́дения, начиная со [слов] uvaogo duviyappo, [идут] три гатхи (4–6); затем для объяснения бестелесности запредельного [атмана], начиная со [слов] vaṇṇarasapaṃca, [идет] одна сутра (7); затем в качестве разъяснения деятельности кармы, начиная со [слов] puggalakammādīṇaṃ, предложена одна сутра (8); сразу за ней с целью определения «вкушения», начиная со [слов] vavahārā suhadukkhaṃ, [идет] одна сутра (9); следом за ней с целью постижения соразмерности своему телу, начиная со [слов] aṇugurudehapamāṇo, предложена одна сутра (10); затем же с объяснением собственной природы сансарной души, начиная со [слов] puḍhavijalateuvāū, [идут] три гатхи (11–13); сразу за ними, начиная со [слов] ṇikkammā aṭṭhaguṇā и половины предыдущей [гатхи], предложено разъяснение собственной природы душ сиддх. Во второй половине снова [разъясняется] естественное движение [души] вверх. Таково распределение собранных в первой адхикаре четырнадцати гатх, начиная с выражения почтения.
Теперь же эти [вышеупомянутые] гатхи, соединенные вместе, я далее очень подробно объясню и с целью благословения я выражаю почтение избранным божествам. Держа в уме это намерение, благословенный [Немичандра] приводит такую сутру:
jīvamajīvaṃ davvaṃ jiṇavaravasaheṇa jeṇa ṇiddiṭṭhaṃ |
deviṃdaviṃdavaṃdaṃ vaṃde taṃ savvadā sirasā || 1 ||
1. Того избранного владыку джин, кто описал субстанции – душу и не-душу, – восхваляемого множеством повелителей богов18, всегда восхваляю [и я, преклонив] главу.
Комментарий. Начиная со [слов] vaṃde, через связь действия и деятеля19 комментарий пишется в форме деления на слова. vaṃde – с частично чистой подлинной точки зрения20, вместе с хвалой состояния, характеризующегося почитанием чистого самого по себе атмана, с неразличающей обыденной точки зрения21, с хвалой природы субстанции это слово vaṃde означает «я выражаю почтение». Опять же, с высшей чистой подлинной точки зрения, не существует состояния, восхваляющего восхваляемое. [Вопрос: ] кто это делает? [Ответ: ] Я – Немичандра Сиддхантидева. [Вопрос: ] как vaṃde? [Ответ: ] savvadā – во всякое время. [Вопрос: ] чем? [Ответ: ] sirasā – высшей частью [тела]; taṃ – постигшего природу кармы22, лишенного вожделения, всезнающего. [Вопрос: ] в чем [его] отличие? [Ответ: ] deviṃdaviṃdavaṃdaṃ – восхваляемый повелителями богов и другими стремящимися к стезе освобождения.
bhavaṇālayacālīsā viṃtaradevāṇa hoṃti battīsā |
kappāmaracauvīsā caṃdo sūro ṇaro tirio ||1 ||23
1. У «Во-дворцах-живущих»24 богов существует сорок [Индр], у «Блуждающих»25 – тридцать два, у богов Кальпы26 – двадцать, у «Светил»27 – два – Луна и Солнце, [один среди] людей, [один среди] животных28.
Так, в соответствии с гатхой, следует почитать сто восхваляемых повелителей богов. [Вопрос: ] jeṇa – ч то сделал этот Благословенный? [Ответ: ] ṇiddiṭṭhaṃ – «описал», «рассказал», «объяснил». [Вопрос: ] что [такое] jīvamajīvaṃ davvaṃ? [Ответ: ] две субстанции: душа и не-душа. Так, например, субстанция «душа» характеризуется естественно чистым сознанием и т. п.; а пять видов субстанции «не-душа» – материя и т. д. – лишены этой характеристики. Таким образом, среди пяти протяженных субстанций [только] протяженная субстанция чистой души характеризуется наличием сознания, среди семи «реальностей» чистая душа [имеет] по своей природе высшее сияние. Среди девяти категорий29 высший атман описан [как] лишенный по своей природе недостатков. [Вопрос: ] опять же, какого рода благословенных? [Ответ: ] jiṇavaravasaheṇa – победивших ложность, вожделение и тому подобное; избранного джину одного места – того, который из наделенных правильными взглядами, лишенных [полного] самообладания; главного «быка»30 – из божественных ганадхар31; наивысшего бога – тиртханкара, «быка» среди избранных джин, его – «избранного владыку джин».
Если же здесь, в шастре, относящейся к атману32, выражение почтения сиддхам-парамештхинам33 чрезвычайно уместно, то, опираясь на иносказательную обыденную точку зрения34, почтение выражено архатам35-парамештхинам с целью напоминания о благословении. Так, сказано: «Парамештхин достиг более прекрасного пути из-за чистоты, поэтому сначала в шастрах муни36-повелители восхвалили его достоинства»37. Затем гатха более подробно [говорит]: «Удаление от настиков, забота о предписанном поведении, непрерывное накопление добродетельной [кармы], восхваление в начале шастр»38.