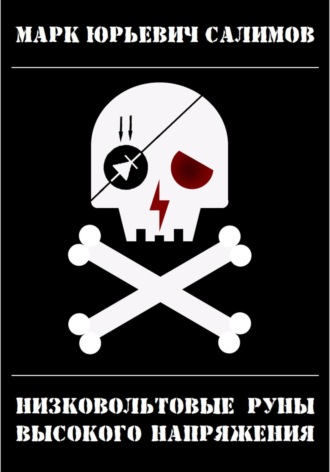
Полная версия
Низковольтовые руны высокого напряжения
Чего ведь, казалось бы, проще, чем свинтить гайку, коей рельсы чугунки прикрепляются к шпалам, а то и пару-другую или сколько тебе ещё надобно? Так нет же, находятся разные там забавные чудаки, готовые тратить на это копеечку из собственной своей мошны!
Но ежели кто вдруг ни с того ни с сего за крушение станет опаску держать, так уж сколько лет всей деревней эти самые гайки отвинчивают, но хранит ить Единый от напасти такой, ибо с понятием там люди живут, не все гайки откручивают, чуток и на крепёж оставляют.
Свинец-то просто на дороге где-нибудь не найти, покупать надо, а гвоздик не годится, вот потому лучше тяжёленькой гаечки с дырочкой грузила и нет. Да и как же можно удить без неё? Как же крючок с живцом или выползком на дно падёт? Толку с того живца, ежели он поверху плавать будет? Окунь, щука да налим завсегда на донного живца идут, а верхнего разве что только шелишпёр какой очумелый захватит, да и то крайне редко.
У завзятых рыболовов есть примета: чем дешевле и хуже снасти, тем лучше ловится рыба. Ванька, к примеру, снасти себе всегда ладил сам, не доверяя этого даже родному дедушке. Обыкновенно, он находил доступный им в деревне сырой материал и делал из них своими руками то, что было ему самому для тех или иных рыбачьих снастей по случаю требно…
Своими руками, – спохватился он, вновь возвращаясь к теме заданного урока и вписывая в черновик всплывшие в памяти новые сведения о рунической письменности: «Вытянутые и угловатые руны было удобнее резать своими руками по деревянной артефактной основе.
Ниспосланные царю Петру и прочим первоодарённым руны резали только вертикальными и диагональными штрихами, кои прозвали стволами и ветвями, а выводить округлые либо же горизонтальные линии поперёк древесных волокон было весьма затруднительно».
Довольный тем, что вовремя вспомнил, быть может, и не самое необходимое, но уместное для данного случая обстоятельство применения рунической письменности, Ванька только на один лишний миг сощурил блеснувший удовольствием взгляд, как к нему тут же снова охотно вернулись полусонные грёзы его недавних приятных воспоминаний…
Ну таки вот, он вообще всё и всегда любил делать своими руками и не только рыболовные снасти, но и силки для дичи, охотничьи лыжи, манки, коньки, ёлочные игрушки, тёрки для дедулина нюхательного табака, всякого рода деревянные да глиняные свистульки, а также изношенные клапаны для даренной дедом гармонии и ещё очень многое что другое.
И за что бы он там ни брался, что бы он там ни делал: рубил, долбил, строгал, вырезал или даже просто писал, а любое самое несложное дело, любая нехитрая вещь выходили из-под его поистине золотых рук как-то особо лихо сработанные, как-то по-другому работавшие, однако ж почти всегда и везде с неизменным и конечно заслуженным успехом.
Самодельные рыболовные снасти всегда одаривали их с дедом богатым уловом даже в тех безнадёжных местах и в то время, когда пасовали даже самые заядлые рыболовы со всеми их дорогущими и шибко мудрёными заграничными рыбачествами да фордыбачествами.
Заячьи силки, птичьи манки и прочее охотничье снаряжение для мелкой лесной дичи тоже помогали им с дедушкой не только достойно переживать не самые простые их времена, но и довольно неплохо разнообразить благосклонный за то к ним стол господской усадьбы.
Тем не менее, к Ванькиным девяти годам для него в этой господской усадьбе не случилось никакой такой стоящей должности: ни приказчику сапоги почистить, ни заместо Федьки в подпаски пойтить, ни деду табак потереть, почему и отдали его в учение к Аляхину…
Кончать бы ужо давно надобно, – на редкость твердо порешил для себя Ванька, – Вон и звёздочки изрядно поблёкли, и за окном рассвело, а вскоре и ребята с нашего пансиона на утреннюю службу к Пресветлому лику Единого в лицейскую часовню потянутся.
И словно бы в подтверждение снуло ворочавшихся его мыслей, загудел за окном весело и басовито слегонца приглушённый двойными стеклами, зовущий к следующей смене гудок круглосуточно и каждодневно работавшей бумагодельной мануфактуры, принадлежавшей нескольким братьям из фабрикантской семьи Троесуевых, что из клана Юсуповых.
«И да не будет у тебя, у народа твоего, равно как и у прочих (народов) рун для исполнения магии, чародейства и волховства иных, кроме тех, что открыл тебе я!» – красиво окончил Ванька словами из третьего Откровения реферат, заданный ему на период зимних вакаций в какое-то не очень понятное нарушение как писаных, так и не писаных лицейских правил странно невзлюбившим его учителем основ общей магической артефакторики Беликовым.
Ванька сладко потянулся, сонно зевнул, наискосок перекрестя свой широко раззявленный рот, собрал с о стола все четыре исписанных с обеих сторон его убористым почерком, для пущего сбережения бумаги, листы черновика и вложил их в картонную папку, купленную им накануне за четыре копейки у одного ушлого вида несуна с мануфактур Троесуевых.
Подумав немного, он аккуратно перечеркнул пером отпечатанное на папке типографским способом «Дело №_» и написал выше: «Черновик реферата по основам общей магической артефакторики, ученика 1-го класса «б» императорского магического лицея № 2 города Москвы, высокоодарённого Жукова Ивана Макаровича».
Потом ещё раз почесал в затылке, ещё раз подумал, снова умакнул перо и прибавил туда, где ниже опять же типографским шрифтом было отпечатано» «Начато», вчерашнюю дату: «31 декабря 1885 года», после чего ещё ниже, где было напечатано «Окончено», с чистым сердцем приписал дату уже наступившего, слава богу Единому, дня: «1 января 1886 года».
Убаюканный тщетной надеждой на свободные от тяжёлых учебных забот вакации, полные весёлых ребячьих забав и просто никем не ограниченных бездумных гуляний аж до темна, он час спустя уже крепко спал.
Снилась Ваньке родная деревня, речка, лес, боярская усадьба Живаревых, господская ёлка в золочённых орешках Откровений Единого, Ольга Игнатьевна и та самая печь в людской, на которой, свесив босые ноги, сидит доктор Чехов, а по обе стороны от него сам Единый и обратно живой милый дедушка Константин Макарыч.
Весело похохатывая и балагуря с кухарками, Антон Палыч с выражением зачитывает всем Ванькин реферат по основам общей магической артефакторики под их незлобиво шумные и неразборчиво гомонящие матерки.
А у печи ходит туда-сюда его чёрный кобелёк Вьюн и таким же образом одетый по своему обыкновению во всё чёрное учитель основ общей магической артефакторики Беликов. Он восхищённо вертит чёрным-пречёрным зонтом, а Вьюн – не менее чернющим хвостом…
Глава первая, с которой также редко когда чего начинается, но всё-таки как-то начинается
По существу, речь идёт о перестройке. Да, я не оговорился : именно о перестройке.
Из доклада генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева к XXVI съезду КПСС
– Не-е-е, Виталь, не знаю, как тебе, а вот мне вон тот мужик в чёрном определённо не нравится! Ну явно на наш ксерокс нацелился. Чё морду-то свою царскую сразу кривишь? Как говорится, лучше перебздеть, чем недобдеть. Двадцать тыщ, как-никак! Случись чего, и нам с тобой полжизни придётся на трёх работах корячиться, дабы возместить эти бабки твоему долбанному НТТМу. Но это, правда, только в том сомнительном случае, если мы с тобой ещё и живыми останемся, в чём я лично глубоко сомневаюсь, – брюзжал, натужно пыхтя, восточного вида молодой брюнет среднего роста, тащивший на плече перевитую капроновым шпагатом объёмистую картонную коробку с какими-то ну очень красивыми, но ни хрена не понятными иному стороннему наблюдателю японскими буковками.
– Во-первых, Малик, – с жаром доказывал не столько своему собеседнику, сколько себе, такой же молодой, но светловолосый парень почти славянской наружности, – Не забывай про табачный дефицит, одной из жертв которого стал и тот мужик в чёрном костюме. Я ж приметил, какими глазами он смотрел на твои сигареты, когда ты решил устроить перекур ещё на перроне, а подойти и попросить мужик, скорее всего, постеснялся. Нет, чтобы тебе до нашего поезда дотерпеть! Во-вторых, рассуждая логически, морда у меня не царская, а очень даже вполне себе княжеская, потому как фамилие у меня, если ты помнишь, такое…
– Матроскин, что ли? – неуклюже попытался подшутить Малик, прекрасно помнивший паспортные данные друга, поскольку знал того ажно с третьего класса, начиная с которого они вместе и проучились все школьные годы, читая одни и те же книжки, отдаваясь одним и тем же поветриям, безответно бегая за одними и теми же прыщавыми одноклассницами.
– Князев! – укоризненно посмотрел тот на неотёсанного товарища, столь невежественно прервавшего логически выверенный доказательный процесс, – Помнишь ведь, меня одно время Князем и прозывали, когда в младших классах прозвища от фамилий производили?
– Так ведь и до сих пор кое-кто тебя так периодически называет, а ты ещё откликаешься. Не позволял бы ты им так фамильярничать. Тоже мне князь нашелся! – в очередной раз вклинился его бесцеремонный восточный друг, – Князь Мышкин типа, ага. Или этот ещё, ну, как там его, который типа Владимира Красного Солнышка был, кажется, да?
– Да хошь горшком пусть зовут, тока в печь не суют! – буркнул «князь», величественно обозревая многолюдный перрон Казанского вокзала в поисках посягателей на их ксерокс.
– Ну ты это, – запоздало повинился Малик, – продолжай там, что ли, про космические корабли, бороздящие просторы московских вокзалов, или что у тебя в-третьих припасено?
– В-третьих, – обречённо махнул на него рукою Виталий, – Долбанный-то он, может, и долбанный, этот говённый НТТМ, тут ты прав, но только он столько же мой, сколь и твой. Ты в Москву за его счет слетал? Слетал! Командировочные получал? Получал! Вот и сиди теперь, тьфу ты, то есть я хотел сказать, неси и помалкивай там себе в тряпочку, битюг ты гениальный наш монголо-татарский или какой там чи шо, но до сих пор необъезженный!
Не обладавший таким же подвешенным языком, Малик сердито засопел, перебросил ящик на другое плечо и зашевелил пухлыми своими губами, старательно проговаривая про себя наиболее подходящие, по его скромному мнению, варианты достойного мужского ответа.
– Русский я! – родил наконец-то сердито он, – Но только башкирского происхождения.
Откровенно сказать, идея небрежно называть себя русским башкирского происхождения у Малика возникла довольно давно, задолго до сей дружеской перебранки, но претворить её в жизнь после долгих и весьма нелёгких раздумий ему удалось наконец-то только теперь и только в ответ на вот этот сегодняшний довольно провокационный демарш Виталия.
Да, была в паспорте Малика графа о национальной принадлежности, согласно которой его надлежало относить к таинственным и загадочным башкирам, каковыми они и оставались для него и выросших вместе с ним на казахстанской целине четверых братьев, равно как и для других народов, населявших многонациональный Союз, поскольку для самих башкир, впрочем, как и не башкир, восприятие их собственных этносов формировали материнские колыбельные, бабушкины сказки, отцовские матерки, хорошие соседи, счастливые друзья.
Однако колыбельные его мама-педагог пела почему-то исключительно на русском языке, безвременно почивших бабушек с народными сказками он никогда не знал, отец пока их не оставил, матерился также почему-то только по-русски, а в друзьях-соседях числились мальчишки и девчонки, представлявшие чуть ли не всю многонациональную общность.
Тем не менее, благодаря не рекомендуемым перед обедом советским газетам, дефицитным книгам и лимитированным журналам, а также редким познавательным программам радио и телевидения, по крупицам и крохам собирал он те разрозненные сведения, которые, как он тогда полагал, помогли б обрести ему его долгожданную национальную идентичность.
Славным народом оказались эти башкиры, бившиеся вместе с другими народами России в Ливонскую и Крымскую войну 16века, против польских и шведских интервентов в начале 17 века, в Шведском и Азовском походах начала 18 века, в Семилетней войне с Пруссией, польскими конфедератами и в Шведской кампании конца 18 века, в Отечественной войне начала 19 века, в Крымской войне середины 19 века и в обеих мировых войнах 20 века…
Малик не понимал, кому и зачем было нужно дробить великую многомиллионную нацию на множество её мелких национальных составляющих, каждая из которых потом пыталась опять же непонятно для кого и зачем доказывать свою «незалежность» и «декабристость».
А ещё, его занимал вопрос, какие национальности указали бы в советских паспортах у великих русских поэтов Михаила Лермонтова и Фёдора Тютчева, у великих русских писателей Ивана Тургенева и Александра Куприна, у великого русского художника Ивана Айвазовского либо, опять же к примеру, величайшего русского математика Лобачевского?
Как бы то ни было, но абсолютное большинство Малика родных и знакомых не понимали занятую им позицию в национальном вопросе. Причём, как ни странно, не понимали даже и кое-кто из этнических русских, с пеной у рта отстаивавших необходимость рождения от русского отца-батюшки да такой-то матушки, на что он зачитывал любимого Северянина:
Москва вчера не понимала,
Но завтра, верь, поймёт Москва:
Родиться русским – слишком мало,
Чтоб русские иметь права…
И вспомнив душу предков, встанет,
От слова к делу перейдя,
И гнев в народных душах грянет,
Как гром живящего дождя.
И сломит гнёт, как гнёт ломала
Уже не раз повстанцев рать…
Родиться Русским – слишком мало:
Им надо быть, им надо стать!
Возвращаясь к оставленным на перроне молодым людям, было бы не лишним отметить, что они совершенно безосновательно проявляли свою нервозность, пряча её за подобными разговорами, ибо, по большому счёту, особых оснований для беспокойства у них не было.
Да, стоял уже, возбуждённый прокатившимися по стране табачными бунтами, пока ещё не очень холодный, а солнечный август девяностого года. Разворачивались выкопавшие свои кубышки первые коммерческие предприятия, меж делом вздымая со дна помимо кубышек и грязь из напёрсточников, лотерейщиков, молодёжных банд и откровенного рэкета.
Однако, с другой стороны, центры научно-технического творчества молодёжи или НТТМ, по заданию одного из которых в данный момент действовали молодые люди, доставляя из Москвы в целинно-бокситовый Аркалык копировальную технику, криминал относил к так называемым красным организациям, дистанцируясь от них, потому как они были завязаны на комсомол, то есть на партийную власть с подчинёнными ей силовыми структурами.
Всех этих достаточно тонких особенностей взаимодействия власти и криминала ребята в ту пору попросту не знали, а потому и вели себя соответственно до самой посадки в вагон.
– Постели-то будете брать? – деловито поинтересовалась у них необъятная проводница, чуть надрывая их крошечные картонные билетики с ажурной вязью ещё более крошечных компостерных дырочек и рассовывая всю эту «нанополиграфию» по кармашкам зелёного, то ли кирзового, то ли брезентового, а то может быть и вообще дерматинового кляссера.
– Я-то возьму, – с готовностью отозвался Виталий, – Трое суток как-никак ехать. А вот моему другу обычаи не позволяют спать на белых простынках. Ему положено в полосатые матрасы рядиться, уж такой у его народа обычай. Что поделаешь, дети гор… Уральских!!!
Название гор, недостойным дитём коих Малику стать так и не довелось, Виталий орал уже откуда-то из вагонного тамбура, куда и влетел щучкой, ловко уворачиваясь от дружеского подзатыльника своего физически чуть более развитого друга детства.
– Да не слушайте вы этого раздолбая, тащ проводник! – устало улыбнувшись, посетовал несостоявшийся уральский горец, кивая в сторону прохода и поднимая с перрона тяжелый ящик, – Пришлось по студенческой поре проехать с ним без копейки в кармане, так он до сих пор забыть про это не может и постоянно ностальгирует при каждом удобном случае.
– Бывает, – равнодушно согласилась многоопытная проводница, – Быстренько заходим в вагон, занимаем свои места и помним, что туалеты будут открыты только через тридцать минут после отправления! И тогда же и чаёк с газетками начнём разносить для желающих.
– Логично, – пробормотал Малик, решая довольно сложную транспортную задачу типа «Волк, коза и капуста» и пытаясь попеременно протиснуть в узкие проходы купейного вагона то вконец задолбавший ящик, то плечистую тушку, а то всё это вместе и разом.
– Выпил, украл, то есть, простите, посрал да подтёрся этой газетой. Сервис однако, блин!
Меж тем смеркалось и солнце клонилось к закату или на кой хрен там ещё, но уставшие за насыщенный событиями день ребята, не сговариваясь запихали «ксерокс», который, ясное дело, был не совсем даже «ксерокс», под нижнюю полку одного из полагавшихся им мест.
– Чур, здесь сплю я! – безапелляционно заявил Виталий, поспешно бросаясь грудью на захлопнувшуюся нижнюю полку словно на амбразуру, – А ты, Малик, если ночью кто ко мне вдруг полезет за хероксом, дашь тому какато-отоси-гери по черепушке, отомстишь за поруганную мою честь и по-геройски отстоишь нашу комсомольскую собственность!
Повёрнутый на каноне чести, как и большинство восточных мужчин, Малик был донельзя сконфужен её поминанием в таком контексте, а потому только молча согласился с другом, исполнившись вполне справедливой гордости за столь мужественное самопожертвование.
Заплатив проводнице по рублю и заполучив с неё по комплекту влажноватого постельного белья с парой-другой вполне привычных прорех и неизменным нечитаемым штампом, они отказались от ненавязчиво предложенного чая с газетами, застелили свои разноуровневые постельки и блаженно растянулись на них, кое-как вытянув натруженные за бесконечный, но весьма плодотворный командировочный день в отнюдь не резиновой Москве ноги.
– И боже вас сохрани, – пробурчал Виталий синхронно с его точно так же забурчавшим от голодного гастрита желудком, уже проваливаясь в глубины сна, – Не читайте до обеда советских газет! Что? Других у нашей проводницы нет? Но всё равно не читайте, хр-р-р…
– Да-да, доктор, – невпопад сонно поддакнул Малик, – Но главное, опасайтесь гулять у торфяных болот, а то ить эти ваши Баскервильские сучки уж такие затейницы, потому что как прыгнут! Хотя впрочем, какого хрена, если жрать-то у нас по-любому нечего, хр-р-р…
К слову сказать, никакого дежурного пищевого припаса в дорогу и даже той же банальной ряженки с колбасными бутербродами, молодые люди и в самом деле так и не удосужились закупить в привокзальном буфете за недостатком времени, с одной стороны, и временного недостатка свободных денежных средств, почти в чистую потраченных на столь любимую ими обоими всякого рода радиоэлектронную дребедень, с другой стороны.
Да как же можно было сдержаться вконец сголодавшимся по нормальной элементной базе радиолюбителям при виде того дефицитнейшего для их казахстанской целины непаянного материально-технического изобилия, которое предлагали им московские радиомагазины и конечно же периодически там и сям возникавшие стихийные радиорынки!
Дефицитнейшего – значит где-то в родной стране или за её пределами производимого, но по самым разным причинам почему-то отсутствующего в широкой или хотя бы доступной продаже как автомобильная и бытовая техника, мебель и сантехника, импортные одежда и обувь, пищевые деликатесы, туалетная бумага (тяжело без неё в деревне) и другие товары.
Непаянного – значит не выпаянного из какого-нибудь не обязательно старого, но обычно безнадёжно поломанного и абсолютно неремонтоспособного радиоприёмника, телевизора, электропроигрывателя или магнитофона, являвшихся основой ресурсной базы вторичного детального фонда для большинства советских радиолюбителей, проживавших достаточно далеко от признанных центров радиотехнической и электронной промышленности.
А потому, где же ещё как не в Москве с подмосковными Зеленоградом и Фрязино, как раз и представлявшими собой такие крупнейшие центры наряду с Ленинградом, Воронежем и Новосибирском, затариваться таки бедным казахским радиолюбителям? Да где, где, ну уж точно не в шахтёрской Караганде или в целинном Аркалыке, где подобных замечательных радиоэлектронных заводов с их фирменными магазинами отродясь никогда не бывало!
Хотя с другой стороны, справедливости ради следовало бы отметить, что кроме этих, безо всякого преувеличения, индустриальных гигантов в стране с разной степенью успешности работали и с полсотни более мелких отдельных заводов, производивших бытовую технику и электронику, а также сотни номерных безымянных заводов, выпускавших электронную технику военного, промышленного и военно-промышленного (?!) назначения.
Но несмотря на то, что к середине восьмидесятых годов Советский Союз вышел на первое место в мире по производству всех классов электронных приборов, на второе место (после США) – по производству военной электроники и на третье место (после США и Японии) – по общему объёму выпуска электронной продукции, качественных, недорогих и, самое главное, повсеместно доступных деталей радиолюбителям в стране всё равно не хватало.
Чуть выправить ситуацию помогали Центральная торговая база Посылторга и Московская межреспубликанская торговая контора Центросоюза, реализовывавшие радиодетали через посылочную торговлю, а также уже упоминавшиеся стихийные радиорынки, однако опять же, посылочному заказу нельзя было доверить ни сроки доставки, ни полноту исполнения, а радиобарахолки торговали далеко не в каждом советском городе и, уж тем более на селе.
Вот так и крутились самозваные радиолюбители, словно два бедных ужика на сковородке, постоянно каким-то чудом выкручиваясь при замене деталей на их аналоги или плотоядно и безнадёжно облизываясь на интереснейшие схемы в популярных технических журналах.
В этом месте, пожалуй, нужно было бы и чуть прояснить, что ребята подразумевали, когда не без апломба при спорах с другими ребятами или, к примеру, с напускной скромностью, при знакомствах с симпатичными девушками, называли себя «радиолюбителями».
Дело в том, что оба увлечённых техникой друга по окончании школы подавали документы на факультет электронной техники Новосибирского электротехнического института, но их пути затем временно разошлись, чтобы вновь сойтись только через несколько лет.
Относительно благополучно сдав физику с математикой, Виталий срезался на сочинении, переписав явно расстрельным почерком шпору с уже гарантированной отличной оценкой, после чего зело горячо возжелал продолжить своё образование в одном из новосибирских профтехучилищ, где и получил специальность слесаря-сборщика радиоаппаратуры.
Несомненным позитивом произошедшего, каковой Виталий находил всегда и во всём, для него явилась непревзойдённая лёгкость освоения учебного материала в выбранном ПТУ, а благодаря этому и масса получаемого им свободного времени, которое он, в свою очередь, тратил преимущественно на чтение любимой научно-фантастической литературы и, само собой, разгульную молодую жизнь в его далеко не ботаническом понимании.
В отличие от своего легкомысленного одноклассника, Малик успешно сдал все экзамены, так же успешно прошел конкурсный отбор, не менее успешно проучился аж до четвёртого курса, был привлечён к серьёзной научной теме на родной кафедре электронных приборов и довольно активно участвовал в работе студенческого научного общества.
Тем не менее, несмотря на привлекательные перспективы, сулившие заманчивую научную карьеру, многообещающий студент неожиданно не столь для окружающих, сколь для себя самого, вдруг, без каких бы то ни было объяснений уходит с четвертого курса после более чем успешной сдачи зимней сессии, будто какой-то герой аристократического Петербурга.
Бог весть, что здесь сыграло главную роль: то ли осознание того непреложного факта, что обучаться ему по выбранной специальности, собственно говоря, было уже больше нечему, то ли далеко не романтический аскетизм студенческого быта, то ли хронический дефицит той же наличности, но скорее всё это вместе и вкупе с набиравшей обороты будоражащей сознание Перестройкой, ну и самой наибанальнейшей человеческой усталостью.
Соответственно, Виталий в их тандеме чаще брал на себя маркетинговые функции и реже функции производства, а Малик, в силу присущей ему натуры, чаще склонялся к научно-исследовательской деятельности, что, впрочем, не исключало и их взаимоменяемости.
Будучи несколько более прагматичным, нежели его перманентно витавший в облаках друг «башкирского происхождения», Виталий всегда стремился извлечь обоюдную выгоду из любых более-менее полезных его начинаний, каковые, несмотря на всю идеалистическую натуру, у вечно летавшего в облаках Малика нет-нет да периодически материализовались.
В очередной раз помянув восточное происхождение Малика и его навязчивую до какой-то болезненной остроты национальную идею, можно было бы с облегчением констатировать полное отсутствие такого комплекса у его друга Виталия. Более того, рождённый русским в отчего-то украинском Донецке и росший в интернациональной целинной степи, Виталий частенько путал казахов с узбеками, белорусов с украинцами, а башкир с татарами.





