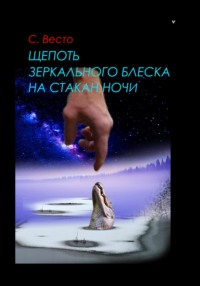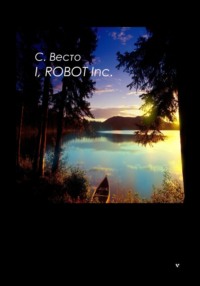Полная версия
Избранные проекты мира: строительство руин. Руководство для чайников. Книга 1
Ты в дороге становишься свидетелем какого-то редкого явления. Падает НЛО, зона военных действий, столкновение хищников в живой природе… Всё, что угодно. У тебя выбор: попытаться унести ноги, унести в своей памяти то, что видел, зная, что в состоянии стресса ты расплескаешь даже то немногое, что есть, – или сделать себе на телефон несколько снимков, с тем чтобы потом в более подходящей обстановке на их основе собрать сюжет для полотна, с тем чтобы донести до холста то, что ты чувствовал? Сделать остановку и сделать эскизы у тебя возможности нет – ты в зоне конфликта интересов. Так что ты выберешь?
Уровень профессионализма, сказал Юсо, как раз и определяет способность на основе жизненных переживаний и своей памяти создавать эскизы, а уже потом на их основе потрясать воображение человечества.
Абсолютно согласен, ответил я. Но мы не говорим об уровне профессионализма. Мы говорим о том, будет ли такая работа и ее конечный продукт искусством. Еще пример.
На основе случайных портретных снимков самых разных людей и самых разных настроений у себя на ноутбуке посредством пакета графических программ ты создаешь композицию. Она настолько кажется тебе необычной, что ты клянешься жизнь положить на то, чтобы воспроизвести ее на холсте. Тот же эскиз, но нормами живописи. Отмечаю особо: собрать ту же композицию посредством живых изображений и живых эскизов было бы крайне сложно и как минимум заняло бы несколько лет жизни…
У меня тоже вопрос, сказал Юсо.
Он был как никогда серьезен. Я знал, что это значило.
– Как бы ты отнесся к тому, если бы Микеланджело делал пресловутую улыбку Моны Лисы, пялясь в ноутбук?
Это была его манера вести поединок. Даже он знал, что Микеланджело не делал Мону Лису, и этим был очень опасен.
– У меня тоже вопрос, – сказал я. – Скажи мне, как ты думаешь, что бы делал Микеланджело, случись ему попасть в это время?
Юсо этот спор надоел. Он холодно смотрел, как Тур-Хайами улыбается ему самым неприятным образом, но сказал совсем не то, что я ждал.
– Старался бы не попадаться на глаза смерти, – со скукой произнес он. – И на все искусство миров и цивилизаций было бы ему наплевать…
Юсо, наконец, исчез под предлогом смены рабочей одежды, но я ему не дал бы так легко зализывать раны, только не при обвинении в жульничестве. Я знал одну вещь: тот, кто никогда не держал в руках карандаша, не способен оценить, до какой степени сложно и почти невозможно воспроизвести на холсте пресловутый намек на улыбку какой-то некрасивой тетки с мужским лицом. Впрочем, я не стеснялся маленького холодного мстительного удовольствия. Я хорошо знал, каким безжалостным мог быть оппонент, стоило только ему дать повиснуть у себя на горле. Но Юсо по крайней мере был прав в одном.
Перенося краски и плоть с ноутбука на холст рядом, они только тогда смогут оправдаться в глазах вечности, если в конечном счете ты сумеешь вогнать в них что-то свое. И если учесть, что любая нетвердая кисть, любое дрожание руки, любая некомпетентность на изображении спешит выдать себя за особый взгляд и уникальную манеру творения, то тема выглядит совсем безрадостной. Технология – это никакой не инструмент, а зло, и никакая честность творящего перед самим собой от нее не спасет.
Я передавал сюжет о множественности измерений вселенной, что лежала за окном, но Хуанита меня не слушал. Меня вообще в баре никто больше не слушал, словно я говорил с самим собой. Потом я понял, в чем дело. Он смотрел куда-то мимо меня и дальше, на улицу за окно. Я посмотрел, куда смотрел он, и мне тоже стало не до нашествия инопланетян и прочей философии. За большим стеклом, прижавшись к нему лицом и загородившись рукой от солнца, к нам внутрь бара пялилась светловолосая девица из тех, которые везде у себя дома.
У меня не было под рукой карандаша, но я уже в одну долю секунды видел до последних мелочей, как всё будет выглядеть на холсте. Морща носик и напряженно вглядываясь сюда, в полумраке аквариума девушка пыталась что-то разглядеть. Ей то ли что-то было нужно, то ли у нее манера была такая липнуть ко всем стеклам окон, только она выглядела какой-то не совсем в тему. Это трудно объяснить, просто детали соединяются сами собой. Когда начинаешь работать официантом, такие вещи учишься узнавать быстро. Она была гораздо моложе меня, скорее всего, отдыхала от родного университета на каникулах, но я уже точно знал, что сделаю всё, пойду на преступление, может, убью кого-нибудь, соберу все крупицы своей бесполезной провинциальной знаменитости и закутаюсь в них, чтобы затащить ее если не в койку, то хотя бы к себе домой посидеть перед этюдником. Я ни секунды не сомневался, что будь у меня возможность ее украсть и спрятать от остального скучного мира, я бы это сделал. Девушки липнут к любым отблескам знаменитости, это знали все, какими бы смущающе скромными те проблески ни выглядели, это у них в крови, и теперь я намерен был израсходовать и потерять их запас весь. Хуанита смотрел туда зря.
Девушка была из той крайне редкой категории, у которых все на месте, и она нисколько этого не стеснялась, но глядя на которую разговор о койке шел где-то далеко на задворках рассудка. Это было необычно. И для девиц такой категории, и вообще. Впрочем, для меня это было необычным тоже. Мой учитель кен-до не одобрял этого – ходить вокруг темы, осторожно приближаясь к сути: он требовал такой же четкости мысли, как и законченности хорошо поставленного удара. И я не одобрял тоже. Но здесь всё теперь выглядело непросто. Времени больше не существовало. Потом я, кажется, наконец, нашел, в чем дело. Она была не для койки. Но вот то, что касается всего остального – полное и безоговорочное пожалуйста. Включая хмурые опасные горы, скалолазание, миры из тех, что снаружи, и те, что под водой, включая всемирные катастрофы, цунами, конец мира и другие явления природы. Да, подумал я. Конец мира я хотел бы встретить только с ней. Кто-то сказал, что радоваться жизни нужно с женщиной, которая хороша в койке. Выбирать в жены только ту, с которой хотел бы встретить конец мира. Это была самая настоящая жемчужина редких генов и чего-то еще, что там еще бывает, которая сама собой становится украшением человеческой расы даже вне зависимости от того, какой подвиг она в последующей своей жизни совершит, какую книгу напишет и какую теорию относительности создаст. Все это успело пройти и преодолеть парсеки моего сознания за долю секунды, и они были только общим планом. «Женщина – это сосуд, который мужчина наполняет тоской по своему идеалу». Не помню, кто это сказал, но если это был Гёте, я нисколько не сомневался, что, говоря это, он говорил про самого себя. Лишь свой собственный опыт в данной области мог сподвигнуть особь такого масштаба на приговор вроде этого. Если даже носители разума таких высот могут глядеть на тот же вопрос, лишь заламывая в отчаянии руки, то прочему человечеству остается только становиться философами. Конечно, вся мужская половина того же человечества – ослы в том ключе, что, видя красивую девушку как улыбку природы, ни минуты не сомневаются, что подобное произведение не может не быть столь же прекрасным внутри, как и снаружи. И все, абсолютно все попадаются на одни и те же грабли. Но я знал вот какую вещь.
По моим наблюдениям, женщина – сама по природе нечто аморфное и бесформенное. И она сама воспринимает мужчину как ту долгожданную форму, которую она готова принять, если мужчина того от нее ждет. Именно тут спрятано то изумляющее любого естествоиспытателя, ставящее в тупик патологическое стремление женской особи к замужеству. Здесь здравый смысл встает перед необходимостью подтянуть все чресла. Мне самому понадобилось время, чтобы поверить в то, на чем настаивали повадки окружающей среды.
Она не чувствует себя полноценной, пока не станет чьей-то собственностью.
Я не говорю об олимпийских медалистках и прочем расстройстве сознания, которых с детства натаскивают на конкретно одну-единственную цель и одну-единственную форму и из которых можно делать гвозди – я про обычный контингент самок. Эта сука, простят меня боги, даже не была накрашена. Все мои бывшие девушки знали, что я не любил накрашенных девушек, но тут было другое. Прикоснуться к этим чертам карандашом и чем там они делают это еще – значило испортить замысел природы. Вряд ли она это знала. И только это делало её не такой, как все.
Ей это просто было не нужно.
– Хэлло-оу-у? – донесся до меня откуда-то с другого конца галактики издевательский голос Тур-Хайами. Он ткнул меня локтем в бок, и весь мой настрой глубокого художника рухнул с небес в преисподнюю. – Со мной тоже поделитесь, что вы там все увидели?
Его похабные глаза смотрели, как разглядывают свежий разворот в непристойном журнале. Ну что за скотина, честное слово. Он вновь надругался над интимными моментами перерождения банальной обыденности в шедевр, ему, скотине, недоступные.
– Шел бы ты, знаешь… – сказал я. – У тебя никакого уважения к восприятию творца. Я, может, как раз был в преддверии шедевра.
– Человечество мне не простит, – охотно поддержал он. – У него все мысли только о вас.
Тур-Хайами бесстыдно улыбался, глядя за окно.
– Нет, отец, трахнуть это не получится, вернись в реальность. Даже не думай. Не сегодня и не сейчас. Вначале нужно подготовить к употреблению, соблюсти видовое поведение, купить что-нибудь исключительно дорогое… В общем, долгая история.
– Свинья ты, – сказал я с упреком. – В необидном, функциональном смысле. Поедаешь упавшие желуди, которые в будущем могли бы стать могучим растением. Ешь свою печеньку.
– Я не свинья, – ответил Тур-Хайами. – Не знаю, про какие желуди ты рассказываешь, я – божественная сущность Хумай, тени которой никогда не бывает много. Так я ведь не против. Растите себе куда хотите. У вас у художников так все отвисло, что я испугался, может, случилось что-нибудь.
Пока мы с Хуанитой набирали в грудь побольше воздуха, подбирая наиболее достойный, отвечающий моменту ответ безграмотной ремарке аборигена, приперся Юсо, еще один апологет крепкого здорового отдыха.
– Мы пойдем сегодня на пляж? – осведомился он, ловко поднимая на поднос чашечки со льдом.
– Да ну, – сморщился я. – Опять лежать в горизонтальном положении. Сколько можно.
– Мы положим тебя в положение какое-нибудь другое, и все останутся довольны, – терпеливо предложил он. – Ну не ломайся, что мы там будем делать одни.
– Я вот о чем подумал, – сказал я. – О том, как она станет бабушкой. И ничего от того, что есть сейчас, не останется. Ни следа. Ягода свежа и прекрасна, как утро. Но вспоминая о том, что будет, я делаюсь весь расстроенный. Это несправедливо.
– Ты больной извращенец, – сказал Тур-Хайями. – Пробуй ягодки, пока свежи. И не порти их своей философией.
Я показал всем на него ладонью, чтобы все наконец увидели, подробно рассмотрели и оценили размеры того, с чем мне приходится работать.
– Вот. Вот об том и речь. Все хорошо, пока не приходит циник и не начинает всем рассказывать о своей похабной философии циника.
– Нет, почему, – отозвался Юсо, не переставая расставлять чашечки, – это интересно. И в чем мораль?
– Не знаю, – ответил я. – Ищем в ягодах.
Хуанита тоже был хорош. Нет, чтобы поддержать. Когда не надо, он мастер сыпать мудростью своих мертвых предков.
И он поддержал.
– Как хорошо все было, – произнес он со страдающим выражением. – Летнее утро. Синее небо. Но вот в окно заглядывает женщина – и жизнь остановилась.
– Я давно предлагаю его занавесить, – согласился Юсо.
– Как вы думаете, у нее есть недостатки? – спросил я.
Все озадаченно замолкли. Все молчали так долго, что я сказал:
– По-моему, это главный вопрос. Я давно заметил за собой манеру, которой не видел больше не у кого. В отличие от всех, кого я когда-либо знал, красивую девушку я непроизвольно начинаю оценивать не по ее достоинствам, а по отсутствию недостатков. Все-таки быть художником – это что-то вроде проклятья. Уже не можешь остановиться. Ты механически начинаешь за природу дорабатывать эскиз, который та бросила, не потрудившись довести до конца. Кончается тем, что берешься рисовать только красивых. А это уже далеко от искусства.
– И как? – спросил Тур-Хайями. – Много успел встретить совершенных эскизов?
– Ни одного, – ответил я. – В этом и проблема. Так не бывает. Совершенных нет, у каждого есть свое уязвимое место. У Ахиллеса это его самомнение, у поголовно всех остальных смертных – это фальшивая гордость, она же тщеславие. Так не бывает – но было. В древности была такая калокагатия, целая философская система, определяющая предел совершенства, но не в теории, поболтали и забыли, а в реальной жизни. Заключалась в искусстве быть молодцом, как внутри, так и снаружи. Правда, на женщин та философия не распространялась. Наверное, каждый имел опыт общения с красивыми пустыми куклами.
Тур-Хайами тихо ужаснулся, прикрывая губы пальцами:
– Неужели у тебя тоже есть уязвимое место?
– Конечно, – ответил я. – Сносит крышу, когда мной пытаются тайно манипулировать. Причем когда делают то же самое явно – никаких проблем. Наверное, так или иначе это касается всех баб. Они как бы подталкивают тебя к решению, как им кажется, незаметно, а ты смотришь и думаешь, что это не исправить.
– Явное манипулирование – это уже не манипулирование, – сказал Тур-Хайами. – Не бывает. Оксиморон. Вопрос терминологии.
– А я воды боюсь, – заявил Хуанита. – Не выношу, когда она капает. Просто сносит крышу. Вместе с фундаментом.
Все замолчали, представляя, как он с этим живет.
– Да, – злобно встрял хозяин, проходя мимо, – давайте все поговорим сейчас о терминологии. Когда там на кухне лед тает…
Но мы посмотрели на него так, что хозяин исчез делать что-то со льдом, который тает, самому. У нас оставалась еще семь минут свободного времени, и по закону не существовало такого природного катаклизма и глобального таяния ледников, которые могли бы сдвинуть нас с места.
– По поводу ягод, – сказал я. – Боюсь, весь трагизм момента прошел мимо сознания присутствующих. Как и вся мудрость природы. Видимо, любая философия требует пояснений. Друзья мои, в том глас здравого смысла, и попробуйте его опровергнуть. Ягоды хороши лишь до тех пор, пока они юны и свежи. Влечение к старым женщинам не только неестественно – оно противоестественно. Возмущение стареющих женщин в этом вопросе целиком в сфере их ревности. Их возмущение насчет мужчин, готовых забраться под юбку юным красоткам, едва достигшим восемнадцати лет, полностью понятно, но речь сейчас не о них. Сейчас мы говорим только о ягодах – юных, милых и свежих. Любовь к старым ягодам попросту опасна для жизни. Но вот почему это именно так – объяснить в двух словах не получится и нужна отдельная очень специальная статья. Я скажу вот какую вещь, и слушайте ее внимательно, в том мудрость тысячелетий развития целого разумного вида.
У растений есть одна способность – вырабатывать яд синильную кислоту. Так вот, синильную кислоту содержат старые и увядшие сливы, персики, а также ягоды: ежевика, малина, вишня. Боюсь показаться пошлым, но любая другая философия в этом вопросе будет просто извращением. Психоанализ в этом вопросе, мои собратья по разуму, имеет траурный вид. Ягоды хороши свежими, но некоторые лучше не трогать совсем. Они хороши лишь до тех пор, пока свежи. Потом начинают вырабатывать яд.
– Вы все больные извращенцы, – заявил вдруг Юсо решительно, до которого дошло, о чем речь. – И как я вас терплю.
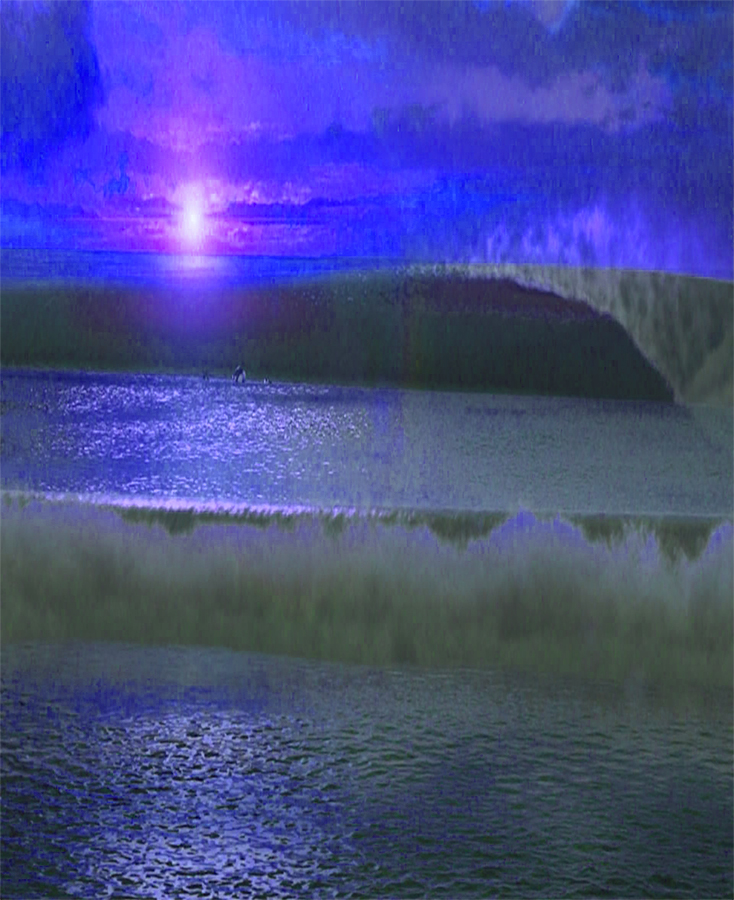
Я толкнул рукой под столом бедро Юсо, другой со скукой подпирая подбородок.
Мы сидели на свежем воздухе в тени за столиком для персонала, и я легко и с удовольствием представлял, как в это время Хуанита от ненависти бьет на кухне посуду. Продолжая ранее утром поднятую тему о скоротечности жизни, я со скромным мужеством передал пару поучительных анекдотов из собственного жизненного опыта, и они имели неожиданный успех. Впрочем, рассказывать я умел.
– Кстати, это – наша местная знаменитость, – сделал наконец Юсо жест доброй воли, вспомнив о деле. Перестав пялиться на нашу новую знакомую, он повернулся ко мне, как разворачивают орудийную турель. Прежнее мое легкомысленное настроение стало понемногу улетучиваться. Я уже жалел, что обещал ему продать себя в рабство до конца жизни. – Вы знаете, мы все обязаны лишь случаю, что он сегодня с нами. Потом, где-то в отдаленном будущем, когда мы все станем бабушками и больше не будем бегать за ягодами, мы будем вспоминать вот этот самый уголок вселенной и вот этот самый день во всех подробностях, добавляя новые детали и рассказывая внукам кто что тогда пил и где сидел.
– Он шутит, – сказал я скромно. Я улыбнулся. – Если мы и будем вспоминать этот день, то только из-за вас. Вы украшение этого утра. Я даже вас нарисую…
– А вы знаете, – вовремя встрял Юсо. – Он спрыгнул тут на днях в воду с обрыва и едва не разбился. Теперь туда не подойти: доступ всем строго закрыт.
На Сидни это не произвело никакого впечатления. Вообще-то едва не разбился не один я, а еще куча местных сопляков. Высоты и глубины там хватало ровно настолько, чтобы вовремя увернуться от плоских камней дна, практически касаясь их грудью и тут же уходя вверх. Не такой уж большой подвиг, если не спать и намеренно не таранить дно головой. Но реальную, настоящую опасность создавали натянутые поперек обрыва провода наклонного ограждения сразу за краем, которые как бы и были призваны удержать всех нас от такого рода подвигов. Мы преодолевали их с разбега в прыжке, расправив в стороны руки, и стоило кому-то задеть за них ногой или просто оступиться на узком парапете, последствия могли быть действительно серьезными. А так все обошлось разбитыми носами и следами ушибов на груди и коленях. Впрочем, в том была даже своя прелесть.
Охранное ведомство взяло ситуацию под свой контроль, заменив натянутый провод на кольца режущих заграждений и сделав прежние буквы предостережения еще крупнее, ясно дав понять, что будет с теми, кто их не разглядит и в этот раз. На всем островном Побережье здесь имел место какой-то особенно низкий процент травматизма с летальным исходом, администрация планировала сохранить его в том же самом виде и была намерена сделать это любой ценой.
– И он в самом деле рисует. Я не специалист, но задуматься есть над чем. Абстрактная живопись не по моей части, так что мнения расходятся. Кстати, можете сами оценить: обложки ко всем своим книгам он делает сам. Но вот то, что касается эскизов, сходство бесспорное, – невозмутимо продолжал Юсо. – Всех девушек он вначале рисует, потом трахает, причем всегда строго в такой последовательности…
– И как знаменитость пришла к мысли попробовать себя в роли официанта? – прервала его Сидни. В глазах у нее не светилось ничего, кроме любопытства.
– Это долгая история, – ответил я. Я не скромничал, история своими подробностями могла утомить заврорнитоида. Как нелегальному иммигранту, мне не стоило широко открывать рот.
Юсо протянул руку, взял со стола пустую бутылку из-под лимонада, заглянул на дно, подул и, поднеся горлышко к губам, сухо представился:
– Радио «Горячий Песок». Наши слушатели хотят знать, как вы относитесь к знаменитости.
Я удобно сидел и не собирался в своей позе ничего менять. Юсо смотрел. Тур-Хайями смотрел. И Сидни смотрела тоже.
– Так не пойдет, – сказал я. – Нужна камера. Нет камеры – нет знаменитости.
– Есть камера, – сказал Юсо.
– Где? – спросил я.
Он показал, где.
Я неохотно поднялся. Я понятия не имел, как я относился к знаменитости. Вопрос требовал времени. Он также требовал значительности. Между тем все ждали. Я ненавидел, когда Юсо застигал меня врасплох. Он это знал.
Я встал так, чтобы меня было удобно видно. Чтобы голос звучал значительно, нужна правильная осанка. Тут торопиться нельзя. А в самом деле, как должен относиться к знаменитости человек, понятия не имеющий, что это такое?
– Вам там меня хорошо видно? – спросил я. Голос звучал негромко и внушительно, как надо. Я всегда думал, что чем громче рот, тем меньше стоит в него смотреть. – Чудно. Потому что у вас редкая возможность видеть мое появление в свет. – Я неспешно повернул лицо к бутылке. – Не знаю, о какой знаменитости вы говорите. В моем представлении, знаменитость – это когда ты входишь в холл отеля, и девушки начинают визжать, тряся ладошками и суча коленками. Знаменитость – это когда в тебя со всех сторон швыряют трусиками и пачками денег, стараясь попасть побольнее. Знаменитость – это когда ты просыпаешься утром в поту, и первое, что делаешь, это мысленно прокладываешь запасные пути отхода…
Сидни, откинувшись назад, уже откровенно хохотала, показывая жемчужные зубки. Я вдруг понял, что она была из тех, кому нужно совсем немного, чтобы сойти со стапелей и природа которых только ждала повода, чтобы начать хохотать, откидываясь, обнажая зубы и не оборачиваясь на последствия. Это был результат воображения, слетающего с нарезки. До сих пор я знал только одного из этого рода существ, пугающих окружение. Себя самого.
Юсо смотрел хмуро и исподлобья.
– Вы никогда не думали стать актером?
Я был очень серьезен.
– Актером? Это чтобы целовать красивых девушек и получать за это большие деньги? Никогда.
С высоты своего положения я видел, насколько мало заботили Юсо мои запасные пути отхода. Пришел хозяин со стаканом в руке и, прикладывая салфетку к лысине, стал утомленно разглядывать залитый солнцем пустой белый песок побережья.
– Пока вы тут валяете бревно, – сказал он с упреком, – мы теряем клиентов. Уволю я вас всех, – печально сообщил он. – Уволю и сам буду разносить тарелки.
Хозяин ушел.
– Он уволит? – спросил я. Я появился здесь позже всех и такая информация могла быть полезной.
Юсо поморщился.
– Я слышу это, сколько сижу здесь.
Он махнул рукой.
Я его понимал. Юсо нужно было целиком менять русло жизни. Но сам он ничего менять не станет. Нужен был внешний толчок.
Сидни улыбнулась. Просто так. Она явно любила и привыкла улыбаться – без всякого повода и без всякой задней мысли. Да, улыбаться ей стоило чаще. Я мысленно покачал головой. Ей это шло. Мисс Улыбка. Интересно, подумал я рассеянно, здесь где-нибудь проводился конкурс на звание «Мисс Улыбка»? Наверное, что-то такое было, здесь чего только не проводили. Разве только не было конкурса на звание диктатора. И то только потому, что всех застрелили.
Я уже снова готовился упасть на дно отчаяния. Делать комплименты девушкам я любил и умел, но не таким красивым. Я просто говорил, что думал и что видел, девушки таяли, я обычно улыбался. Это было нетрудно. Когда говорить нечего, я держал рот закрытым. Это делать еще легче. Говорить правду легко и приятно, и именно поэтому я не мог говорить комплименты девушкам прочим. Считая себя художником, пусть и любителем, я не то чтобы относил такое искусство к предмету своего долга, но, по сути, в каждом объекте с глубины всегда можно достать что-то, достойное карандаша. В том и состояло отличие великого натурщика и великого живописца. По крайней мере, я так думал. Я не был великим живописцем и даже никогда не претендовал. Мне просто было приятно прикоснуться карандашом к тому, над чем уже раньше в приподнятом настроении поработала природа. Не больше.
Конечно, это тоже было вранье, первый и последний инструмент всякого художника. Я ни минуты не сомневался, что карандаш служил именно тем орудием овладения образа услады глаз, который древнее доисторическое мышление должно было относить к категории магических.
Я не раз и не два задумывался, почему так. Юная дамочка, согласившаяся быть прикосновенной кистью художника или его карандашом в рамки холста, уже гораздо легче готова раздвинуть в стороны прелестные ножки. Дело в том, что где-то там на подсознательном уровне она уже знает, что ею овладели. Конечно, я этим пользовался, почему нет. По всему, мое не знающее стыда подсознательное видело то же, что и они. И по этой причине я рисовал совсем немногих. Нет ничего проще уложить в койку девицу, оставшуюся со мной один на один. Конечно, если оставить в стороне ту часть девушек, которые сами прилагали все усилия, чтобы оказаться со мной один на один, почти все играли один и тот же этап недоступности, призванный наглядно убедить в том, что они, конечно же, в этой вселенной представляют собой совершенно уникальный, исключительный случай. «Я не такая, как все». И всё, что с моей стороны требовалось, это всего лишь всячески поддержать ее в этом мнении. Манипулировать сознанием сидевших передо мной прелестниц получалось у меня настолько легко и до такой степени естественно, что временами эта естественность озадачивала меня самого. Не могла устоять ни одна. Я становился другим. Много позднее я вроде бы понял, в чем дело. Причина казалась в моей повышенной восприимчивости. Аномальная сензитивность, граничившая едва ли не с патологией аутизма, всегда кристально точно высвечивала то, что лежало на дне совсем неглубокого явления мне прекрасного образа. Я был более чем неприятно удивлен, однажды обнаружив, что уровень моей эмпатии вовсе не являлся нормой этого мира. И между тем ни у кого не повернулся бы язык назвать меня бабником. Впрочем, меня это не касалось.