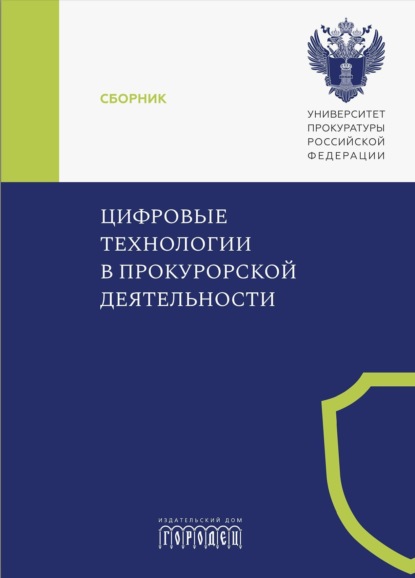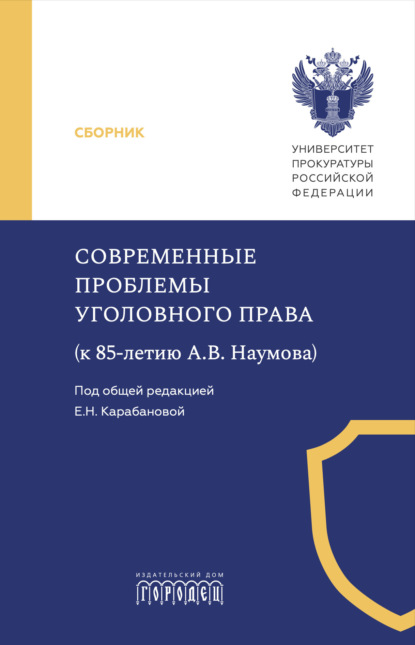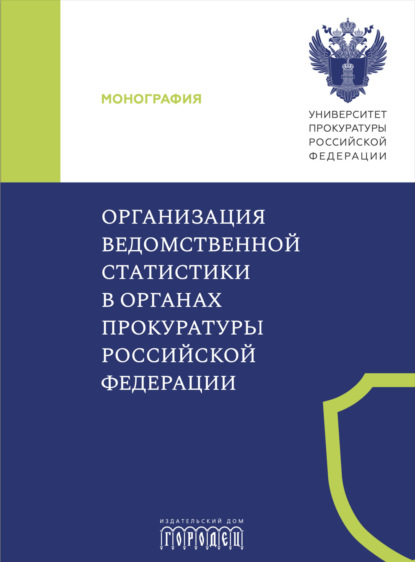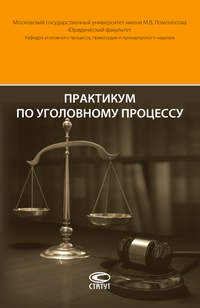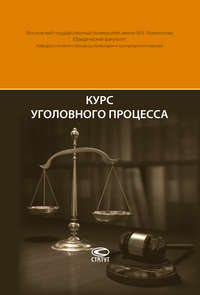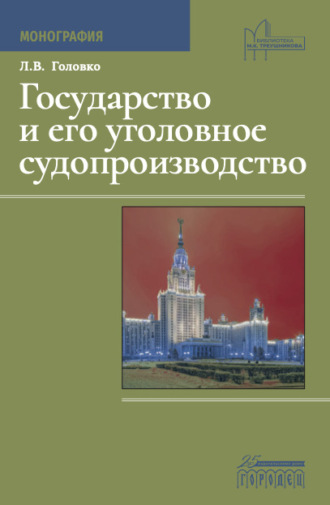
Полная версия
Государство и его уголовное судопроизводство
Ситуация полной «выключенности» второго элемента (импортирующего государства), когда он не обладает никакой политической субъектностью, также встречается, но связана либо с фактической утратой суверенитета и сохранением лишь формальной оболочки государства168, либо с какими-то экстраординарными историческими событиями, скажем, оккупацией одного государства другим (или несколькими). Здесь мы сталкиваемся уже с крайней формой вмешательства в построение уголовного судопроизводства со стороны иностранных государств. Такие случаи истории уголовно-процессуального права также известны. Например, после поражения Германии во Второй мировой войне к лету 1945 г. «все немецкие органы власти были распущены или приостановлены, осуществление в Германии власти и управление ею взяли на себя союзники»169. Только в 1946–1947 гг. начинают восстанавливаться местные немецкие власти, в частности, реорганизуются земли (länder), у них появляются выборные и исполнительные органы. С учетом этого и вынося за скобки автономизацию советской оккупационной зоны с созданием ГДР, одновременно с принятием на основе Вашингтонских соглашений от 6–8 апреля 1949 г. решения об учреждении ФРГ коалиция западных оккупационных держав (США, Великобритания и Франция) утверждает единый оккупационный Статут для всех трех западных зон. Разработанный в конце 1948 г. проект Статута предполагал даже разграничить судебную и уголовно-процессуальную компетенцию между союзными и немецкими властями (ст. 5). Однако в принятый в апреле 1949 г. окончательный текст Статута170 данные нормы не вошли – здесь содержится много более общая формулировка, предполагающая, чтобы «немецкий народ мог управлять собой сам в той максимальной степени, которая совместима с режимом оккупации». Это положение назвали в литературе того времени «презумпцией компетенции немецких властей», применяемой, если иное не установлено Статутом171. В Статуте, в частности, предусматривалось, что за оккупационными властями сохраняется контроль за исполнением наказаний, назначаемых действующими на территории ФРГ судами оккупационных государств, т. е. речь шла о некоем юрисдикционном дуализме, в том числе в уголовно-процессуальной сфере. Помимо того, ст. 6 Статута требовала, чтобы в ФРГ «были обеспечены индивидуальные свободы немецких граждан. Любые произвольные аресты, выемки и обыски запрещены. Провозглашено право на помощь адвоката, а также по возможности право на временную свободу (при применении мер пресечения. – Л.Г.), однако с тем условием, чтобы это не вступало в противоречие с обеспечением безопасности оккупационных властей»172. Некоторые немецкие юристы были столь обеспокоены неопределенностью ст. 6 Статута, которая должна была действовать одновременно с Конституцией ФРГ 1949 г., что даже предлагали просто включить в Статут текст Всеобщей декларации прав человека 1948 г.173
Ясно, что уголовно-процессуальное право ФРГ того периода по понятным историческим причинам невозможно оценивать с точки зрения классических доктрин государственного суверенитета. Странно обсуждать и вопрос об иностранном вмешательстве, поскольку оно было не только очевидно, но и полностью институционализировано. Сложнее обстоит дело с проблемой «выхода» ФРГ из-под действия Статута и Вашингтонских соглашений 1949 г. в целом, который являлся «мягким», постепенным, сугубо политическим (сопряженным с развитием современной немецкой политической системы и ее созреванием), но никогда не приобретал строгих юридических форм. В этом смысле все усилия немецкой уголовно-процессуальной доктрины были, как представляется, в течение десятилетий направлены на взятие под полный контроль собственного уголовного судопроизводства, т. е. переход от «дуализма» к уголовно-процессуальному «монизму» и вывод «оккупационной» составляющей (иностранные военные базы, репарации и т. п.) за пределы уголовно-процессуального дискурса. Думается, что при всех сложностях ей это удалось. Впрочем, некоторые зарубежные исследователи до сих пор видят во многих немецких реформах, в частности, в известной «большой реформе» уголовного процесса 1974 г., упразднившей в Германии предварительное следствие, «англосаксонское влияние»174, видимо, так до конца и не веря в способность уголовно-процессуального права данного государства полностью выйти из-под «режима оккупации», хотя никакими объективными сведениями это утверждение не подтверждается – реформа 1974 г. выглядит, скорее, как результат естественного развития германской уголовно-процессуальной истории175. Как бы то ни было, нет сомнений, что если какое-то влияние и имело место, то оно ничем не отличается об общего влияния права США на современные европейские уголовно-процессуальные системы и вряд ли выводимо из той сложнейшей и беспрецедентной ситуации, с которой германский уголовный процесс столкнулся в конце 1940-х годов, преодолевая нацистский политический и правовой режим. Последний эпизод интересен для нас здесь скорее в иллюстративном смысле.
Итак, классическая ситуация, когда иностранное влияние имеет исключительно сравнительно-правовой смысл, понятна. Понятны и крайности, связанные с определенными историческими катаклизмами. Однако в последние 30 лет возник новейший феномен, который становится все более и более распространенным и в рамках которого активизированы оба элемента обозначенной ранее схемы. Иначе говоря, речь в данном случае не идет о какой-либо оккупации или формальной утрате суверенитета, но не идет она и о рассмотрении иностранного уголовно-процессуального порядка исключительно по инициативе проявляющего к нему внимание государства, когда иностранный уголовно-процессуальный порядок выступает как объект созерцания, анализа, апологетики или критики, но без малейшей активности стоящего за данным правопорядком государства. Сегодня это уже не так: уголовно-процессуальная система выступает как важный инструмент «мягкой силы» (внешней правовой политики), в силу чего экспортирующее государство проявляет в его продвижении едва ли не большую заинтересованность, нежели государство импортирующее, поскольку последнее часто вынуждено его рассматривать безотносительно к своим потребностям, интересам, логике своей уголовно-процессуальной системы. В результате вместо сравнительного уголовно-процессуального правоведения мы получаем скорее навязчивый уголовно-процессуальный «маркетинг»176, когда продавец пытается всеми силами навязать вам товар, в котором вы не только не нуждаетесь, но который ко всему прочему может нанести вам немалый вред. Понятно также, что для маркетингового продвижения уголовно-процессуального «товара» чаще всего используются политические и ценностные лозунги (совершенствование, повышение эффективности, защита прав человека, демократизация, помощь в установлении верховенства права), которые сами по себе никто не ставит под сомнение, но которые часто давно уже утратили изначальный смысл. Приведем несколько характерных примеров такого рода иностранного вмешательства, рассматривая их в качестве типичной иллюстрации активного навязывания одними государствами своих уголовно-процессуальных институтов другим государствам, что стало одной из констант современного уголовно-процессуального развития.
Безусловным лидером активного вмешательства в организацию другими государствами своего уголовного судопроизводства являются США. Иногда они действуют в одиночку, иногда – в коалиции с другими западными странами (главным образом, европейскими), а иногда – даже в определенной конкуренции с ними. Например, в Грузии, по данным известного специалиста профессора Р. Воглера177, «интенсивное соперничество между германскими178 и другими континентальными агентствами по проведению реформ, с одной стороны, и агентствами англо-американскими179, с другой стороны, обусловило поляризацию местных неправительственных организаций. В то время как до “революции роз” 2003 г. повестка дня реформирования и работа правительственных комиссий по подготовке нового Уголовно-процессуального кодекса продвигались экспертами, представлявшими Германию и Совет Европы, которые боролись за франко-германские варианты уголовного процесса, основанные на подходах французского Кодекса уголовного следствия, после указанной даты инициатива перешла к новой группе деятелей, вдохновлявшихся уже англо-американской уголовно-процессуальной моделью, чью поддержку осуществляли агентства из США и Великобритании»180. Результатом, как известно, стало принятие в рамках так называемой второй волны постсоветских уголовно-процессуальных кодификаций181 нового УПК Грузии 2009 г. – второго УПК этой страны за постсоветский период ее истории, полностью слепленного по американским лекалам. Роль национального законодателя при его подготовке была крайне незначительна.
Было бы неверно полагать, что такого рода иностранное вмешательство в построение уголовного судопроизводства суверенных государств со стороны прежде всего США и иных ведущих западных держав коснулось только небольших и небогатых постсоветских и постсоциалистических стран, испытывающих трудности с переходом от одной политико-экономической системы к другой (Грузия, Албания и т. п.). На самом деле, в последние три десятилетия оно приобрело глобальный характер, охватив целые континенты: Европу, Азию, Южную и Центральную Америку. Если говорить о латиноамериканской уголовно-процессуальной революции, т. е. принятии подавляющим большинством государств Латинской Америки новых УПК, знаменующих декларирование отказа от континентальной традиции и попытку имплементации традиции англо-американского толка182, причем революции, которая стала уже, пожалуй, перманентной, то вопреки симпатичному мнению о ее возникновении и развитии «с периферии»183, иначе говоря, о якобы самостоятельном уголовно-процессуальном творчестве масс, более прозаическая реальность показывает, что это «творчество» оказалось столь стремительным и неплохо скоординированным, поскольку происходило «под сильным давлением со стороны США и Западной Европы»184. Здесь западноевропейские континентальные страны с США отнюдь не конкурировали, хотя речь шла, по сути, об отказе от их же модели уголовного процесса.
В Китае, чей государственный суверенитет является сегодня едва ли не максимальным (исключая США), именно в правовой, в том числе уголовно-процессуальной, сфере он выглядит наименее устойчивым, так как вмешательство США в организацию китайского уголовного судопроизводства отрицать невозможно. Если не вдаваться в детали, то еще в 1994 г. президент США Б. Клинтон произнес знаменитую речь, где поставил цель «оказывать поддержку прилагаемым в Китае усилиям по продвижению верховенства права, в частности, усилиям по проведению правовых реформ, специально ориентированных на недопущение нарушения прав человека»185. В 1996 г. в рамках Государственного департамента США создается отдельная должность «специального координатора по глобальному верховенству права» (Special Coordinator for Global Rule of Law), на которую назначается профессор Йельского университета Пол Гевирти, чья деятельность на 90 % оказывается направлена на Китай186. Чуть позже, в 1997–1998 гг., администрация Б. Клинтона объявляет об учреждении «Инициативы по верховенству права в Китае» (China Rule of Law Initiative) – структуры «мягкого права», позволившей создать точки влияния американского права на китайское187. В целом такое влияние на Китай не только США, но и других западных стран признается весьма «значительным», причем «решающую роль» оно начало играть в 2001 г., когда открылась активная фаза переговоров по вступлению Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО)188. Ясно, что многие проводимые в Китае уголовно-процессуальные реформы, включая Закон от 14 марта 2012 г., реформировавший уголовное судопроизводство этой страны в умеренно, но откровенно прозападном духе189, не могут быть объяснены без всей той инфраструктуры влияния, которая создавалась с 1990-х годов. Другое дело, что Китай, в отличие от многих иных стран, не был и не является легким партнером для вмешательства в свое уголовное судопроизводство. В данном случае очень упорным, сложным и оказывающим сопротивление остается элемент «импортирующего государства», если вспомнить нашу схему, что требует колоссальных усилий и высочайшей активности от «экспортирующего элемента» (в данном случае США) при неизменной компромиссности достигаемых результатов, связанной с трудным взаимодействием обоих элементов.
В Европе наиболее известна в интересующем нас направлении деятельность в рамках созданного в 1990 г. и финансировавшегося правительством США проекта Центрально- и Восточноевропейская правовая инициатива Американской ассоциации юристов (American Bar Association’s Central Eastern European Legal Iniciative – ABA/CEELI), «влияние которого на Россию и Восточную Европу было драматичным»190. Данная структура, имевшая представительства в 23 европейских странах и безвозмездно (pro bono) истратившая более 180 млн выделенных правительством США долларов, приняла участие через своих экспертов в подготовке в этих странах, включая Россию, более 465 законов и Конституций191, львиная доля положений которых затрагивает, разумеется, вопросы уголовного процесса. Как и в Китае, имела место активная инструментализация стремления государств стать членами тех или иных международных организаций, получать финансовую помощь и т. п., т. е. для импортирующих государств уголовно-процессуальные реформы часто являлись лишь средством достижения сугубо политических или экономических целей. В то же время для США и их западноевропейских партнеров все обстояло наоборот: целью были как раз сами реформы, а приглашение новых членов в международные организации, оказание им под благовидными предлогами финансовой помощи и т. д. – лишь средством достижения данных целей, позволяющим технологически обеспечить вмешательство в уголовное судопроизводство других государств. Цели и средства в данном случае просто пропорционально меняются местами в зависимости от взгляда со стороны либо импортирующего, либо экспортирующего государства, что создает стимулы для первого добровольно открыть двери своего уголовного судопроизводства для иностранного вмешательства и позволяет второму установить контроль над уголовно-процессуальными институтами без какого-либо традиционного для прежних эпох военно-силового воздействия. Это вообще типично для современных инструментов «мягкой» внешней уголовно-процессуальной «силы». Так, например, для некоторых постсоветских европейских государств сотрудничество по проведению реформ являлось условием вступления в Евросоюз, для других постсоветских государств (к вступлению в Евросоюз по разным причинам отношения не имевших) – условием предоставления американских инвестиций, которые были исключены, если государство откажется, допустим, взаимодействовать в рамках проекта CEELI192, и т. д.
Что касается России, то роль США в подготовке проекта действующего УПК РФ и его принятии в 2001 г. также прекрасно известна, причем через призму деятельности не только ABA/CEELI, но и других, подчас вполне официальных, структур, скажем, отдела по укреплению права посольства США (US Embassy Law Enforcement Section)193. При этом США в данном случае, как и во многих иных, действовали не в одиночку, а в хорошо скоординированном взаимодействии с европейскими западными странами: «идеи исходили от экспертов, финансировавшихся британским, германским, нидерландским и французским правительствами, и иногда трудно обозначить авторство немалого числа концепций, нашедших отражение в окончательной версии кодекса. На самом деле, наиболее специфическим средством западного влияния был отнюдь не какой-то американский документ, а Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Советники из США воспользовались российским желанием соответствовать Европейской конвенции и стандартам Совета Европы, чтобы убедить россиян изменить Уголовно-процессуальный кодекс»194. В данной ситуации мы сталкиваемся с любопытным примером инструментализации «европейских» устремлений многих государств, когда их желание оказаться в общей европейской уголовно-процессуальной семье и покончить с «плохим прошлым» используется для продвижения идей, направленных скорее на слом классических европейских традиций, поскольку речь идет о прикрытой псевдоевропейскими лозунгами американизации уголовного судопроизводства.
Впрочем, «европейский фактор» в виде участия западноевропейских экспертов или информационного прикрытия проамериканских реформ в любом случае оставался при подготовке новой российской уголовно-процессуальной кодификации сугубо периферийным. Уже тогда всем серьезным специалистам было понятно, что принятие УПК РФ (в том виде, в каком он был принят) – это прежде всего «история влияния США в его тонком, но значимом проявлении. Организованные США усилия придали российскому процессу реформирования импульс по нескольким важным направлениям. Они ускорили уже начатый процесс, позволив быстро воспользоваться открывшимся для реформ политическим окном, укрепили политические позиции российских судебных реформаторов и ввели ряд существенных и политически противоречивых изменений, которые сделали вышедшее из реформ уголовно-процессуальное право более либеральным и более способным быть имплементированным в повседневную российскую жизнь. Среди самых значимых из этих изменений, которые появились в России благодаря вмешательству США, следует назвать концепцию plea bargaining (сделок с правосудием) – небольшой, но потенциально спорный логистический придаток, предназначенный для распространения суда присяжных»195. Нельзя не добавить, что гл. 40 УПК РФ, которую и имеет в виду американский аналитик, писалась непосредственно экспертами из США, в частности, профессором С. Тейманом, подготовившим по поручению Департамента юстиции США проект данной главы в январе 2001 г. и представившим его на заседании экспертов по разработке проекта УПК в марте 2001 г.196
Очевидно, что принятие УПК РФ – это не только история американского вмешательства, но и яркий пример отмеченного нами ранее активного взаимодействия двух элементов: экспортирующего государства (в данном случае США) и государства импортирующего (в данном случае России), причем без понимания сложных политических процессов, происходивших в последнем, невозможно точно уяснить и сам механизм (логистику) вмешательства, поскольку уголовно-процессуальные «изменения спустились сверху, а не вышли из потребностей, идущих от корней»197. Так, «стиль участия США в российской реформе уголовного судопроизводства стал после 2000 г. фундаментально иным по сравнению с предшествующими усилиями в России и теми усилиями, которые США прикладывали по укреплению верховенства права в других странах. Увеличение в 2000 г. значения участия США в российских реформах в равной степени связано с несомненной удачей прихода в российскую политику деятелей, с радостью откликнувшихся на западную помощь и готовность политических властей США быть глубоко вовлеченными в разработку и прохождение кодекса (УПК. – Л.Г.) в форме такого сотрудничества и такой степени включенности во внутриполитические процессы страны с переходной системой, которые в иных ситуациях помощи США рассматривались бы как неприемлемые»198. Ясно, что в данном случае мы имеем дело не с принудительным вмешательством одного государства в организацию своего уголовного судопроизводства другим государством, а с вмешательством, которое принимается добровольно и даже где-то охотно. Впрочем, степень добровольности также не стоит переоценивать, учитывая, что она может быть обусловлена факторами дипломатическими, политическими, экономическими и т. п., т. е. общей слабостью импортирующего государства и его нефизической зависимостью от государства экспортирующего, хотя не стоит исключать и сугубо субъективные аспекты в виде искреннего преклонения перед американским уголовным судопроизводством и неверия в собственные интеллектуальные уголовно-процессуальные ресурсы.
В заключение обратим внимание на два обстоятельства, касающиеся иностранного вмешательства в организацию государством своего уголовного судопроизводства. Во-первых, если брать последние тридцать лет, когда такое вмешательство приобрело подлинно системный характер, странно звучит итоговое замечание проф. Р. Воглера о том, что глобальное движение по реформе уголовного процесса выглядит, к его удивлению, «почти полностью некоординированным», дескать, «невзирая на абсолютно идентичные дебаты вокруг уголовного процесса, которые ведутся в Москве, Тбилиси, Пекине и иных местах», у него «нет ощущения общего проекта»199. Такому выводу прежде всего противоречит предшествующий ему эмпирический анализ самого Р. Воглера, надо признать, блестящий. Во всяком случае, ни постоянные ссылки на координацию усилий США с другими западными странами, ни повсеместное подчеркивание значения участия США в проведении уголовно-процессуальных реформ по всему миру, ни даже детали типа учрежденной в тех же США в 1996 г. должности «специального координатора по глобальному верховенству права» никак не подтверждают стремление представить ситуацию в виде теории М. Лангера о случайно вдруг произошедшей (причем без малейшего участия США и их западных партнеров) «диффузии» идей с «периферии», – теории, которую М. Лангер разрабатывал применительно к Латинской Америке и которую сам же Р. Воглер косвенно опровергает утверждением об особой роли США в проведении латиноамериканских реформ, не упоминая, правда, при этом ни М. Лангера, ни его известную статью200. Думается, что «общий проект» как раз есть, как есть и лидерство в нем США: имеющиеся эмпирические данные, в том числе представленные здесь, такому выводу соответствуют в много большей степени.
Во-вторых, трудно не отметить и некоторые изменения, наблюдающиеся в продвижении глобальных уголовно-процессуальных инициатив последние 10–15 лет. Если в 1990-е годы и начале 2000-х годов вмешательство США и их партнеров в проведение уголовно-процессуальных реформ было достаточно открытым, что можно видеть на примере Китая, России и других стран, т. е. никто его тогда не камуфлировал и не вуалировал201, то сегодня ситуация иная. Центр тяжести сместился на деятельность международных, неправительственных и т. п. организаций. За ними также, разумеется, часто скрыты те или иные государства, просто-напросто использующие более тонкие и косвенные формы для влияния на уголовное судопроизводство других государств. Однако не следует и упрощать проблему, полностью привязывая все международные, неправительственные и т. п. организации к каким-то государствам, пусть даже столь влиятельным, как США, и не видя в них самостоятельных игроков глобального институционального пространства, особенно с учетом известного эпизода внутриполитического кризиса, который поразил сами США с избранием в 2016 г. президента Д. Трампа, когда часть элит на время утратила внутригосударственную опору, переместив влияние как раз в международные и/или неправительственные организации. В связи с этим вмешательство в построение государствами уголовного судопроизводства со стороны как международных (когда они действуют неофициально), так и неправительственных организаций следует рассматривать автономно, причем и по формальным, и по реальным основаниям.
3.3.2. Вмешательство со стороны международных организаций
Вмешательство международных организаций в национальное уголовное судопроизводство проявляется не только на официальном уровне, когда речь идет о выработке ими при участии государств международных рекомендаций, утверждаемых представителями этих государств в строго установленном порядке, например, в рамках работы Генеральной Ассамблеи ООН или Комитета министров Совета Европы202, но и на уровне сугубо неофициальном. В последнем случае государство далеко не всегда является даже членом соответствующей международной организации, да и само вмешательство часто почти никак не институционализировано или институционализировано крайне слабо, представляя собой трудноуловимый в разрезе юридического анализа набор инструментов политического, экономического, дипломатического, если не сказать – лоббистского, давления, которое та или иная международная организация оказывает на государство с целью добиться проведения продвигаемых ею уголовно-процессуальных реформ. Неоднороден и статус интересующих нас международных организаций, часто позиционируемых в качестве не столько международных организаций stricto sensu, сколько глобальных регуляторов прежде всего финансовых и экономических. Не до конца определен круг таких организаций, могущий быть ýже или шире в зависимости от разнообразных критериев.
Так, в науке финансового права отмечается, что «в процедуре создания внешних мягко-правовых финансовых норм могут принимать участие самые разнообразные субъекты, среди которых зачастую встречаются государства (о них выше203. – Л.Г.) международные, межправительственные организации, международные советы, ассоциации, объединения, группы. Например, к таким субъектам относятся Международный Валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Группа по разработке финансовых мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», а также «международные переговорные объединения»204. Как ни странно, данную мысль и данный перечень можно без каких-либо изменений приложить не только к финансовому праву (для него это давно естественно), но и к праву уголовно-процессуальному, испытывающему сегодня столь же очевидное вмешательство со стороны и ОЭСР, и Всемирного банка, и Международного Валютного фонда, и иных подобных международных организаций, а иногда и «международных переговорных объединений». Другое дело, что, в отличие от финансового права, круг международных организаций, ныне влияющих на уголовный процесс, финансово-экономическими регуляторами не ограничивается – никуда с этого поля не делись ни универсальные международные организации (допустим, разнообразные структуры, выстраиваемые вокруг ООН, Евросоюза, Совета Европы), ни организации сугубо правозащитные (скажем, БДИПЧ ОБСЕ), ни организации, призванные обеспечивать общую или региональную безопасность (ОБСЕ, ЮНОДК – Управление ООН по наркотикам и преступности и т. п.)205. Кроме того, уточним, что применительно к уголовному процессу речь идет не столько о создании в интересующем нас контексте «внешних мягко-правовых норм» – они создаются на вполне официальном уровне (о чем см. ранее), сколько о влиянии на создание норм вполне жестких, т. е. норм национального уголовного судопроизводства, отраженных в УПК, законах и т. п., причем без малейшего упоминания международных организаций, в инициативах и политико-экономическом давлении которых и следует искать истоки соответствующих норм. Это и позволяет нам оценивать данный тип вмешательства как «неофициальное», что не означает отсутствие в нем политической жесткости и сущностной (для понимания смысла уголовно-процессуальных преобразований) значимости.