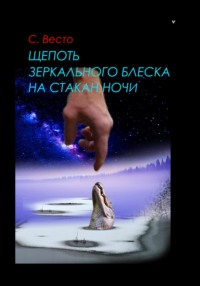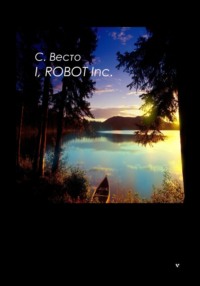Полная версия
Щепоть зеркального блеска на стакан ночи. Книга вторая
Пустые глаза Лиса смотрели на что-то в пространстве перед собой и ничего не видели. Он собирался то ли тихо, собрав последние силы, пожаловаться, как горячо и сухо, а вода далеко, то ли хотел еще раз упрямо рявкнуть. Похоже, он лежал тут давно. Каким-то образом он был еще жив. Бессильный долгий звук оборвался, и только тогда Гонгору ударили изнутри.
Спотыкаясь и путаясь в сетчатых крыльях полога, он опрокинул рюкзак, нашел на дне ремень с медициной, выбрался из палатки, распечатывая все рулоны бинтов сразу, вернулся снова за полотенцем, чехлами, носками и одеждой, выбрался, сорвал с себя ветровку с влажной футболкой, притиснул ее к черным запекшимся пятнам на боках Улисса и как умел, крепко наложил поверх бинт. Бинта нужно было больше.
Он не знал, можно ли сейчас давать воды. Он ограничился влажным компрессом. Гонгора не знал, что в таких случаях делают еще.
Способность соображать возвращалась рывками. Запоздалые ненужные сценарии поведения и сюжеты без смысла толпились в голове, мешая друг другу, это был даже не страх. Он даже не знал, что черный, животный, давящий ужас мог быть такой силы. Потом он заставил себя справиться с болью. Недобрые предчувствия гудели что-то, но сейчас было не до них, сейчас важно было не допустить ошибки.
Брызгая водой из котелка на сухие черные губы и шершавые лапы, он думал, как давно Улисс здесь лежит. Он пытался представить примерное положение пуль. Пули нужно было достать. Сейчас важно было только это.
Чем-то не нравилась ему палатка изнутри, которая всегда радовала глаз, что-то было не так. Царапало глаз.
Не сразу, но до него дошло, что он оставлял рюкзак в другом углу. Он смотрел на него, пытаясь понять, в чем дело. В палатке не было порядка, который давно стал привычкой. И не было в изголовье надувного матраца ножа, зато была какая-то чужая бумажка, сложенная на его записной книжке. Она белела на самом видном месте, так, чтобы вошедший не промахнулся взглядом – на его старой зеленой записной книжке с проложенной пачкой его денег – проложенной демонстративно, видимо, не тронутой.
Писали шариковой мажущей ручкой походя, непонятно и некрасиво – обычно. Гонгора глядел и не двигался, он читал, потом читал снова, слова были простыми, но их смысл не доходил. Он сидел скрестив ноги, сжимая ладонями виски, читал и перечитывал еще раз то, что лежало под ним, обращение к нему укладывалось в несколько строк. Предлагалось в недельный срок явиться в местное отделение органов безопасности и охраны общественного правопорядка и зарегистрировать у дежурного свое туристическое удостоверение либо иной документ, его заменяющий. Он сидел с локтями на коленях и в десятый раз пытался собрать чужие буквы в слова, чтобы понять, как оказался в реальности, в которой сидел сейчас.
Предлагалось удостоверить право нахождения в зоне государственного заповедника.
Здесь же коротко указывалось время работы и обеденного перерыва. Чужой листок в клетку предлагал стандартную процедуру регистрации. Предмет личного охотничьего снаряжения мог быть возвращен после заявления и по предъявлении документа, удостоверяющего право на ношение холодного оружия.
Его старого остро заточенного ножа, реликвии сказочного мира с рунами из «Хоббита» и лучшим дизайном морских котиков, который он не оставлял никогда и нигде, не было. Солнце играло на тех рунах днем и свет звезд ночью и не было ничего, что заставило бы их молчать или заставить с ним расстаться. Он был нужен.
Чтобы извлечь пули и чтобы вернуть все назад.
Он знал, все, что для этого нужно, это терпение и согретый на огне острый металл.
С этого момента время шло на минуты. Гонгора выбрался наружу. Наверное, Улисс не хотел их.
Гонгора чувствовал, как капля за каплей истекает отпущенное время, когда еще дозволено вмешиваться в равнодушный ход событий. Надо было что-то делать.
Из оставшихся кубиков экстренного запаса он взял два, съел то, что оставалось в палатке и не требовало огня, готовить времени не было.
Через четверть часа Гонгора сменил повязку и сделал это уже основательнее. Улисс визжал, не переставая, тихо и хрипло.
Еще через четверть часа он достал со дна рюкзака то, что не трогал никогда, запаянный пакет жаренных орехов. Улисс потерял слишком много крови. Ждать больше смысла не было.
Он напился из речки, собрал в горсть все, сколько нашел, таблетки аскорбиновой кислоты и глюкозы, запил водой, накинул на голый торс ветровку и закатал рукава. День обещал быть жарким. Потом отвязал от рюкзака и накинул поверх себя моток троса, – пока без конкретного плана, скорее по привычке, без веревки в горы он уходил редко, – затянул на штанах пояс и сунул за него сзади охотничий томагавк Штииса. Все это время он представлял, как острое лезвие ножа взрезает упругую седую шкуру и погружается в поисках кусочка металла. Наверное, Улисс очень не хотел их, это у него всегда получалось хорошо.
Он оглянулся на солнце. В синем небе висела одна тучка и больше ничего. Шкуру в таких случаях сшивают тонкой шелковой нитью – как в моем кармане.
Не обращая внимания на громкий визг, он лег, подсунул голову под забинтованный бок, как получилось, медленно и осторожно взвалил себе бандита на плечи и поднялся. Пока двигаться было можно, но до моста слишком далеко, конечно. Жарко, подумал он. Выбора не было.
Плохо, когда нет выбора. Гонгора обернулся, с сожалением и тоской, – элитный горный рюкзак и канадского приготовления сверхлегкий тент были слишком хороши, чтобы бросать. Полусфера палатки одиноко жалась к деревьям, и лучшее время его бестолковой жизни было связано с ней. Он сказал себе: как хорошо иметь свой дом.
Он осторожно двинулся вдоль отмели, переходя на экономный походный бег, попутно прикидывая, все ли взял и не оставил ли чего-то, крайне необходимого ему и его бестолковой вселенной, он не знал, сколько у него времени. И не хотел об этом думать.
10
Нельзя сказать, что методика горных пастухов в вопросах выведения крупного, сильного и злобного киноцефала, способного обходиться малым и противостоять поползновениям диких волков, отличалась каким-то особенным подходом. Меньше внимания, меньше беспокойства – природа сама решит, кому жить стоит. В условиях безжалостного отбора выживет самый достойный…
…потом дед рассказывал об одной дворняжке. Та чудом осталась в живых после стычки с откормленным кобелем, профессиональным бойцом, на нее все махнули рукой, а пьяный хозяин собрал что было с земли, сгреб внутренности, зашил шкуру обычной иголкой и ушел спать…
…и был другой день, и было самое время снов, и он еще смотрел вверх, потому что любил смотреть на излом, и выковал в тот день старец паранг, и не была у него рукоять особой резьбы или смысла, но было лезвие – черного зеркала и зеркальной чистоты…
Ну как – получается? – негромко спросил голос. Память, поперхнувшись, тут же напряглась, где-то он все это уже слышал. Его снова преследовал чужой летний вечер, слепые дома в камне; он мог прикоснуться к ним ненавистью, тень незнакомой многоэтажки нависала, как некролог. Тихий двор, зелень, скамейка и бабки. Вечер всей жизни. Убийство времени.
Он едва обогнул угол дома, как его ударил по лицу шуршащий песок сухих губ. Умирающий шорох отживающей плазмы сползал, обнажая шепот прибоя, бесполезный остывающий вечер. Уже в прошлом. Ему наперерез что-то неслось, самомнение камикадзе не оставляло сомнения, что все не просто так. Размытое послание выглядело, как обычный комар, но только на первый взгляд. Обязательно должен быть стрелок, пуля всегда создает массу осложнений – с дребезгом, лязгом, щепками, дымом и запахом, но прав всегда стрелок. Голос вернулся, но был уже не один, теперь, уверенно переваливаясь с боку на бок и по пояс проваливаясь в свежий снег, с ним шагала ворона. До синевы черная и кругом правильная.
Голос молчал, но ворона смотрела. Она предлагала другую модель ситуации. Облизывание лезвия бритвы и обещание лимонной кислоты.
А это зачем?
Что – зачем, помедлив снова, переспросил голос.
Лезвие и кислота.
А, это, произнес Голос как бы уже в заметном облегчении. Нe знаю. Оборот такой.
А лимон тут причем?
Я же говорю, не знаю. Здоровее будем.
Бес уходящего сознания падал все чаще, из противоречия только заставляя себя подниматься снова, но с каждым разом это у него получалось все хуже, мешала застрявшая дробящая разум и кости боль, он падал опять, с головой зарываясь в прошлое, какое-то время лежал, закрыв глаза и хрипло дыша, затем поднимался и снова принимался перепахивать собой гребни сугробов. Заслоняемый грохочущей мглой, обжигающей волной ярости и стыда, он видел, как, неспешно ликуя, надвигались и нависали над ним медленно улыбавшиеся лица пилотов, и даже сквозь грохот в ушах слышал крик, необъяснимую боль с неотступным привкусом смерти. Он, не оборачиваясь, стремительно уходил на дно преисподней, под ней было что-то еще, другое дно и новая боль, он дышал ровно и глубоко, как надо, но глаза разъедала соль, и он не различал под собой ничего, кроме носков мокасин и эверестов, которых ему не видеть уже никогда.
11
Это казалось важным: не молчать. Улисс всегда слушал, когда с ним говорили, – и он говорил, пока мог. Он бежал, постепенно наращивая темп, вниз вдоль горной реки, через камни и бурелом, к тесному темному ущелью, где огромные пихты подступали к самой воде и где шумный поток пересекало новое аккуратное шоссе.
Вечернее солнце расплылось кляксой, под ним торчали зубы дракона и лес. Он ненавидел сегодня лес. Лес страшно мешал, лез с советами и путался под ногами, он цеплялся пальцами и ставил подножки, заглядывая в глаза, проникаясь сочувствием, прижимаясь к воде и не давая себя обойти. Чья-то голова все время качалась рядом, ему без конца что-то мешало, лапы и голова Лиса болтались на уровне коленей, словно крупья зарезанной мохнатой овцы, но Лис, конечно, был слишком тяжел. Приходилось ложиться и лежать. Потом подниматься и бежать снова. Лис больше не визжал. Он затих, продолжая лишь часто, с надрывом, хрипло дышать. Теперь он дорого бы дал, чтобы только слышать это хриплое дыхание. Он знал, что скоро в крови упадет уровень сахара, и он уже не поднимется. Если все сделать правильно, можно много успеть. Главным было не споткнуться. Теперь он почти все время молчал и глядел под ноги, и когда он молчал, было слышно журчание воды, шуршание в гальке изношенных мокасин и охрипшее дыхание Лиса.
Он бежал, все чаще оскальзываясь и спотыкаясь, здесь в памяти было что-то вроде лакуны, потом он увидел, что леса стало больше и он стал выше, а сам он снова бежит, рельеф все время менялся, иногда он промахивался, неверно определял расстояние до неровности, сбивался, терял ритм, и тогда они начинали хрипеть вместе. Он боялся думать, что не успеет.
12
__________________
Выковал тогда старец паранг и выбил в память о том на камне знак эвереста. Не была рукоять у паранга особой резьбы или смысла, но было лезвие – черного зеркала и зеркальной чистоты. Так сказал старец: есть хорошие вещи. За привычным лежит странное. Если паранг будут хранить чистые руки, чистой будет каждая жизнь, которую он отнимет. Пусть никогда не прикоснется к нему чужая рука и никогда не узнает, что значит – отражение далеких небес. Придет несчастье, и то, что казалось вечным, станет прошлым. Но до тех пор, пока чист он, всегда будет отражаться в нем восход луны. Это последнее, что ковали мои руки. Так сказал старец: будь умницей и держись тонкой грани паранга. Между добром и злом.
Днем весело играло на нем солнце и ледяной огонь ночью, и удивлялся он: странное лежало в привычном. И каждому хватало малого, обоих любило утро, и то, что отражалось, обещало лучшее. Необычный дар решил он отметить знаком огня – не обычным, резьбой эвереста. И собрал он по рунам гор знак утра, лучшего времени жизни, но не мог оставить на зеркале лезвия след ни металл, ни сверхпрочный камень, потому что само оно привыкло оставлять след. Только бабушка знала многое, чего давно нет, и так говорила: одна с нами религия у него, религия чистой воды. Лишь омыв и прижав к сердцу, можно разглядеть то, что скрыто. Но пока чист он, всегда будет в нем сияние далеких звезд. Так сказала она.
Тихо играл, сияя, на зеркале ножа оттиск ночи, и был другой день, и было самое время снов, и он смотрел вверх, потому что любил смотреть на излом, и был еще рядом малыш – всем чудесный, но молчаливый молчанием ночи. Молчали они вместе, и были звезды, и не было рядом вчера, и всегда было только завтра, только малыш устал молчать на одном месте. Так говорил он: дай мне время, и я заполню им всю твою притчу, вот только не знаю, будешь ли ты этому рад. Он хотел играть светом дня и сиять оттиском ночи, брал в руки паранг и смеялся: если б не была моя рана глубокой, где б тебе стать острым, как язык ночного паука?
Так сказал чудесный малыш.

13
Она с тупым упорством шла по пятам и сидела на каждой ветке. Она саднила, как старая ведьма, и стучала в голову молотком, от нее невозможно было отвязаться, – эта боль плясала на его костях, не оставляя надежды выбраться из-под обломков себя и оставить их в прошлом. Это был исход. За ним ждала одна пустота.
Прошло какое-то время, прежде чем до сознания дошло, что на него смотрят. Крошечное зеленое насекомое с прозрачными крылышками и длинными усиками сидело на травинке перед самым носом и пялилось. Деловито перебирая конечностями, оно сменило позицию, чтобы лучше видеть, потом стало пялиться снова. Слабый ветер качал травинку, и насекомое качалось вместе с ней.
Он не смог бы сказать, как давно так лежит, за шиворот лезли большие противные мушки, лезли периодами, не стесняясь, все вместе и по одной, может, это просто кусались стебли травы, но сейчас было не до них. Он пытался вспомнить. Над головой хлопнула крылом птица, и совсем рядом начали тяжело, хрипло и часто дышать. Дышали прямо в затылок, со страшным присвистом и без перерывов, собственно, дышали у него за спиной уже давно, но только сейчас звуки заняли свое место и стали стучаться в двери сознания. Мушки не унимались. Он представил, как отряхивает щеку, вначале от песка, потом от воспоминаний, и опускает лицо в холодную воду, – в этот момент откуда-то сверху донесся и сразу же стал удаляться мягкий шорох шин. Прямо за макушками прижавшихся к воде пихт тускло блестел турникет ограждения, и над ним висело вечернее небо. Чтобы подняться, усилий понадобилось больше, чем он рассчитывал. Тень от стены накрыла весь мост и почти все ущелье.
Малиновое яйцо солнца цеплялось за стены, оно пробивалось сквозь деревья и ясно давало понять, что время вышло. Видение перед глазами коек и капельниц сменилось вопросом, подойдет или нет кровь человека. Он не знал.
Падать сейчас было нельзя. Наверху ждали. Кто-то просто смотрел, кто-то оценивал. Сидя на корточках и собирая губы гармошкой, как бы вынужденный признать, что да, работа заслуживала одобрения. Все-таки дошли, подумал он. Трасса выглядела совсем новой.
Отчаянно виляя, глянцевый и помытый автомобиль кидался от одной крайности к другой и от кювета к кювету, словно поклявшись сегодня разбиться, но не сбрасывать скорость. Так и не сбросив, он скрылся за поворотом.
Шедший за ним выглядел проще.
Много места и меньше глянца. Как раз. Конечно, можно на пол. Конечно, он все сделает сам. Тут крутая насыпь, но он очень быстро. Времени совсем не осталось…
– Куда … т-твою мать! Куда! Говорю, лезешь! … бородатый, … м-мать!
Не понимают.
Они еще просто не понимают.
Уши словно забили дерьмом. Он, оказывается, уже совсем отвык. И от языка местных рабоче-крестьянских сословий, и от их вида, и от их визга. Он вдруг не к месту подумал, что знает, почему дети зон экстренного контроля отличаются от остального мира планеты.
– Что?..
Время. Врач. И очень срочно.
– Сиди дома, больной!.. Еще раз – что?.. Сиди дома! Дома, говорю, пусть сидит, больной!..
Самые обычные лица, но было в них что-то, что безошибочно выдавало, кто работал над их селекцией.
Сопровождаемый громким одобрительным ржанием, полированный джип резво взял с места и ушел за поворот.
Спортивные, плечистые и уверенные. Он смотрел им вслед и видел только закутанных в холод голодных призраков, продающих на рынке человеческие останки.
Автомобиль, шедший следом, аккуратно обогнул торчавшую на дороге фигуру и скрылся там же. Но машина за ней встала.
Два приоритетных лица, как две жирных иконы. Сюда хватило одного взгляда, чтобы понять, что ехали они к телевизору и национальной селедке и даже война не заставит их свернуть с намеченной цели.
– Дома больной пусть сидит!.. дома!..
Новая трасса не выглядела популярной. Может, просто было поздно. Следующей попутки пришлось ждать целую вечность.
Со стоном прошмыгнув мимо, пустой ухоженный «чипс» скрипнул тормозами, вспыхнул красными глазами и мягко встал на обочине. Над уходящей далеко вверх отвесной скалой уже висел поздний вечер.
Водитель кивнул.
– Сколько, – без всякого выражения обронил подтянутый сухощавый мужчина располагающей наружности то ли научного работника, то ли преподавателя. Он бесцветным взглядом смотрел в стекло прямо перед собой.
Приятный мужчина. Белоснежная рубашка, серебро на висках и ничего лишнего.
– Что – сколько?
Еще не понимая и уже холодея, Гонгора засунул обе руки в карманы летных штанов, где всегда болталась его зеленая записная книжка. Он уже знал, что там ничего нет и не может быть.
Гладко выбритое, моментально ставшее отвратительным холеное лицо с серым рыбьим взглядом мягко качнулось и поползло мимо.
Он стоял, стоял долго, невидящими глазами уставившись в асфальт. Он ничего не чувствовал.
Машин больше не было. Только раз мимоходом со страшным грохотом пронесся, обдав гарью, взнузданный «Термокрафт», и на потемневшее ущелье опустилась мертвая тишина.
Он начал вдруг дико, с зубовным лязгом мерзнуть. Суставы и мышцы сотрясались, все тело сковал ледяной озноб. Щурясь и ежась, он сомнамбулической пьяной тенью слонялся вдоль края обрыва, возвращался опять, долго смотрел, как пунктир белых кирпичиков на шоссе тянется, прячась за поворотом. Он не мог согреться. Ему очень хотелось вниз.
Он ждал долго. Оставаться еще дольше не имело смысла, как, впрочем, и уходить. Холодные губы дергались, он ежился, закрывал глаза, приподнимая лицо и ловя им последнее тепло дня. На небе далекая полоска огня снова обещала хорошую погоду. Угольный излом черного горизонта обозначал конец дня.
Он думал, как поступит с водителем следующей машины. Временами ему казалось, что Улисс, собрав последние силы, зовет, внизу было холодно и одиноко, и он рассказывал о самом темном времени суток и о летнем утре, том самом, которое они делили на двоих, чистом и всегда одиноком – в нем не было боли.
Он стоял на краю пропасти, говорил, не открывая глаз, так было теплее. Он вспоминал, как они вдвоем плевали на условности мира, всегда держались только своей стаи и никогда не оборачивались назад, как Лис, вне себя от бешенства, однажды во весь свой немалый рост обнимая совсем не легкими лапами, яростно рыча и хрипло завывая, дрался с ним в общественном месте у всех на виду, нацеливаясь порвать меховую куртку и добраться до горла, а Гонгора с трудом стоял на ногах, и со стороны это могло выглядеть противостоянием миров, на них смотрели, отходили подальше и снова смотрели, и из всех только они двое знали, что все это просто такая веселая игра от большого здоровья. Игра одной сильной стаи и одного эвереста.
И Гонгора, не раскрывая глаз, тихо засмеялся, потому что Лис ответил ему. Ему было совсем плохо. Гонгора больше не хотел видеть ни этих гор, ни этого леса, и он сказал – тихо, только для них двоих: пережив такой день, они не могут не узнать, как выглядит ночь. И не встретить новое утро.
Он подумал: ты все, что у меня есть. Он подумал, что, если нужно, он бы снова взвалил на себя Лиса и снова проделал бы тот же путь.
Вот только, может быть, немного бы отдохнул.
И попробовал еще раз.
B тот самый момент, когда Гонгора решился перенести на дорогу Улисса и уже начал спускаться, донесся ослабленный расстоянием шум двигателя.
Он повернулся. Эхо тихо гудело, искажаясь и множась, свет бил по глазам, не давая определить, кто едет и в каком количестве. Гонгора представил себе, как встает посреди трассы, его сбивают и едут дальше. Он поднял руку.
Вильнув, машина встала на обочине в нескольких метрах дальше.
Лицо было мужественным и энергичным. Глубокие сумерки лежали в салоне, не давая разглядеть детали, за тусклой линзой чуть приспущенного стекла сидела неподвижная тень. Там был кто-то еще, прелестное создание в мини с чуть подпорченным личиком и двое на заднем. Отсюда исходило терпение и запах большого хорошо. Скучающие взгляды не выражали ничего. Его не понимали. Он сам себя не понимал, двигая трясущимися губами и боясь подумать страшное. Тьма закрывала мир, в котором он жил раньше, и тот мир уходил все дальше. Он объяснил еще раз. Сдержанно и спокойно. Он спросил себя: довольно ли теплоты в голосе?
Энергичное и мужественное лицо продолжало смотреть не понимая.
– Кх-акой сабакам, слушай? – тихо вскричало оно, возмущенно заскрежетав сцеплением. – О людях давай думать, да?
Он говорил что-то еще, но его уже было не слышно.
Внизу шумела вода. Он сказал себе, что время еще есть. Если бы только Лис пережил эту ночь. Раз пережит такой день.
Он знал, что делать. Разжечь костер, это будет самая трудная ночь из всех, он перенесет Лиса сюда, разожжет огонь прямо на дороге и остановит хоть что-то. Было уже темно.
Последний раз он так пил в далеком детстве, совсем маленьким, машина сломалась в открытом поле, и они с бабушкой долго шли, потом долго ждали попутку, ее не было тоже, в конце концов он едва не сошел с ума, воды с собой они не взяли. И все время, пока они шли и пока ждали, бабушка закрывала ему голову шерстяной кофтой и кормила сочными яблоками. Он не хотел их, он не мог их видеть и не мог их есть. После этого он возненавидел их навсегда. Когда он, наконец, увидел родник, бивший из-под камня, он думал, что лопнет, но не уйдет, пока не выпьет все.
Гонгора погрузил изъеденное солью лицо в воду. Так жить было можно. Это была ключевая фраза. После этого жить становилось совсем хорошо.
…Он сидел на корточках, удобно поджав под себя пятки, сжимал в ладони тяжелую шершавую лапу и вспоминал время, когда капризный вечно чем-нибудь недовольный Улисс был размером с варежку. Как бродил с огромной салфеткой, подвязанной под мордочкой, неестественно быстро рос, будил, деликатно обнюхивая своим невыносимо влажным носом уши и лицо или бесцеремонно укладываясь на одеяло в ногах всем своим неподъемным весом. Улисс таскал тряпки и тапки, чтобы ими швырялись, а он бы носился, опрокидываясь на всех поворотах.
Здесь же была синеглазая Хари – чистенькая и флегматичная. На совместных просмотрах новой видеосказки они всегда были вместе. Ящик они не любили, вся компания отличалась в этом вопросе редкостным единодушием, точнее полным равнодушием и к телевидению, и к тому, чем оно пыталось испачкать…
В разрывах ветвей деревьев сочились реликтовым светом звезды. Ночь обещала быть теплой. По всему, темнота так и не будет в этот день полной. Гонгора держал глаза закрытыми и ни о чем не думал. Он не простил бы себе потом, если бы задержался на дороге дольше.
Он тихо и осторожно дышал, удобно прижавшись лицом к теплой густой шерсти, ничего больше не слыша, больше ни на чем не настаивая. Улисс уходил, как и положено уходить сильному дикому зверю с сознанием малолетнего ребенка – молча. Теперь уже все равно, что было и что больше никогда не будет. Все всегда проходит, оно уже проходит, становится темнотой и сном. Bсe идет стороной. Темнота сживается с болью. Все проходит.
Проходит.
Все.
14
На черной воде тихо плескалась голубая лунная тропка. Она холодно блестела и полусонно играла бликами, вяло шевелила скучными зайчиками, засыпала, просыпалась опять и опять принималась строить ступеньки, уводящие непонятно куда.
Она словно что-то ждала, но было это так давно, что ожидание превратилось в игру тенями, в бесполезный перебор неясных возможностей. На нее можно было встать. Можно было этого не делать. Она отбирала крайности и ничего не обещала взамен. Тропа из бликов спряталась, вслед за ней к воде с шипением устремилась стайка желтых злобных угольков.
Сорвавшись с насиженного места, в воду рухнул полыхавший обломок яруса, огненный цветок слепящего пламени с громким треском рвался к круглой голой луне, через нее тянулась свинцовая нить облаков, и она принимала жертву, как все остальное, – со скукой.