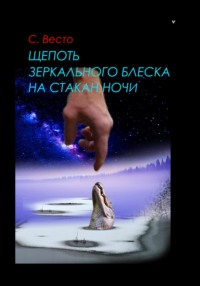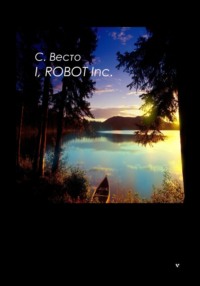Полная версия
Щепоть зеркального блеска на стакан ночи. Книга вторая
Лань дернулась, потом молниеносно вскинулась, высоко задирая длинные ноги, и стремительно унеслась в заросли. Гонгора поднялся.
Он стоял, разглядывая окружающую местность и решая, как поступить дальше. Ночевать придется под открытым небом, и даже без ножа. Не так он все это себе представлял.
Дальше нужно было искать дерево и делать на ней лежанку. Пока не съели. Искать в темноте дорогу назад и заблудиться в его планы не входило. От палатки он ушел слишком далеко.
Он никогда не расстраивался по поводу того, чего нельзя было изменить, это не имело смысла. Он стряхнул с бровей капли пота, потом пошел к дереву, торчавшему на окраине леса. Он все еще не отказался бы выпить чего-нибудь горячего и наваристого.
Дуб понравился сразу. И своими размерами, и размахом замысла. О таких растениях складывали легенды и развешивали на них разбойников. Или, напротив, разбойники складывали легенды и развешивали на них представителей властей. Нижние ветви просто приглашали положить поперек несколько других и завалить их охапками сена. Смолистые еловые лапы и траву он укладывал уже при свете звезд, получилось даже лучше, чем он планировал. На ужин сегодня ожидался мясной бульон.
Он покачался, пробуя на прочность ложе, потом достал из набедренного кармана запаянный полиэтиленовый пакетик аварийного запаса. Пара спрессованных кубиков пищевого концентрата были восприняты желудком, как откровенное надругательство, оставалось дожить до утра. Он придвинул куивер ближе, извлек несколько стрел и положил рядом с натянутым луком. Теперь он был вооружен и очень опасен.
Уже накидывая капюшон, щелкая всеми застежками, затягивая все подвязки и глядя на небо, он подумал, что Лис так же легко может перенести без пищи пару дней, как и неделю. Вода у него была. Это уже хорошо. Но все равно, оставлять его одного не стоило, тем более на привязи. Было неуютно. Они редко разлучались и никогда – на долгое время, Улисс вообще с младенчества не знал никого, кроме Гонгоры, да и не в ком не нуждался. Гонгора просто не видел его в качестве охотника. Он знал, что Лис не будет спать, будет всю ночь слушать ночь и не спускать глаз с деревьев, за которыми скрылся Гонгора.
Он несколько раз просыпался, не столько от холода, сколько от сырости, закапывался глубже в траву и отключался снова. Потом просыпался опять, проклинал застывшее время, оленей и свое безрассудство и давал себе твердое обещание не оставлять больше Улисса одного. На обратный путь в темноте он так и не решился.
Ему снилось, что рядом кто-то смеется, не то под ним, не то над ним. Смех не давал спать, он сердито свешивался с ложа головой вниз, стараясь разглядеть, кто это мог быть, но не мог разглядеть ничего; он смотрел, потом поднимался, до предела натягивал тетиву и отправлял стрелу в темноту. Смех был какой-то странный, в нем не было ничего человеческого, тетива у виска отдавала металлом, пару раз ему казалось, что он во что-то попал, пару раз отправлял стрелу просто так, ответом была тишина, и только в нижнем левом углу пространства из темноты и дубовых листьев одиноко сияла, зябко кутаясь, далекая звездочка.

8
Гонгора с приятным удивлением открыл для себя, что он выспался. Он не только выспался: после проведенной на дереве кошмарной ночи он уже в деталях знал, каким будет его будущее на много лет вперед. Сладко ныли перетруженные мышцы ног, было жарко. Солнце на медленном огне поджаривало щеку, и это было только начало.
Пятно солнца, полыхавшее теплом, цеплялось за сухие ветви и висело над лесом, как обещание долгой счастливой жизни. Гонгора смотрел сквозь прищуренные веки на чистое синее небо и думал, что, если вот прямо сейчас не разденется и не ляжет в холодную воду голым, он взорвется.
Птицы звенели. Он подобрался, шурша листвой и заставляя плясать упругие ветви, беспечный день близился к своей приторной фазе, лес гудел, насекомые беззаботно носились, как будто впереди их ждала вечность. Внизу все выглядело иначе. Часы стояли. Прикинув вероятное время, он сориентировался по солнцу и взял направление на висевший над лесом изъеденный силуэт месяца, на ходу отправляя куивер и лук за спину и перестраиваясь на экономный бег. По его расчетам, расщелина с рекой лежала там.
То, чего он опасался, случилось. Он не помнил эти деревья. Он стоял посреди леса и не мог вспомнить, был он здесь или нет. Он потянулся, широко раскидывая руки, потом взялся ими за голову, озираясь и решая, что принято делать в таких случаях. От прежнего солнечного настроения не осталось следа. Теперь хотелось есть. Проклятое животное увело так глубоко в лес, что сейчас он убил бы его, если мог. С учетом где он стоял, заблудиться было не самой лучшей идеей. Ему лишь сейчас во всем объеме открылась неприятная перспектива тащить мясо непонятно куда. Нужно было найти какой-нибудь ручей.
Пока хватало дыхания, он пробовал на слух речитатив морской пехоты США на пробежке, чтобы отвлечься от мыслей о еде и чтобы создать нужный ритм. Это была дорога домой, остальное было уже не важно. Все, что не было связано с приоритетами приоритетной нации, в армии приоритетных находилось под запретом, поэтому речитатив морской пехоты запрещенной страны стал его гимном. Его эверестом.
Он напевал его молча, про себя и для себя, когда было совсем плохо, когда толпа приоритетных держала его за руки, прижимая к земле и проводя процедуру принудительного кормления, забивая руками и сапогами ему еду в рот и лицо. Процедура не была стандартной, даже в колониях строго режима ее проводили по категории пыток, она требовала санкции приоритетного командира, но была проведена по предложению сержанта – тот стоял у всех за спиной и наблюдал. Они оба стояли и смотрели, зная, что ничего им за это не будет. С едой было плохо, точнее, ее всегда было мало, поэтому молчание при ее раздаче приравнивалось к акту независимости – акту самостоятельности решений. Тягчайшему из возможных преступлений. Акту свободы. Он напевал его, когда был близок к тому, чтобы потерять сознание, когда заставляли ночами стоять в летней одежде на морозе в тридцать градусов, когда запрещали спать, когда не разрешали есть, когда проводили процесс бритья, зажав ему плечи бедрами и полотенцем сдирая ему с лица кожу вместе с кровью, когда запрещали читать и запрещали думать – он сохранял этот гимн, когда сохранять больше ничего не оставалось. Он был его маленькой тайной. Если бы они узнали, что он напевал, когда они старались сделать его собой, он бы не выжил. У него отобрали все, кроме этого гимна далекой свободной страны. Они отняли у него его прошлое и его настоящее, они даже были уверены, что его будущее тоже принадлежит им, что он – их собственность и его будущее их собственность тоже, но его маленькую глубоко спрятанную тайну они отобрать не могли. Наслаждение при виде чужих страданий составляло особенность приоритетной нации, и попадать живым к ним не стоило. Дети зон экстренного контроля аплодировали.
Армейское расположение приоритетных выглядело, как концентрационный лагерь, и, на деле, было им, по сути и содержанию. Исключая случаи, когда было хуже. Забор, ряды колючей проволоки, еда, построения, развод на работы, развлечения «паханов» по отношению к «уркам», буквально воспроизводившие развлечения в колониях строгого режима, – этому гимну за этим забором не оставалось места. Поэтому он хранил его в себе так глубоко, что тот стал его письмом самому себе. Обещанием освобождения. Концом тюремного заключения.
Он так и не узнал, в чем состояло его преступление, и так и не понял, за что он его отбывал, ему так и не сказали, с удивлением, граничащим с недоверием, однажды ему открылось, что сами приоритеты видели во всем том лишь некий естественный порядок вещей, мир, каким тот должен быть. Своим миром. Их концентрационный лагерь был их домом. Они пытались растянуть его на остальные континенты, этот свой дом, все время, одного континента им было мало, они жили ради этого и сваливали трупы бульдозерами в «братские захоронения» только ради этого. Они не видели, что видел он. И это его спасло.
Вокруг стоял один и тот же темный старый лес, и он нигде не кончался. Гонгора чувствовал, что если он в самое ближайшее время не найдет воду, у него начнутся проблемы.
Ah one two, three four
Ah one two, three four
Ah one two, three four
Come on now and lemme sing ya some more…
Сама музыка слов прятала глаза под пеленой влаги. Там, где люди пели такие песни, громко и все вместе, мир не мог быть похожим на то, что видели его глаза. Тот гниющий язык, воняющий трупами, «братскими захоронениями», концлагерями и приоритетами, который приоритеты забивали в него сапогами, не имел места в галерее ценностей будущей планеты. Он просто знал это. Он слишком любил эту планету, чтобы оставить ее одну с тем, что в него забивали сапогами, она и этот гимн все, что у него было, но он не мог ничего. Иногда он в мечтах писал об этом книгу, книгу потом читали на радио, но эта альтернативная история была без продолжения. Сейчас он дарил лесу лето, которое жило в его сердце, – оно поселилось в нем с момента, когда он впервые понял, что пересек границу времени, увидел шмелей заповедника, неторопливо перебиравшихся с цветка на цветок, отмель нетронутого озера и понял, что остался один. Быть может, навсегда. Эта земля чем-то напоминала ему его землю, которой он никогда не знал. Ему не было необходимости петь громко и все вместе. Лес его слышал.
Его организм помнил действительно тяжелые дни. Ему было, с чем сравнивать. Когда он лежал, уставившись в черный потолок и гадая, на сколько еще его может хватить. Однажды приключилась какая-то странная разновидность гриппа с ангиной, когда страшная температура держалась и не падала днем и ночью. Лекарствами он никогда не пользовался, организм должен выкарабкиваться сам, это было его убеждение и его принцип. Тогда же он решил, что потом все будет мерить протяженностью тех дней.
Army Navy was ah not for me
Air force ah just ah too ea-sy
What I needed was a little bit more
I need a life, that is hardcore…
Ручей он нашел довольно быстро. Что делать дальше, он знал.
Профилактика против гриппа, армейская практика сушить на себе в мороз свежевыстиранную одежду, считалась лишь дополнением к пытке будней. К испытанию отвращением. Трудное шло дальше. Он сидел на бесконечных ступенях вальдфорта, балансируя на последней грани между сознанием и его потерей и знал, что если не удастся его удержать на месте, это будет означать конец. Теряющие сознание скатывались в самый низ по лестнице иерархии, и назад не поднимался никто. Выжить там было трудно. Местная грязь его любила, как не любила никого, она этого не скрывала. Она ломала его днем и ночью, во время еды и во время отдыха, запрещала класть в стакан сахар и прикасаться к книгам, она не давала ему спать и не оставляла ни одного шанса, прилагая неимоверные усилия, чтобы стереть, сделать собственностью, тем, кого нет, сделать несуществующим его и его будущее как абстракцию, как личность и как носителя разума. Он держал рот закрытым, он держал его закрытым так долго, что стал терять способность к речи, атрофируя мышцы гортани, но это не помогало. Приоритетный скам просто инстинктами чувствовал, что что-то не так. Что он все еще не вещь, он все еще мыслит и все еще сохраняет способность к логическим построениям. Делает выбор. Сам. Независимо. Про себя. Словно имеет право быть свободным. Он лишал их права собственности. Но до тех пор, пока он не был их вещью, он не закроет своим телом чужой блиндаж. Этот виртуальный блиндаж, остающийся не закрытым, приоритетному сержанту не давал спать. Он означал провал всемирно-исторической миссии его нации. Выпускник техучилища с коркой сантехника и симптомами больного нарцисса видел в Гонгоре личный вызов себе. Проблема состояла в том, что все зоны реальных боевых действий находились далеко. Проблема выглядела неразрешимой. Там, где пели его гимн, это называлось чисткой по генетическому признаку, но в пределах колючей проволоки этот оборот был бы запрещен тоже – если бы только приоритеты знали, что это такое. Для детей зон экстренного контроля, даже читавших лишь с трудом, любая комбинация звуков, лежавшая за пределами рядов колючей проволоки, не содержала смысла. Будущая жизнь за ней казалась нереальной: с этих ступеней ее существование выглядело невозможным. Тогда же он решил, что потом все, что будет требовать его усилий, он будет измерять протяженностью тех ступеней.
PT, Drill, All day long
Keep me runnin' from ah dusk to dawn
Ah one two, three four
Tell me now what you’re waiting for…
Когда из-за деревьев донесся шум воды, он уже и взмок и запыхался. Ручей привел к реке, дальше было дело техники. В какой стороне палатка, он теперь знал.
Было не трудно догадаться, что приоритетного командира с губастым розовым лицом туповатого подростка в военной школе пинали все, кому было интересно, и теперь кусок дерьма, получив власть над другими, восполнял в своих глазах статус иерархии – отрывался. Всякий отброс делает это на беззащитных, но здесь в паре с ним стал работать сантехник. Отдав свой автомат Гонгоре, дохлая и поминутно сдыхающая на таком темпе шавка скакала рядом налегке, исходя красными пятнами и делая мужественное лицо с мужественно играющими уплотнениями на скулах. Она что-то гавкала, Гонгора привычно не слушал, но это было не все. Приоритетный сержант-сантехник обратился к руководству с требованием повесить на Гонгору дополнительный вес, батареи и рацию, и такое пожелание было учтено. Теперь Гонгора знал, что его ждет. Потеря сознания означала наказание в форме противогаза. Ограничение кислорода вело к коллапсу. Дальше шел замкнутый круг.
«А что ты мне сделаешь».
Взгляд сантехника из-под полога кузова удалявшейся армейской машины выражал невозмутимость. Генетическое недоразумение своей нации, за свою жизнь не державшее в руках одной умной книжки, не способное написать на своем приоритетном языке без ошибок двух слов, тупое взглядом, лицом и движениями, должно было определять, сколько Гонгоре можно жить и когда ему следует умереть. Сознание этого, осознание абсолютной власти над тем, в коем все его инстинкты сантехника чувствовали скрытую угрозу не только себе, не только виртуальному блиндажу – всей его национальной централизованной системе концентрационных лагерей, возбуждало в нем не подъем чувств, как следовало ожидать, а вгоняло в крайнюю степень депрессии. Он не мог сломать то, чего не понимал. Ремонтник унитазов по кличке «Квадрат», стремительно взбиравшийся по лестнице всех званий и личных похвал, не покидавший списков заслуг, ставший первым любимцем руководства и образцом, указанным для подражания, оказался не способным сломать всего один случай, спрятавший от него свое право на свободу и прятавший его так глубоко, что оставалось только одно. Необходимо было уничтожить сам случай. Он только не видел, как это сделать, находясь за пределами всех горячих точек. Сантехник при абсолютной власти не знал, в какую позу еще встать и что сделать, он обращался к руководству и подстерегал у своей западни, он считал шаги и сочинял списки преступлений, он деградировал на глазах, выгорая изнутри, купаясь в дерьме, которое поставлял ему его маленький мозг, и спускаясь все ниже и ниже по лестнице клинического социопата. По причине того, что именно такой казус патологии был способен заставить подчиненный состав облепить телами блиндаж неприятеля, у руководства прямоугольный специалист по унитазам стал эквивалентом воинского искусства. Эталон цивилизации насекомых уперли в то, чего он не мог разглядеть, и одно понимание этого разъедало его скромные способности рассуждать, как едкий химический реагент. Запертый в темных тесных стенах своего черепа, он бился в истерике. Вид того, что кто-то сидит, листая страницы, был омерзителен ему до глубины его гнилого сердца – он не разрешал читать. Попытка Гонгоры в секунды свободного времени открыть книгу вызывала в нем бешенство и глухую брызгающую животную злобу, кажется, у него были какие-то счеты с книгами. Кажется, сам процесс извлечения кодированной информации был недоступен его мозгу. Здесь был тот случай, когда даже не имея нужной квалификации можно было безошибочно предсказать примерный уровень коэффициента интеллекта. Его и его руководства. Память тех ступеней не содержала ничего, кроме чужого мертвого времени.
Потом предстояло взгромоздить себя на верхний ярус кровати и за оставшийся час до подъема попытаться выспаться. Если только кто-то не затянет на своей исхудалой шее крепкий веревочный узел, если только кто-то не совершит попытку к бегству в сторону государственной границы, прихватив две банки каши, если только весь состав не поднимут прочесывать вычерченный на штабной карте квадрат. Если бежавший с кашей прихватит автомат, будить не станут. Вызывалась единица бронетехники, и домой тому уходило официальное письмо о смерти героя при выполнении ответственного задания приоритетного правительства, медалька прилагалась. Служба в армии «пней» оказалась заурядным процессом выживания. И цену нужно было заплатить исключительно высокую. Жизнь человека для цивилизации насекомых не имела ценности – только в пересчете на общий объем. Вагонами, загонами, бараками, пучками и пачками.
First phase, broke me down
Second Phase I started comin' around
Third Phase I was lean an' mean
Graduation standin' tall in my greens…
Звали чучело «Джон».
Набитый песком и опилками, этот мешок был пугалом и проклятьем, средоточием самых худших ожиданий, из которых можно сложить дорогу в ад. Был он одет в форму рейнджера при всех знаках приличия, с планкой «JACK», эмблемкой II-го ОБРКП – Отдельного Бронекавалерийского Полка, и весил 80 килограммов. На самом деле точный вес этого мешка с руками никто не знал, но весил он ровно столько, чтобы смерть увидеть как избавление от бесконечных страданий. На тактических занятиях мешок присутствовал в качестве «тяжелораненого». Транспортировка его в полевых условиях предполагалась только бегом.
Нация генетических алкоголиков, видевшая в страдании тех, кого считала собственностью, путь к своему величию, ставила страдание во главу угла как концепцию. Слова этого она, конечно не знала, это превышало ее лексический лимит, однако, даже ничего не зная о нем, она клала его как фундамент в основу всего, что позднее призвано было наглядно показать, как много жертв она готова возложить к пьедесталу своего величия. Поскольку быть великим очень, сильно и весьма хотел каждый из них, каждый из них в меру доступных возможностей старался сделать жизнь хуже, чем та была. Это получалось даже у тех из них, кто смутно представлял жизнь за пределами унитазов. Так строительство величия на костях концентрационных лагерей становилось в восприятии цивилизации ýрок платой за место во всемирной истории. Все, что они могли строить, они строили на костях своих концентрационных лагерей.
Приоритетный командир скакал рядом, исходил злобой и красными пятнами, но делал это пока на уровне шипения, стесняясь взглядов гражданского населения с чужой фамилией. Гонгора, пересекая улицу и не обращая внимания на присутствие неприоритетных, согнулся, чтобы сделать вдох. Он нужен был, чтобы не упасть. Восемьдесят килограммов не давали дышать. Приоритет что-то привычно гавкал, готовый взойти на фальцет, – Гонгора привычно не слушал, сосредоточив все внимание на том, чтобы не споткнуться. В глазах местного населения, как потом выяснилось, по мнению приоритета восемьдесят килограммов на плечах следовало перемещать, оставив наилучшее впечатление о всемирно-историческом освобождении – бегом и с гордо поднятой головой. Брызганье приоритетного хозяина были привычными, как вонь в туалете. Но хуже всего было не это.
Там не давали читать. Никогда и ни под каким предлогом.
Когда у него под матрацем нашли одну старую немецкую книжку, то командование оказалось в таком шоке, что долго не могло решиться, в какую крайность удариться. Его тогда спасло только то, что кто-то покончил самоубийством.
Концентрационный лагерь, конечная квинтэссенция пресловутой загадки приоритетной души в наколках, о которой они с наслаждением друг другу рассказывали, был и их высшей сутью. Рабочему и крестьянскому населению, за жизнь читавшему самое большее лишь аннотацию к туалетной бумаге, уместить это в рамки своего ума было не под силу. Клеймо, повисшее за Гонгорой, определило все, что его ждало до дня конца заключения.
«Тот, Кто Читает».
Вначале это удивляло. Потом уже делалось страшно. Гонгора прямо физически ощущал, как внутри него умирает то, ради чего он жил, ради чего стоило жить, уходит от больной темноты вокруг и систематического недоедания, умирает медленной, мучительной смертью. Становится изнутри старым мертвым деревом. Он чувствовал, как они делали его собой…
Нейроны его мозга задыхались теперь не только от недостатка кислорода. Цивилизация ýрок готовилась к своей всемирно-исторической миссии. Одежда, от которой еще недавно валил сырой пар, на утреннем морозе твердела, превращаясь в лед. Руки тряслись, и попасть с огневого предела в какие-то исчезающие у горизонта пятна из плохо пристрелянного автомата было невозможно. Не набравшие очков подвергались наказанию: шли к куче гравия набивать им ранец. Походный ранец сползал с плеч, открывая мокрую спину омерзительному сквозняку, лопатки сводило судорогой, вздыбленные мурашки соприкасались с тканью, но хуже всего было то, что завтра нужно было повторить все сначала.
Много позднее из специальной литературы Гонгора узнал, что даже слабая форма стресса моментально замедляет появление и рост нейронов мозга. При создании постоянных условий патологического стресса мозг практически теряет способность воспринимать реальность. Это и было приоритетом.
Вся идея приоритетов была направлена на предотвращение роста новых нейронов мозга.
Даже никогда не слышав об их существовании, цивилизация ýрок делала все, чтобы их не было.
Готовила моря зомби облеплять чужие блиндажи своими телами.
Способность анализа, инстинкт отражать реальность, построение минимально сложных логически связных конструкций – это было тем, чего цивилизация урок и их страна смертельно боялись. Они убивали претендента на разумность. Конфуций, Демокрит, Перикл, Гай Юлий Цезарь, Марк Аврелий и Эрик Грайтенз попросту были теми, кто способен был всё изменить. То есть буквально всё. Спровоцировать будущее, в котором цивилизации урок не было места. Централизованная система концентрационных лагерей защищалась.
Нескольким особям, счастливым обладателям пристрелянных автоматов, разрешалось в форме особого поощрения отбыть назад на грузовике. Забивая в свой ранец гравий, Гонгора старался туда не смотреть. Он уже знал, что закроет собой блиндаж, как только ему скажут.
If anybody, asks me why
I'll be a Marine 'til the day I die
Report for duty at ah Heaven's Gate
Ah motivated and semper fi.1
Музыка гимна была способна свести с ума. Когда было плохо, от нее на глазах выступали слезы. Их никто не видел и их не должен был кто-то видеть, но если бы их кто-то увидел, они были не тем, чем могли показаться. Ледяная, не знающая дна и основания, как преисподняя, стальная ненависть обдавала сознание своим холодом и рисовала, как все должно быть. Он знал, что это неправда, но он хотел верить, что будущее смотрит ему вслед.
Над головой звенели птицы, большие мягкие листья стегали по лицу. Улисс то ли спал, то ли ушел, оставив в назидание огрызок поводка. Гонгора до сих пор не мог поверить и простить себе, что бросил здесь Улисса и нож. С Гонгорой могло случиться все что угодно. Даже бабушка говорила, что нож не обычный и чужим рукам не стоит его касаться. Он ждал, когда Улисс начнет шуметь железом ошейников, мощно встряхиваясь. Он уже знал, что Гонгора вернулся.

9
Поводок был в порядке, Улисс никуда не уходил. Он валялся тут же за палаткой на постромках стянутого тента, куда его пустил поводок, пока он еще мог ползти. Он лежал в бордово-чернильной липкой луже с завязшими соломинками, занеся голову и не двигаясь, над лужей с сумасшедшей скоростью носилась стая зеленых мух.
Стреляли дважды, видимо, в упор. Два раза, то ли экономя, то ли решив, что сам дойдет.
Мир больше не имел звуков. Непонятный пустой мир лег сверху, как бетонная плита, гася все краски и закрывая страницы всех не написанных книг. Не хватало какого-то фрагмента, чего-то, утерянного по дороге, чтобы вернуть время на место. Вся действительность состояла из ладони и того, что лежало под ней. Ладонь была чужой и мир был чужим тоже, нужно было что-то делать, соединять какие-то детали реальности, чтобы вернуть все назад, как было. Ладонь лежала на черно-седой морде неподвижного зверя и ничего не понимала. Голова отдавала страшным жаром, распушенный хвост в траве шевельнулся. Глаза были закрыты, но Лис его чувствовал. На пороге слышимости возник хриплый едва живой слабый звук, обесцвеченный невыносимой болью. Лис был еще жив. Он лежал, подмяв стебли травы, измазанной в ржавом, густые потеки были везде. Ничего не понимая, Гонгора глядел на высохшую щель глаза и судорожно дергавшиеся бока, щурясь от непереносимой боли, и пытался совместить все это с собой.