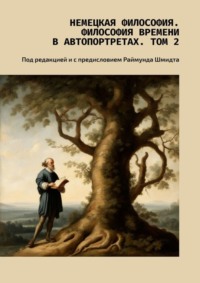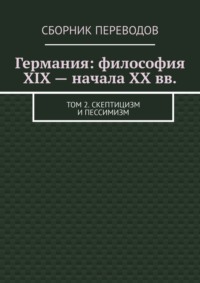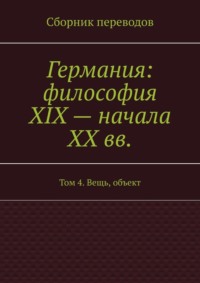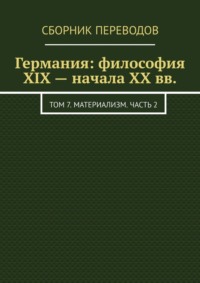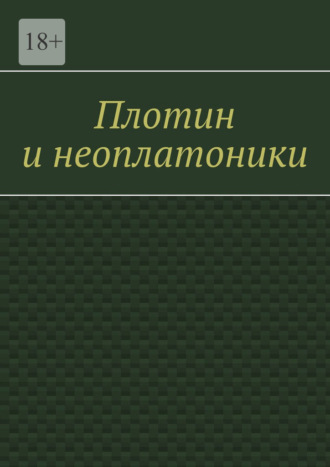
Полная версия
Плотин и неоплатоники
I. Чувственная действительность
Фундаментальный вопрос плотиновской философии – это вопрос о самости, носителе и основании вещей, свободном от всякой связи. В греческой философии это обозначается термином Usia (ούσια). Таким образом, Плотин вместе с Аристотелем понимает под усией то, к чему относятся все утверждения в предложении, но что само не утверждается ничем другим, то, что по своей природе принадлежит самому себе, что, как часть, завершает или достраивает такой композит, к которому все остальное примыкает как его свойство или определение, но что само не подчинено другому, hypokeimenon или substratum, и, следовательно, не производится другим, но является тем, что оно есть, исключительно само по себе. (Эннеады. VI, 3, 4 и 5). Стоики описывали основу всей чувственной реальности, субстанцию (ὔλη), как таковую и, таким образом, описывали ее как совершенно лишенное свойств и неопределенное нечто. Плотин не может согласиться с их точкой зрения просто потому, что, как и Аристотель, он рассматривает материю как простую возможность вещей, из которой индивидуальная реальная вещь возникает только при посредничестве формы. Следовательно, ему кажется абсурдным представлять то, что не существует в действительности, как принцип и основание вещей, поскольку простая пассивная возможность не может стать действенной, не может перейти в актуальность по своей собственной воле (IV i, n; VI i, 26).
По сути, это то же самое возражение, которое обычно выдвигается против материализма, когда его обвиняют в неспособности объяснить происхождение первого движения материи, от которого зависит все остальное. Согласно стоикам, вся сформированная и определенная реальность – это видимость и эффект материи. Но как неопределенная субстанция может быть причиной формы? Но даже если бы субстанция была определена сама по себе, усия должна была бы пониматься как тело; но тогда откуда берется единство физических свойств, трехмерность, сопротивление, размер и т. д.? Тело как таковое обязательно множественное, поскольку оно состоит из субстанции и ее свойств. Но сама субстанция не может привести к объединению, поскольку она является лишь ее пассивной основой, лишь субстратом для множества свойств. Кроме того, как можно объяснить жизнь и душу из простой мертвой материи? Стоики также считают душу материей и хотят, чтобы она рассматривалась лишь как модификация последней. Но это настолько очевидный абсурд, что он лишь подчеркивает полную несостоятельность всего этого взгляда.
Таким образом, стоики переворачивают истинные отношения вещей с ног на голову, когда хотят понять форму от субстанции, единство от множественности, душу от телесного бытия и так далее. То, что впервые превращает пассивную возможность материи в действительность, ее неопределенность в детерминированность, возводит множественность тела в единство, обусловливает активность души и тем самым впервые делает материю основой конкретного существования, носителем мира видимостей, само не может быть снова материей, но может быть только принципом, отличным от последней, то есть нематериальным, единым и активным, который, следовательно, должен быть также prius материальной действительности. Но тогда материя как таковая не может быть usia или непосредственным основанием существования. Неразумно со стороны стоиков рассматривать бесформенное, пассивное, безжизненное, неразумное, темное и неопределенное как принцип и первооснову вещей. Субстанция не существует даже сама по себе, а потому может быть, в крайнем случае, бытием par excellence, причем не первым, а лишь последним в ряду принципов. Если стоики извращают это соотношение, то причина их ошибки заключается в том, что они избрали чувственное восприятие в качестве руководства при установлении принципов и допускают, что за абсолютную реальность материи может ручаться только внешний вид, поскольку они считают, что признают в ней нечто постоянное и необратимое при всех изменениях вещей и качеств. Но как материя может быть истинной? Разве стоики не утверждают в конце концов, что истинное бытие нельзя постичь с помощью чувственного восприятия, а только с помощью разума? Но что это за странный разум, который ставит материю выше себя и тем самым приписывает ей более высокое бытие, чем она сама? Такой разум, подчиняющий себе материю и считающий себя ниже ее, совершенно неправдоподобен. Ибо как он может судить о ней как о высшей, если он ни в чем ей не равен? Субстанция сама по себе неразумна. Но разум не в состоянии распознать такую вещь и, следовательно, не может предоставить ей никакой конечной и высшей истины (VI 1, 26—28).
Согласно этому, субстанция сама по себе еще не реальна, но лишь тень, к которой примыкают формы или понятия (λογος); материальный субстрат, следовательно, неплодотворен и недостаточен, чтобы быть usia в абсолютном смысле (VI3,8). Отсюда следует, что даже то, что представляет собой смесь субстанции и формы, единая детерминированная вещь, не может быть искомой usia. Таково мнение Аристотеля. Однако оно опровергается тем, что невозможно подвести единство субстанции и формы под одно и то же родовое понятие, поскольку не может быть ни бесплотного телесного, ни телесного бесплотного. Поэтому, однако, невозможно рассматривать индивидуальное разумное Это как самоцель (VI 1, 3). Субстанция становится реальной только в форме. Форма же, которая соединяется с субстанцией и в союзе с неопределенной субстанцией порождает детерминированную чувственную реальность, тем самым утрачивает свою реальность вместе с действенностью и опускается до простого пассивного отражения своей первоначальной сущности. Строго говоря, субстанция не является основой для формы, а только для зеркального отражения формы; именно последняя завершает и совершенствует внутренне нереальную субстанцию в определенный чувственный объект. Форма реализует и субстанцию, и то, что является смесью ее и субстанции, то есть индивидуальный конкретный объект, и поэтому может с большим правом рассматриваться как основа последнего. Однако, таким образом, она не находится в субстанции, а едина с ней, и оба вместе, единство субстанции и формы в индивидуальном конкретном объекте, в свою очередь, образуют основу для модификаций мира чувств, подобно тому как Сократ, например, является prius и субстратом для его действий и аффектов (VI 3, 4).
Единство субстанции и формы в чувственных объектах можно, таким образом, назвать usia, как основание определенных состояний и действий: но в любом случае недопустимо рассматривать чувственную usia, вместе с Аристотелем, как опорное основание в абсолютном смысле, независимую и изначальную основу аффектов. Но это также опровергает мнение, что форма чувственного объекта как таковая и есть искомая usia. Ведь, как я уже говорил, форма присутствует в материи не как то, чем она на самом деле является и какова ее природа, а именно как чистая активность или энергия, творчески преобразующая материю, а лишь как тень или след, который форма оставляет после себя в своей деятельности в материи. То, что само по себе является деятельностью par excellence, проявляется в материи как свойство и случайное определение материи, и поэтому не может быть названо узией, а только качеством. Усия предполагается как независимая и изначальная вещь par excellence, в которой, следовательно, нет ничего случайного, но все определяется только своей собственной природой. Качество же – это определенное состояние уже существующих предметов, привнесенное извне или данное изначально, но которое может и отсутствовать; это, так сказать, лишь способ, которым усия отражается на их поверхности. Вот почему мы всегда сбиваемся с пути, постоянно перескакивая через усию в наших исследованиях ее в мире чувств и попадая в плен манящего, то есть путая простое состояние и случайное определение с ее фундаментальной основой. Иными словами, хотя качество и представляет собой творческое понятие или форму в мире чувств, само оно отлично от него и может рассматриваться, самое большее, лишь как видимость usia (II 6, 1—3).
Очевидно, что это преодолевает как стоическо-эпикурейский материализм, так и натуралистический плюрализм Аристотеля. Субстанция как таковая не может быть usia, поддерживающим основанием бытия, к которому все остальные вещи и отношения относятся как простые свойства и детерминации, ни как неоформленная, ни как сформированная субстанция, ни как единое материальное существо, ни как множественность атомов, потому что она как раз не является ничем активным и, следовательно, ничем реальным, но получает всю свою детерминацию и реальность только извне через форму. Но даже единство субстанции и формы не может быть названо usia в истинном смысле, потому что форма в чувственной usia лишена действенности, а следовательно, и действительной изначальной реальности и независимости, субстанция же вообще не реальна. Следовательно, чувственная реальность не является актуальной истинной реальностью. То, что существует в чувственно воспринимаемом, существует не само по себе, а только через участие в том, что действительно существует, от которого оно получило свое существование (VI 3, 6). Усия здесь состоит из факторов, которые не являются усиями; но это возможно только потому, что она сама не является истинной усией, но, самое большее, лишь ее подражанием и образом (VI 3, 8). Мир чувств есть, в сущности, не что иное, как способ, которым сверхчувственный мир форм, творческих понятий или идей отражается на темном фоне материи: образ мира идей в зеркале материи. С его становлением и постоянным изменением форм, присутствующих в нем, это просто мир видимости или, более того, иллюзорный мир. Следовательно, он не может быть местом усии, которую мы ищем; и поэтому мы вынуждены искать усию в интеллигибельном (vovjrdv).
II Интеллигибельная действительность
1 Мир идей и рассудок
Как мы переходим от чувственной реальности к умопостигаемой? Очевидно, только абстрагировавшись от особенностей телесных объектов, их становления, их сенсорной конституции, их размеров и т. д., и сосредоточившись на том, что тогда остается в своей особенности и противопоставлении чувственному существованию (VI 2, 4).
Теперь мы уже научились познавать тело как единство свойств, которые обязаны своим единством не лежащей в их основе субстанции, а единому принципу, отличному от нее, то есть нематериальному. Но мы также видели, что множество свойств не может получить свое существование от субстанции, поскольку последняя пассивна и не развивает никакой первоначальной активности. Поэтому для их объяснения необходим активный принцип, который сам по себе действует на материальную основу, возводит ее из пассивной возможности в актуальность и придает ей, которая сама по себе абсолютно неопределенна, свои различия и детерминации.
Однако это, очевидно, было бы невозможно, если бы нематериальное Единое было абсолютным или абстрактным Единым, если бы оно само по себе не имело множественности и определенности. Поэтому принцип, из которого через посредничество материи возникает телесный мир или мир чувств, должен быть единым, чтобы объяснить единство телесных объектов и их связь, и в то же время он должен быть множественным, чтобы объяснить множественность телесных определений. Поэтому она должна быть многоединой (πλήθος ἓν), многообразной или конкретной, так что единство оказывается связью, благодаря которой множество объединяется и удерживается вместе, множественность уничтожается в единстве, а множество частей не может существовать ни отдельно друг от друга, ни независимо от целого, поэтому они вообще не являются частями в собственном смысле слова, а скорее просто моментами, субстанциальными определениями единого и приобретают особую действенность только в своем отношении к единому. Это возможно только потому, что части являются лишь понятийными частями целого, или понятиями (λογοι), которые, как творческие формы и принципы, формируют мир чувств; ведь только их понятийная сущность остается после вычитания всех специфически чувственных и материальных качеств (VI 2, 5). Как рассмотрение мира чувств показывает, что конечные объекты не существуют в нем отдельно и независимо друг от друга, но что некоторые из них могут быть подведены под более высокие и общие понятия и, наконец, все могут быть объединены как простые определения и моменты в едином понятии бытия, так и с умопостигаемым принципом вещей: он тоже по своей природе является понятием, причем высшим родовым понятием, которое содержит в себе множество низших родовых понятий, каждое из которых само включает в себя множество видовых понятий, а те, в свою очередь, содержат в себе множество индивидуальных понятий. Таким образом, он совпадает с архетипическим миром идей, который Платон также объявил бытием в актуальном смысле, действенным и определяющим принципом лишь внешне реального мира чувств (VI 2, 2).
Мир идей, по Платону, представлял собой простое сопоставление и разделение самостоятельных понятий. Конечно, предполагалось, что они как-то связаны друг с другом и в конечном счете указывают на высшее единство и зависят от этого единства; однако он всегда рассматривал эту связь лишь как непонятное «участие» идей друг в друге, а сами идеи – как самостоятельные общие понятия без внутренней дифференциации. Уже Аристотель упрекал его в том, что при таком взгляде фактическая индивидуальная особенность вещей столь же необъяснима, как и их единство, и поэтому сам он понимал форму как единство общего и особенного. Однако и он не смог объяснить фактическое единство и особенность вещей из простого союза формы и субстанции; он не смог показать, как форма принуждается к конкретизации через ее союз с субстанцией. Однако, согласно Плотину, конкретное существует не только в общем, и последнее как таковое есть, следовательно, многоединое, но многоединое имеет самостоятельное существование до и независимо от субстанции и соединяется с ней, лишь воздействуя на нее извне, так сказать. Таким образом, Плотин обобщает платоновскую концепцию идеи как трансцендентного существа, независимого от самого себя, с аристотелевской концепцией формы как единства общего и частного и рассматривает умопостигаемое как царство сверхчувственных частностей, все из которых сводят друг друга к моментам высшего всеобъемлющего единства.
Если Платон знал только родовые и видовые идеи, то Плотин также утверждает существование индивидуальных идей, которые аннулируются в видовых идеях; И даже если он с оговорками допускает, ради незамутненной чистоты, совершенства и сверхчувственной возвышенности умопостигаемого, идеи также дурных, заблуждений, скверны и тому подобных вещей (V 9, 14), он все же принципиально убежден, что по крайней мере каждый природный продукт, будь то неорганический элемент, организм или мировое тело, имеет свой идеальный архетип в умопостигаемом (VI 7, 8—12). Действительно, даже неразумное и низменное, равно как и человеческие искусства, существуют там в понятийной форме, по крайней мере, в той мере, в какой их чувственная субстанция игнорируется и рассматриваются только их сущностные характеристики, например, гармония и ритм в музыке, симметрия в архитектуре и т. д. (V 9, 11). (V 9, 11).
Таким образом, идеальных архетипов столько же, сколько индивидуальных существований в мире чувств, и это, как справедливо подчеркивает Плотин, потому, что нет двух вещей, которые были бы полностью похожи друг на друга, и отличительные характеристики индивидов не могут быть объяснены общим архетипом, как это предполагает Платон. Идея человека не одна для всех людей, но у Сократа, Пифагора и т. д. у каждого своя идея; и каждая из этих идей сама по себе включает столько идей, сколько есть особенностей в соответствующих индивидах, которые не добавляются к ним случайно, но присущи им. Весь мир чувств со всеми его деталями, таким образом, имеет свой аналог в умопостигаемом и в идеале заранее сформирован в нем. Однако у нас нет причин обижаться на бесконечность (άπειρία) числа идей. Ибо это только кажущееся, тогда как на самом деле число идей вполне определенно как в каждый момент, так и в пределах мирового периода, а бесконечное есть лишь продукт человеческого рефлективного счета (V 7, 1. 3; VI 6, 18). Когда индивид появляется на свет или умирает, принадлежащая ему идея возникает из совокупности идей или отступает в них, и она меняется в соответствии с изменениями чувственных свойств. Но число идей в целом всегда остается неизменным; и то, что кажется добавлением новых идей или утратой существующих, на самом деле есть лишь иное возникновение числа идеальных архетипов, данных и предопределенных раз и навсегда в течение мирового периода (V 7, 1—3).
То, что умопостигаемое на самом деле есть множество-одно, а не, как думает Платон, множественность, которая лишь каким-то образом «участвует» в единстве, ясно уже из его концептуальной природы. Ведь понятие по самой своей природе включает в себя множественность определений, подобно тому как, например, понятие растения или животного содержит в себе совокупность всех тех определений как логически необходимых моментов, которые в действительности определяют растение или животное; и, согласно Плотину, любовь к (умопостигаемой) вселенной состоит в том, что в умопостигаемом все едино и не может быть отделено друг от друга (VI 7, 14). Поэтому идеи существуют друг в друге, подобно тому как моменты понятия существуют в этом понятии и могут быть отделены от него и сделаны самостоятельными только путем дискурсивной рефлексии. Действительно, идеи настолько взаимопроникают друг в друга, как множество центров, объединенных в единый центр, что не одна возникает из другой, но все возникают из целого, и каждое понятие определяется следующим, более высоким, которое в свою очередь определяется окружающим его более высоким, которое в свою очередь определяется еще более высоким и более общим, и так далее. Каждая отдельная идея, таким образом, относится к целому, более того, сама является целым, только в определенной форме, поскольку она неявно содержит целое в себе и в каждом своем определении отсылает к последнему, так что везде все, каждое отдельное есть все, частное есть в то же время общее (V8,4; VI 5, 5; III 2,1). Целое действует на целое с целым и снова действует на часть с целым, т. е. каждое воздействие целого на части есть в то же время воздействие частей на целое. Поэтому, даже если часть первоначально испытывает воздействие только как часть, результатом всегда является снова целое (VI 5, 6). Отдельная идея представляет собой целое, подобно тому как отдельная лошадь представляет собой совокупность всех лошадей или род лошадей, а также млекопитающих и т. д.; и целое – это не просто сумма его частей, но то, что порождает части и всеобъемлющую и всеобъемлющую их совокупность (III 7, 4).
Поскольку умопостигаемое имеет множество не вне себя, а непосредственно из себя и вне себя, или поскольку оно поместило множество в себя, оно едино в гораздо большей степени, чем разумное, которое впервые получило свое единство от разумного. В самом деле, один только prius и порождающий принцип множественности является истинно единым; он таков настолько, что если бы можно было отнять одно из многих, поскольку они тождественны ему, то тем самым уничтожили бы и само Единое. Истинно Единое есть всеобъемлющее понятие, и потому оно не выходит за пределы себя, поскольку для него нет внешнего, но находится повсюду в себе и с собой, не теряя себя каким-либо образом во множественности (VI 5, 9 и 10). В мире чувств, конечно, вещи существуют рядом и вне друг друга, ограничивают и вытесняют друг друга; там также множественность и единство распадаются, единое возникает из многого, часть как таковая не является в то же время целым и действительно есть части, которые существуют отдельно от целого. В умопостигаемом, напротив, все находится друг в друге, ни одно не исключает другое из себя, все как бы находится друг в друге, одно, так сказать, прозрачно для другого (V 8, 4). Причина этого, однако, кроется в том, что интеллигибельное является чисто понятийным и исключает всякую чувственную материальность. Ведь только в пределах чувств, вдали от их материальной основы, переплетение идей представляется пространственно-временным расчленением, и объекты предстают друг перед другом как независимые и отличные (VI 5, 10). В умопостигаемом, напротив, все вместе и, тем не менее, раздельно. Здесь, подобно силам в семени, все понятия слиты воедино, как бы в центре; и как силы, заключенные в семени, по своей природе сами являются понятиями, которые, в свою очередь, заключают в себе большинство понятийных моментов и развертываются изнутри чисто в соответствии с логическими точками зрения, так и умопостигаемое, как я уже говорил, есть родовое понятие, заключающее в себе множество видовых понятий и, следовательно, также не имеющее никакого отношения к барьерам и запретам чувственно-телесного существования (V 9, 6).
Принцип мира чувств, определяющий их различия и реализующий нереальную в себе материальность, есть многоединое умопостигаемое без всякой нереальности, реальное par excellence, «существующее» (το ὂν) в превосходном смысле. Истинно единое, таким образом, есть истинно существующее; и поскольку множественность, составляющая его определение, является логической или понятийной, или поскольку именно понятия (идеи) составляют содержание единого, умопостигаемое для Плотина совпадает с нусом, интеллектом, разумом, и даже с абсолютным разумом, поскольку он включает в себя совокупность всех идей в себе. Идеи вместе образуют умопостигаемый мир, космос ноэтос. Последний, таким образом, относится к nus, как множественность его существенных моментов относится к всеобъемлющей форме высшего родового понятия, как продукт относится к производителю, но продукт, который при возникновении не выходит из своей производящей основы, а остается в ней, поскольку он представляет собой только ее существенную детерминацию. Как совокупность всех идей, интеллигибельный космос, однако, абсолютно совершенен и не имеет недостатка, это «истинная вселенная», абсолютная совокупность всех существующих объектов, которая ничего не имеет, к которой ничего нельзя добавить, но у которой также ничего нельзя отнять, и для которой, следовательно, не может быть ни будущего, ни прошлого, поскольку первое предполагало бы, что она еще не имеет чего-то, а второе – что она имеет что-то, но снова потеряла. Мир идей, следовательно, также не подвержен случайности, поскольку это включает в себя возможность того, что с ним может что-то произойти извне, что на него можно воздействовать, и поэтому он не содержит в себе уже все бытие. Поэтому оно есть все по необходимости, без всякого изменения, истинное бытие, которое никогда не может не быть, ни быть иным, всегда неизменное бытие без временных различий, безраздельное совершенство, непосредственное, абсолютное присутствие всех вещей, которое Плотин также называет их вечностью (III 7, 3—6). В этой вневременной вечности и неизменности умопостигаемого мира заключается его покой или постоянство (στάσις). Но интеллект, содержащий этот мир в себе как свою судьбу, не просто вечен сам по себе, поскольку он находится вне времени и пространства, но, спокойно сохраняясь в себе и не выходя из себя, он в то же время является постоянной насыщенностью и полнотой (κορος) (V 9. 8).
Теперь многоединый интеллект – это не просто истинно существующее, поскольку оно лишено всякого недостатка и всякой неактуальности, но актуальное, именно по этой причине одновременно и истинно активное, абсолютная энергия или активность, поскольку оно во всех отношениях составляет контраст пассивной инертной субстанции и его реализация субстанции состоит в том, что оно действует на нее по своей воле (V 3, 7; V 8, 9). Сама субстанция лишена активности и жизненности и не способна придать их себе. Интеллект же есть абсолютная спонтанность без всякой восприимчивости («actus purus»), поскольку в противном случае он не был бы истинно существующим и содержал бы в себе тотальность всего сущего. Но ее действенность истинна только потому, что она направлена не на что-то другое, а исключительно на саму себя (V 3, 7). По этой причине, однако, мир идей и интеллекта есть также царство свободы, а истинная свобода существует только в умопостигаемом, поскольку бытие и деятельность в нем тождественны, а деятельность интеллекта неограниченна и абсолютно спонтанна (VI 8, 4 и 5).
Вечность или вневременное настоящее есть, следовательно, в то же время бесконечная жизнь, ибо она есть жизнь в своей тотальности и, благодаря исключению прошлого и будущего, на которых основана тотальность, ничего от себя не требует (III 7, 3 и 5). Покой или постоянство в интеллигенции есть в то же время движение (κίνησις). Интеллект не имеет жизни, но сам является жизнью; бытие и жизнь интеллекта тождественны. Точно так же, однако, покой и движение не являются его простыми состояниями, но движение есть его деятельность, и это само по себе является его реальностью или бытием, которое, как мы видели, едино с покоем или вечностью. Как бытие или покой относится к единству и цельности, так движение или жизнь относится к множественности, различию и разделенности умопостигаемого; эти два понятия могут быть разделены только в мысли или в дискурсивном размышлении, но в действительности они едины, так же как мы обнаружили, что единство и множественность едины в умопостигаемом и что последнее по своей природе много и едино (VI 2, 6—8; VI 9, 2).