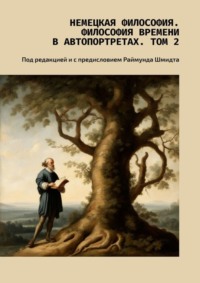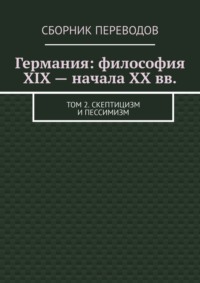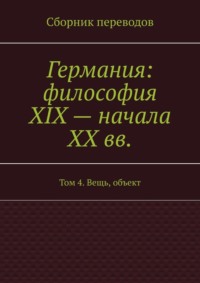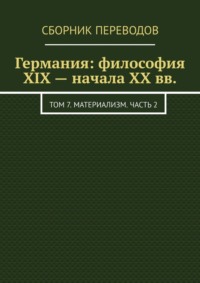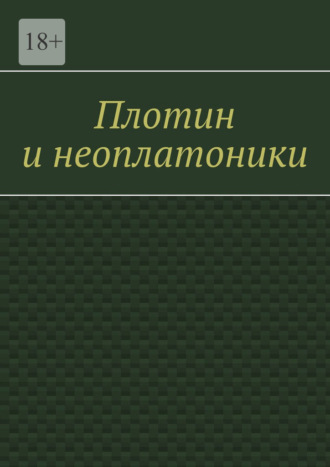
Полная версия
Плотин и неоплатоники
Во всем этом вновь и вновь проявляется стремление Плотина вывести Единое за пределы множественности и определенности и тем самым спасти его от растворения в относительном. Как бы философ ни крутился и ни вертелся: нельзя снять противоречие, что Единое, с одной стороны, лишено всех различий и определенности, с другой но в то же время не просто способность к функции видения, но и возможность всех вещей, подразумеваемая множественность умопостигаемых определений. Плотину бесполезно приписывать Единому только беспрестанное воление или стремление видеть, инициативу к акту видения, но представлять себе сам акт видения как таковой и тем самым развертывание множественности мира идей как деятельность интеллекта (III 8, 8). Ибо деятельность действительно едина со своим объектом в Едином, и этот объект должен быть множественностью, а Единое, следовательно, уже как таковая множественность, конкретное Единое, чтобы быть в состоянии произвести конкретную множественность и реальность из себя. Даже если бы насильственное отделение субъекта от функции, субстанции от атрибута, потенции от акта не было фундаментальной ошибкой Плотина, он все равно не смог бы спасти абстрактность и бессодержательность Единого этим допущением, поскольку чистая зрительная функция не могла бы прийти к какому-либо содержанию, если бы не нашла его в самом Едином. Плотин видит себя здесь перед лицом точно такой же трудности, как и Шопенгауэр, чья собственная актуальная концепция явно напоминает античную. Шопенгауэр также полагает, что может объяснить множественность мира идей непосредственно из воли как таковой, хотя совершенно неясно, как простая, пустая, слепая воля должна быть способна видеть сама по себе и порождать идею из самой себя. Таким образом, хотя Единое может быть волей и актуализировать интеллект через свое воление или вызывать его к бытию, оно, будучи Единым, должно в то же время включать в себя идеальную множественность. Таким образом, интеллект не может быть чем-то отдельным и отличным от Единого, но лишь совокупностью идеальных детерминаций Единого, которые его воля воплощает в умопостигаемую реальность». —
Деятельность воли Единого предстает перед нами как развертывание Единого в множественность; и эта множественность, произведенная таким образом, есть интеллект. Будучи продуктом Единого, интеллект полностью зависит от него, держится и поддерживается им. А поскольку, как уже было показано, все остальное в свою очередь зависит от интеллекта, все сущее, следовательно, зависит от Единого, имеет в нем основание и цель своего существования и, в соответствии с интеллектом, вращается как бы вокруг центра Единого. Сила, исходящая от Единого, проникает в каждое существо, но не отделяется от его истоков. В то же время Единое полностью содержится в каждом существе со своей безраздельной абсолютной силой, подобно тому как весь мир идей одновременно является отдельной идеей или каждая идея в то же время представляет собой целое (VI4, 9). Единая жизнь, таким образом, протекает через всю вселенную. Солнце излучает вселенную как круг света и освещает все. В одной точке сходятся все нити взаимоотношений индивидов как их общий центр (VI 5,55 VI 9, 8). Все есть одно, и одно есть все. Все можно вывести и познать из Единого; по-настоящему познаваемым оно становится только тогда, когда восходит к Единому как к своему основанию и сущности. Действительно, Единое настолько необходимо для бытия, что без него мы не можем ни сказать, ни помыслить ничего другого, поскольку даже обозначения массы, множественности и т. д. имеют в качестве предпосылки Единое, каждое число является числом только через Единое, каждое нечто является единством, указывающим на абсолютное единство, подобно тому как греческое выражение для бытия, а именно είναι, по мнению Плотина, происходит от ἒν (Единое), а бытие есть не что иное, как след Единого (VI 6, 12—13; V 5, 5). Таким образом, каждое есть то, что оно есть, только благодаря силе Единого, а без Единого оно не есть вообще, подобно тому как свет не отделен от своего происхождения, а зеркальное изображение не отделено от отраженного объекта (V 3, 15; VI 4, 9; VI 9, 1).
Это Единый, который все создал, но все же поддерживает все в существовании (V 3, 15), который заставляет мыслящее мыслить, живое жить, который вдыхает разум и жизнь, а также дает существование безжизненному (VI, 7, 23). На вопрос, мог ли Единый не создавать вещи, является ли существование необходимым или случайным, Плотин отвечает, что в природе Единого, как Блага, вызывать к бытию множество (V 5, 12). В зависимости от степени своего совершенства мы видим, как вещи порождают и создают других, с намерением и без намерения. Даже бестелесное передает то, на что оно способно:
огонь согревает, снег охлаждает, травы исцеляют – должна ли самая совершенная и первая вещь оставаться одна в себе и ревновать к самой себе или быть бессильной, когда она сама является абсолютной силой всего сущего? (V 4, 1). Единое не было бы Благом, не было бы тождеством действия и бытия, если бы оно, будучи бесконечной способностью, не реализовало в то же время возможность, заключенную в нем от вечности (VI 8, 4).
Но поскольку Единое есть Благо, оно в силу своего совершенства не только перетекает во множественность и как бы выводит Другого из себя в бытие, но и в то же время притягивает сотворенное к себе и возвращает его из состояния инаковости и замкнутости в свое абсолютное единство. Как мы видели, что возникновение Единого из самого себя в порождении интеллекта есть в то же время возвращение к самому себе и что бытие становится мышлением, поскольку ставшее обращается к своему происхождению (ст. 2, 1), так и всякое движение и деятельность в целом стремится к благу; и все не только через благо, но и стремится к благу в результате естественной необходимости и действует только ради блага (ст. 5, 12; ст. 6, 5). Как интеллект обращен к своему творцу, так и все сотворенные вещи, поскольку они нуждаются в нем для своего существования, обращены к Единому, любят Единое, стремятся к нему и в разной степени стремятся его постичь. Поэтому и не-единое стремится стать единым настолько, насколько это возможно: природы влекутся друг к другу врожденным стремлением, более того, даже души желают слиться в единство, сохранив свою собственную сущность; ибо это стремление к Единому, которое проявляется в отношениях различных друг к другу как стремление к единству, предстает внутри каждого индивида как естественное стремление к самосохранению и самореализации, поскольку самость или субстанциальная сущность каждого есть не что иное, как Единое, и тождество существ с собой и единство их природы основано на Едином (V 3, 15; VI 2, 11; VI 5. 1).
Таким образом, Единый – это и происхождение всех существ, и их цель: все исходит из него и все стремится к нему; только так он один является благом, без которого нельзя было бы ни увидеть ничего, ни обрести статус и бытие (V 2, 11). Каждый индивид тождественен Единому, которое проявляется в нем. Но каждый индивид также отличен от него, поскольку он – лишь его видимость, его эффект, его продукт, нечто производное от него и, следовательно, изначально не Единое. По этой причине оно не может обладать той же степенью совершенства, что и Единое. Ведь одно из главных положений Плотина гласит, что ставшее и производное никогда не может обладать тем же совершенством и, следовательно, ни той же силой, ни той же единой природой, что и Первое и Первоначальное (V 1, 6). Как то, что происходит от Единого, должно быть не-единым, множественным, так и это должно быть ниже и нужнее Единого, сколько бы оно ни было лишь подражанием, тенью или отражением Единого и подобным ему (V 5, 5). Но это несовершенство растет тем больше, чем дальше нечто отстоит от Единого, чем больше промежуточных звеньев отделяет его от первоисточника, чем ниже мы опускаемся в цепи причин и следствий. Каждая сотворенная вещь, в свою очередь, творчески активна: она развивает заложенные в нее Единым возможности, как семя из неделимого начала, и доводит их до совершенства, причем так, что, подобно Единому, сама спокойно пребывает в своем особом состоянии, в то время как из нее возникает Другое. Но тварь всегда меньше Творца, и это развитие идет до тех пор, пока все не достигнет крайнего предела в пределах возможного (IV 8, 6). Таким образом, совокупность существующего представляет собой иерархию от высшего к низшему (V 2, 2; V 4, 11), процесс не вверх, а вниз (V 3, 16), последовательность ступеней, постепенно расширяющийся круг, в котором несовершенство ступеней увеличивается по мере их удаления от Единого и от существующего; ибо при этом их сила слабеет в той же степени, единство расходится во множественность и разнообразие, бытие уменьшается, свет, исходящий от Единого, меркнет и, наконец, полностью теряется во тьме небытия (VI 2, 5).
В этой идее убывающего совершенства бытия легко распознать старый натуралистический взгляд на вещи, согласно которому низкому и несовершенному придается значение пространственно более низкого и низкого положения в смысле определения ценности, взгляд на вещи, который наиболее решительно представлен персидской религией Заратустры и который основан на чувственном представлении о солнце и свете. Даже Плотину еще не удалось полностью преодолеть этот чувственный натурализм, каким бы духовным ни был его исходный принцип в других отношениях. Ибо, даже если этот способ зачатия поначалу явно подразумевается им только как образ и, следовательно, чисто символически, в результате его тенденции гипостазировать атрибуты и функции Аллеина и раздувать их в самостоятельные сущности, образ невольно занимает место понятия и ставит его мировоззрение под подозрение натуралистической системы эманации, как бы решительно Плотин ни старался защититься от идеи пространственно-временного истечения его детерминаций из первоматерии. Фактический взгляд Плотина был справедливо назван Целлером «динамическим пантеизмом». Ибо, согласно этому взгляду, первопринцип или Единое имманентно многим не так, что само становится чем-то из того, что им положено в бытие, но так, что все существующее порождено им, что вещи не сами по себе, но лишь выражения силы, как бы частичные функции Единого, и удерживаются и поддерживаются в бытии им (VI 2, 2; VI 4, 3). Однако Единое не совпадает ни с одной из существующих вещей, ни с суммой всех существующих вещей, но, как таковое, возвышается над бытием как таковым (там же, ср. III 9, 3 и VI 2, 3). Плотин стремится разъяснить это на примере звука, который слышен по всему воздуху и одновременно воспринимается многими ушами, не теряя при этом своего единства и цельности: как здесь целое существует само по себе, но при этом заполняет многие уши, так и бытие-в-себе Единого существует одновременно с его произнесением во многих вещах (VI 9, 12). Все, что существует, есть видимость Единого, более того, даже само бытие относится к сфере видимости; Единое же есть первичное бытие, первичное основание, первичная субстанция и в то же время первичный субъект всего, так как вся деятельность в сфере бытия в конечном счете есть лишь деятельность Единого. Единое, таким образом, не существует, а пребывает во всем, т. е. все существующее есть лишь особый феномен Единого. Эта идея настолько нова только для античного мировоззрения, и Плотин настолько озабочен тем, чтобы отличить Единое как таковое от существующего, чтобы предотвратить эманационистское и натуралистическое смешение этих двух понятий и тем самым скептическое разложение понятия бытия, что только по этой причине он низводит пантеистическую имманентность Единого во всех вещах до простого неопределенного «участия» всех вещей в Едином и, вместо того чтобы придерживаться взгляда на индивидов как на непосредственные выражения Единого, допускает, что их существование опосредовано постепенными промежуточными ступенями и переходами (V 3, 17; VI 8, 21). Однако таким образом он, сам того не желая, впадает в натуралистический взгляд на вещи, и поэтому этот последний великий мыслитель античности, который более определенно, чем кто-либо другой, постиг понятие абсолютного духа, остается в неясном подвешенном состоянии между спиритуализмом и натурализмом. —
До сих пор мы понимали интеллект как энергию или мышление Единого как в субъективном, так и в объективном смысле, а Единое – как возможность всех вещей, которая реализуется в интеллекте. Аристотель приравнивал оппозицию возможности и актуальности, динамики и энергии к оппозиции субстанции (материи) и формы, понимая последнюю как пассивную чувственную материальность, поскольку она является вместилищем всех возможных детерминаций, помещенных в нее, а вторую – как активное понятие, которое формирует и образует субстанцию (ср. II 5, 1 и 2). Итак, если интеллект есть актуальность Единого и как таковая возможность, ставшая актуальной, то Плотин вполне мог бы обозначить его, как и Единое, как тождество возможности и актуальности и, в отношении этого аристотелевского определения, как тождество субстанции и формы, так что функция восприятия здесь представляла бы роль формирующего принципа, а содержание восприятия – формируемого, то есть субстанции, в той мере, в какой оно полностью определяется им (III 8, 11). Но теперь, как мы видели, функция восприятия или формирующего принципа должна быть только функцией Единого. Следовательно, если смотреть с этой точки зрения, Единое предстало как форма, а интеллект – как субстанция Единого, поскольку он получает форму от Единого и желает ее осуществления, подобно тому как, согласно Аристотелю, лишенная свойств субстанция стремится к понятийному определению и осуществлению (там же).
Здесь мы снова должны помнить, что в греческом языке слово dynamis используется как для обозначения возможности в активном смысле потенции энергии, а именно факультета, так и в пассивном смысле восприимчивого факультета, способного стать всем возможным, и что понятие энергии также включает в себя как реальность, так и деятельность или эффективность, которая ее производит. Если мы теперь понимаем dynamis и энергию в активном смысле, а именно как способность и действенность, то Единое, как возможность всего, есть способность, потенция энергии, воля, которая сама по себе переходит в деятельность; интеллект же есть энергия желания или видения, actus, действенность и действительность воли. Если же dynamis понимается как просто пассивная возможность, то энергия переходит на сторону Единого, т. е. интеллект – это возможность, пассивное место приема эффектов Единого. Оба различных значения этих слов, которые уже запутали всю метафизику Аристотеля, стали губительными и для Плотина. Иногда он представляет себе отношение Единого к интеллекту как отношение возможности к актуальности, способности к действенности или потенции к actus (III 8, 10), иногда – как отношение актуальности к возможности, энергии или действенности к тому, что ею осуществляется и определяется (III 8, n). Первое происходит, когда он стремится определить Единое как изначальную причинность, как абсолютную силу, которая в силу своей полноты переходит в бытие по собственной воле, второе – когда он стремится подчеркнуть зависимость интеллекта от Единого. Теперь, когда Плотин думает о dynamis, он невольно думает о субстанции, поскольку Аристотель понимал возможность в пассивном смысле. А поскольку, по его мнению, Единое должно быть не чем иным, как материей, и поскольку ему справедливо кажется верхом извращения ставить dynamis (в смысле материи) перед энергией (IV7, 11; VI 1, 26), он предпочитает называть его энергией или действенностью и, таким образом, формой, к которой должен относиться интеллект, как возможность, то есть как субстанцию, пассивно предлагающую себя для определения.
Если мы теперь рассмотрим интеллект с этой точки зрения, то он действительно является субстанцией для формирующей деятельности Единого, но он также является самой формой по отношению к миру идей, и это является субстанцией для формирующей деятельности интеллекта. Как интеллект есть мышление или энергия Единого в субъективном и объективном смысле, так и мир идей есть энергия, мышление интеллекта в субъективном и объективном смысле (V 1, 6). Мышление интеллекта в смысле родового субъективного есть форма, мышление интеллекта в смысле родового объективного есть субстанция умопостигаемого, и это именно мир идей, вся совокупность того, что мыслится интеллектом, содержание воззрения в отличие от формы воззрения, насколько оно определяется последней. Однако в качестве субстанции умопостигаемого мир идей есть душа, а именно абсолютная душа или мир-душа, поскольку она, будучи тождественной с миром идей, включает в себя все содержание последнего, а значит, и мира или вселенной (II 5, 3; III 9, 3; V 1, 3).
b) Мировая душа.
α) Мировая душа и рассудок.
Платон уже ввел мировую душу в качестве посреднического принципа между миром идей и миром чувств, не сумев, однако, уточнить отношения мировой души к миру идей, с одной стороны, и к миру чувств – с другой. Но другие философы, например, Филон, отождествлявший Дальнюю Душу с Нусом или Логосом, или Нумений, использовавший ее в качестве посреднического принципа (не говоря уже о платонизирующих гностиках), также просто утверждали ее существование, даже не пытаясь вывести Мировую Душу из первопринципа. Только Плотин проводит такое выведение на чисто логической и диалектической основе и тем самым пытается умозрительно решить фундаментальную проблему античной философии со времен Платона, а именно объединение духовного и природного.
В качестве средства объединения он вновь использует платоновское чередование двух генитивов и аристотелевское употребление терминов форма и субстанция, а также энергия и возможность.
Предполагается, что мир-душа – это энергия интеллекта в субъективном и объективном смысле. Как энергия интеллекта в субъективном смысле, то есть как исходящая от него активность или действенность, она ведет себя как форма (формирующий или определяющий принцип). Как энергия интеллекта в объективном смысле, в том смысле, что она направлена на интеллект, она ведет себя как субстанция реализации интеллекта. Там ее отношение к интеллекту – это отношение актуальности (действенности) к возможности (способности), здесь – отношение (пассивной) возможности к действенности. Теперь в интеллекте возможность тождественна его актуальности; интеллект есть чистая актуальность и действенность, поэтому мир-душа как актуальность или форма тождественна интеллекту как таковому. Следовательно, все, что остается для мировой души, – это более точное определение того, что она является субстанцией интеллекта, пассивной возможностью, которая представляет себя деятельности или энергии интеллекта для реализации и определения. Поскольку архетипы всего заключены в интеллигибельном, оно должно также содержать архетип субстанции, или субстанция должна быть заключена в нем, но не как чувственная, а как сверхчувственная, интеллигибельная, не как небытие, как вне интеллигибельного, а как бытие, не как субстанция, а как форма, не как становящееся и преходящее, а как вечное; и эта вечная, существующая, умопостигаемая, сформированная субстанция есть мировая душа (II 4, 3—5, 16). Как интеллект относится к Единому как субстанция, так и мировая душа относится к интеллекту как субстанция, поскольку она вбирает в себя формы или идеи как свои детерминации, наполняется ими через интеллект и тем самым представляет себя как вечное царство форм. И как интеллект содержится в Едином, так и мировая душа содержится в интеллекте (V 5, 9), так что интеллект представляет собой умопостигаемую форму или действенность мысли, а мировая душа – умопостигаемую субстанцию или возможность мысли, единство и тождество которых, как мы уже говорили, составляют сущность умопостигаемого.
Конечно, тот факт, что необходимость мировой души обосновывается чисто логическим путем, вряд ли найдет отклик. Ибо кто не видит, что вся эта крайне искусственная конструкция, основные черты которой скорее намекаются, чем действительно развиваются и последовательно реализуются у самого Плотина, равносильна путанице понятий, простой игре с выражениями субстанция и форма или возможность и действительность и двусмысленности их значения. Возобновление этих неудачных аристотелевских определений стало подводным камнем для любой философии; и, несмотря на все свои изобретательные усилия, Плотину не удалось и не удастся осуществить с их помощью переход от умопостигаемой к умопостигаемой сфере,
Когда Плотин определяет мир-душу как «энергию интеллекта», это было бы вполне логично, если бы имело целью лишь выразить тот факт, что необходима особая действенность, чтобы вывести мир идей, который сам по себе вечен, непространственен и в этом отношении просто возможен, в сферу пространственно-временной реальности. И было бы также совершенно правильным считать, что мир-душа, чтобы реализовать в себе чисто идеальный и формальный интеллект, должен быть добавлен к миру идей в качестве факультета, активного динамизма или силы. Теперь, однако, вмешалось второе значение dynamis в смысле пассивной возможности и, таким образом, аристотелевской субстанции, заставившее его приписать действенность как таковую исключительно интеллекту, чтобы отвести от него всякую мысль о простой пассивной возможности, и в то же время приравнять мир-душу, как силу реализации идей, к совокупности последних под именем умопостигаемой субстанции. В замечаниях Плотина об умопостигаемой субстанции иногда проскальзывает верная догадка, что мир идей, как царство одних только логических отношений, предполагает нечто, к чему относятся, с чем связаны отношения, что составляет основу отношений, что само не может быть отношением и, следовательно, также не логично, например, в утверждении, что мир-душа, как сила осуществления идей, есть основа отношений. Например, в утверждении, что ум в своем разделении и расчленении приходит в конце концов к простой вещи, которую уже нельзя разрешить, и когда он называет это глубиной каждого индивида, темной основой всего детерминированного бытия (II4, 5; ср. также III5, 7). Доктрина Плотина о разумной материи действительно время от времени понималась подобным образом и была вновь воспринята в этом смысле Якобом Бёме и Шеллингом. Но его фундаментальный панлогизм, для которого реальное совпадает с действенным или деятельностью, а последняя – с мыслью или логическим, снова и снова мешает ему по-настоящему понять идею алогического мирового принципа; а его высказывания об интеллигибельной материи не оставляют сомнений в том, что для него это одно и то же с миром идей, как материальной возможностью мысли, и в этом смысле с миром-душой (ср., например, Il4,3, и 5,3).
Но если мир-душа есть не что иное, как мир идей внутри интеллекта, и представляет собой лишь особую концепцию первого, а именно с точки зрения субстанции, можем ли мы тогда утверждать, что, выводя этот принцип из интеллекта, мы каким-то образом приблизились к чувственной реальности? Согласно тем скудным намекам, которые дает на этот счет Плотин, мир-душа должен отличаться от мира идей рассудка только своей пространственно-временной детерминацией. Сама мир-душа, возвышающаяся над обоими, как и интеллект, порождает пространство и время (V 1, 10; V 5, 9; IV 3, 9; IV 4, 15—16), поскольку она рассматривает то, что в интеллекте или мире идей образует взаимосвязь всех форм, как одну вне другой и одну за другой. Понятно, что это определение получается уже не чисто логическим и дедуктивным путем из понятия рассудка, а только через латеральный взгляд на чувственно-материальную реальность, в котором пространственно-временная форма представляет собой наиболее общую форму всех субстанциальных определений.
Однако при этом понятийная лестница, по которой он спускается от Единого к миру чувств, обрывается в той же точке, что и у Спинозы и Гегеля, как и всякое выведение данного бытия из неких высших понятий, а именно при переходе от идеи к природе, от разума к реальности, от умопостигаемого, вечного и непространственного к чувственному, пространственно-временному миру опыта; И никакое искусство диалектики не способно преодолеть зияющую пропасть между идеальным и реальным бытием. Причина, по которой Плотин считал себя оправданным вводить определение пространственности в мир-душу, очевидно, заключалась в том, что мир-душа или умопостигаемая субстанция не является «субстанцией» в первом и первоначальном, но только в производном, втором смысле, то есть она должна иметь «субстанцию» интеллекта как первый способ субстанции между собой и Единым и таким образом быть настолько же далекой от последнего, насколько она ближе к миру чувств. Таким образом, мир идей как мир-душа должен быть еще умопостигаемым, но уже содержать в себе наиболее общее определение конечного существования – пространство-время. Как будто термин «субстанция» не был для них совершенно произвольным выбором, обусловленным двойным значением слова dynamis и приравниванием пассивной возможности к актуальной субстанции! Как будто интеллект действительно приближается к реальной субстанции, если философ называет ее субстанцией! Плотин, похоже, обманывает себя тем, что, многократно диалектически меняя понятия формы и субстанции друг на друга, он отдаляется от Единого и приближается к чувственной реальности в той мере, в какой он вставляет понятие субстанции между ней и Единым. Он воображает, что может достичь сверхчувственного или умопостигаемого из сверхчувственного или умопостигаемого и от него далее к чувственному бытию чисто понятийными средствами. Но это именно ошибка новейшего рационализма со времен Декарта, нашедшая свое крайнее выражение в гегелевской диалектике, с той лишь разницей, что последняя для достижения своей цели использует понятия бытия и сознания, которые она диалектически превращает друг в друга и использует друг для друга, тогда как Плотину приходится вместо этого использовать выражения субстанции и формы, энергии и возможности, чтобы невозможное казалось реальным. Однако оба метода основаны на неудачном чередовании различных генитивов как окончательном определяющем мотиве, без постоянного взаимодействия которых в ходе дедукции последняя не сдвинулась бы с места ни здесь, ни там.39