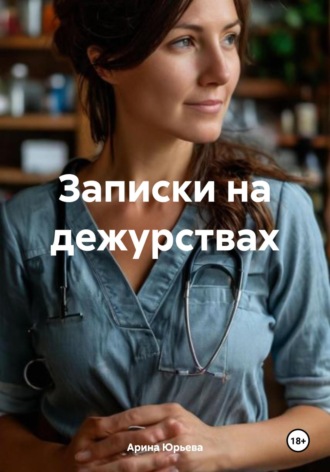
Полная версия
Записки на дежурствах
Ну а Фетиса обычно стояла чуть позади нее, в качестве аргумента используя ласковый взгляд наемного убийцы и многозначительное красноречивое молчание.
Своего, короче, мы добивались в ста процентах случаев из ста-проще было не связываться.
Тем более, что желания и цели наши были вполне благородные: знания и практика.
Больше, чем полагалось и непременно-медицинские, а не мытье окон и дверей, лишь бы занять нас хоть чем-нибудь.
Таким образом мы, например, добились возможности выходить на суточные дежурства.
Нам очень этого хотелось, потому что было понятно: только так можно хоть чему-нибудь действительно научиться, а не просто болтаться под ногами у персонала.
Но существующие тогда правила однозначно рекомендовали: практические занятия проводятся исключительно в будние дни, с утра и до обеда.
Объяснялось это тем, что наши кураторы тоже люди и работают пятидневку, а отвечать за нас без них никто не собирался.
Нам же это казалось жутко несправедливым, и мы боролись с этим обстоятельством, как могли.
Прилежно проходя положенную практику и не отказываясь никогда ни от какой работы на отделении, проявляя дополнительную инициативу и схватывая на лету все то, что нам давали попробовать, мы незаметно обросли довольно серьезной группой поддержки.
Преподаватели, куратор курса, старшая медсестра отделения-многие готовы были за нас поручиться.
И мы сочинили пронзительный текст, описывающий наш огромный интерес к практической медицине, а также суровые препятствия к реализации наших стремлений в виде существующих правил.
Обращение наше было омыто слезами подписано всеми, кому мы его показали, отнесено директору и зарегистрировано секретарем-короче все, как полагается!
И вот, проделав все это, мы приступили к ожиданию результата. А чтобы директор нечаянно не подумал, что это был разовый крик души, мы регулярно посещали приемную лично.
Подозреваю, что однажды он начал видеть нас во сне, и тогда махнул рукой: черт с вами, можно!
Издал отдельное, специальное дополнение к основному приказу, и мы втроем, наконец, получили доступ к Настоящим Ночным Дежурствам.
Вот о них как раз и пойдет дальше речь.
«Третья истребительная,
вторая травма»
Именно так, «третья истребительная», в народе называлась Городская больница номер три, впоследствии ставшая Елизаветинской.
Название красноречиво отражало суть: выздоравливали там исключительно самые мотивированные и стойкие, прочие же предпочитали просто не попадать.
И дело даже не в том, что там были плохие врачи-да нет, как и везде, врачи там были разные.
Дело было скорее в общей убогости медицинских учреждений на тот момент: хронической нехватке лекарственных препаратов, устаревшем оборудовании (там, где оно вообще было), принципиальном отсутствии элементарных расходников, не говоря уже о чем-то более серьезном. Всему, что чудом оказывалось в наличии, мы старались продлить жизнь, как могли. Перчатки, например, полагалось после использования стирать, сушить на батарее, пересыпать тальком и укладывая в железные биксы плотными рулончиками в ветоши, сдавать на стерилизацию. После третьего-четвертого раза они рассыпались в труху непосредственно на руках, и важно было этот момент отследить еще на этапе заворачивания в ветошь. Подозрительные экземпляры, разумеется, не выбрасывались, но уже и не стерилизовались, а бережно разрезанные, превращались в хозяйственные резинки и украшали потом пачки направлений.
Мы попали на второе отделение сочетанной травмы.
Эххх, веселое было место! Кто и когда, как правило, получает травмы? Молодые да смелые, познающие сочетание различных видов алкогольной продукции (а иногда и сопутствующих сильнодействующих товаров) с различными видами бытовых приборов и транспортных средств.
Конечно, был и определенный процент бабушек с переломами шейки бедра, но как-то большая часть- именно молодые да задорные парни.
Даже лежа на многонедельных вытяжках с привязанными к конечностям гирями, в самых немыслимых для жизни позах или загипсованные так, что снаружи оставалось не больше одной четвертой от всего пациента, они не теряли присутствия духа, а мелькание на отделении молодых девчонок вдохновляло их на красноречивые повествования о своих приключениях.
Были там и «шел-упал-не помню дальше», и романтики, сорвавшиеся с крыш или балконов, и серьезные дяденьки после огнестрелов, и случайные жертвы ДТП, и бомжи, упавшие в канализационные люки -историй было множество!
Но некоторые из пациентов запомнились особенно и даже благодаря нам-пересеклись.
Глава 3
История первая. Надя. Начало.
Лет Наде было сорок шесть, и она являлась «лицом без определенного места жительства».
Классика жанра того времени: алкоголь-черные риелторы-лишение квартиры-снова алкоголь, но уже на улице. Ноябрь, дождь, ДТП по пьяной лавочке, сложный перелом, стационар.
Когда мы вышли на практику, Надя уже лежала там.
Место ее было в коридоре, прямо напротив поста-не потому, что в палату не пускали, а потому что сначала не было мест, а потом она и сама не хотела, в коридоре интереснее и воздуха больше. Если бы нам не сказали, что эта женщина живет на улице-вот в жизни, не догадались бы! Надя свободно говорила и читала на трех языках: английском, немецком и французском, а также немного говорила на итальянском. У нее были удивительно тонкие пальцы и черты лица, она умела рисовать и играть на рояле, но-жила на улице. Потому что пила безбожно и считала, что именно в уличной жизни есть близкая ей философия. Подружились мы с ней с первого взгляда и в любой свободный момент приходили поболтать. И надо сказать, что беседы эти бывали поинтереснее, чем диалоги с преподавателем философии. Мы обязательно приносили ей в подарок разные мелочи и Надя радовалась всему: яблоку, детскому крему, карандашам и тетради, заколке для волос. Сначала она долго лежала на вытяжке, потом ее прооперировали и она снова долго лежала, но в какой-то момент все равно замелькала перспектива выписки и тут все немного растерялись, т.к. идти Наде было некуда. Точнее-обратно на улицу. А после сложной операции на ноге оказаться на улице в снежном и морозном мартовском Питере-это, считай, получить билет в один конец. Мы подняли всех: зав.отделением, своих кураторов, лечащих врачей. Ну не может быть так, чтобы это нельзя было решить! И представьте-все решилось! Неожиданно и счастливо, но прежде -вторая история.
История вторая. Павел.
Павел был классическим представителем «элиты» тех лет: бритый затылок, спортивный костюм, отдельная палата и «мальчики» с автоматами у входа. В карте пациента, в разделе «профессия» лаконично было обозначено «спортсмен». Поступил «спортсмен» с огнестрелом в мягкие ткани плеча. Я попала в его палату случайно, меня посадили караулить пациента после операции: не давать упасть с кровати, пока наркоз не отошел до конца, дать попить, как отойдет и звать врача-во всех остальных случаях. Суровые мальчики на входе попросили показать карманы, после чего разрешили войти. Постепенно Павел пришел в себя, попил воды, выслушал рекомендации доктора и повеселел: все оказалось не очень и серьезно, но нужно было полежать здесь еще около недели. После такой радостной новости повеселели и приближенные Павла, немедленно позвонили кому-то там по сотовому телефону размером с небольшой томик Пушкина и почти сразу же в больнице начались неведомые доселе чудеса. В нашем отделении внезапно появились перчатки, одноразовые шприцы (да-да, это те доисторические времена, когда шприцы были в основном стеклянные!), перевязочный материал и новый тонометр. Кормили пациента из ресторанов, доставка приезжала трижды в день: завтрак-обед-ужин. Кроме того, щедро угощался и персонал: фрукты, сладости, чай и кофе-рекой! Павел и его охрана оказались веселым, общительными и совсем не страшными. Мы с удовольствием вечерами сидели в их компании и в какой -то момент …рассказали про Надю.
Что-то Павел и так про нее уже знал, ведь не заметить кровать около поста было сложно. А вот подробнее узнал уже от нас. С этого момента и Надя стала получать персональные презенты в виде недорогой одежды, обуви и каких-то мелочей, которые обычно есть у любого человека, живущего дома, но недоступных тем, кто живет на улице.
А потом Павел неожиданно ушел. До выписки оставалось два дня, но все вдруг резко переменилось: все стали собранными и неулыбчивыми, ужинать сели одни, никого из нас не приглашая, и снова выставив охрану у входа, а потом… появился полностью одетый и очень серьезный Павел, а за ним- мальчики с вещами. Было понятно, что это не обычная выписка и вопросов задавать не стоит, поэтому я просто начала стирать его фамилию с доски назначений. Но тут Павел все же обернулся и подошел ко мне. Я, говорит, ухожу- так надо. Бумажки ваши мне не нужны, доктору скажи, что благодарен. А это, говорит-тебе. И протянул листок с цифрами. Звони, если вдруг будет нужна моя помощь. А потом повернулся и очень быстро пошел к выходу.
История третья. Надя, продолжение.
Время выписки Нади приближалось. Благодаря неравнодушию заведующего отделением и лечащего врача мы узнали, что существует некий приют стационарного типа, куда Надю могут перевести из больницы и где можно пожить какое-то время, обычно-не больше месяца. Это конечно было не самое идеальное решение, но оно позволяло выиграть некоторое время и подумать, что делать дальше. Мы взяли Надины документы и поехали узнавать все на месте.
Приют выглядел удручающе… Огромные палаты на 8-10 человек и таких палат-около десятка, общий туалет, один на все отделение, неработающий душ и дивный запах тушеной капусты вперемешку с запахом грязной тряпки… Впрочем, выбирать не приходилось: даже это все равно было лучше, чем мартовский мороз и подворотня!
Мы записали Надю в список нуждающихся и всего через пару дней она получила место в этом «дворце». Переезд состоялся силами нашей больницы, Надю погрузили в «скорую» да отвезли, ходила она еще плохо. Мы пообещали ее навещать и ушли в задумчивости…
…И вот месяц Надиной жизни в приюте уже на исходе.
На улице – конец апреля, Наде конечно стало намного лучше, но так не хотелось возвращать ее туда, откуда она ушла в ноябре! К тому же все это время она не употребляла алкоголь, поправилась и порозовела, и неожиданно осознала, что, пожалуй, хватит: ей нравится трезвый образ жизни и очень хочется ну хоть какую-то крышу над головой. Навестив ее в очередной раз и вернувшись домой, я рассказала о ней маме. Мама ответила, что вовсе не дело возвращать человека на улицу, надо что- то придумать, ну а пока -можно забрать ее к нам. Конечно, это не могло быть навсегда. Понятно, что даже на время приютить человека с такой биографией… риски были огромные…но разве можно всегда поступать только логично? Иногда думаешь сердцем.
Поэтому из приюта Надя приехала к нам.
И началась домашняя жизнь.
Мы отметили мой День Рождения. Мы придумывали «сто новых блюд из картошки», потому что именно этот продукт был в изобилии, а вот остальных -почти что и не было. Мы переводили на русский язык мои любимые песни, я записывала тексты в тетрадь, а потом Надя рисовала к ним иллюстрации. И конечно, мы постоянно думали, что же нам делать дальше…
А потом меня внезапно озарило: Павел.
В моем представлении о реальности он был кем-то вроде Деда Мороза, потому и подумала о нем я далеко не сразу. Но если уж кто и мог решить эту задачу, то только он.
Нашла бумажку с телефоном.
Долго сомневалась – а вспомнит ли? Но все же позвонила.
Вспомнил сразу. Я начала рассказывать ему про Надю, но оказалось, что он помнил и ее тоже. Очень удивился, что она живет у нас. Обещал подумать и перезвонить. А у нас появилась надежда для Надежды.
Перезвонил он почти через неделю и предложение его было невероятным до сказочности!
У него был дом в пригороде. Там постоянно никто не жил, но вот приезжали часто, по делам и просто отдохнуть.
В этом доме Павел и предложил жить и работать Наде.
Без зарплаты, но на полном обеспечении.
Задач всего ничего: держать дом в порядке, когда надо-встречать гостей, не пить и не болтать с соседями.
Надя серьезно подумала. И согласилась.
Забирали ее от нас «мальчики» Павла, оставив нам на прощание ящик заграничной тушенки – Павел был Дедом Морозом своего времени и хорошо знал реальную жизнь.
Надя записала наш номер телефона и обещала звонить.
И еще несколько лет действительно звонила.
Поздравляла с праздниками, расспрашивала о нас и рассказывала о себе. И в тот момент времени все и с ней, и с Павлом было хорошо.
Очень надеюсь, что и потом-тоже.
Глава 4
Будни травматологии.
В перечне манипуляций, обязательных к изучению на сестринской практике первого курса, были: инъекции всех видов, включая постановку капельниц, перевязки всех мастей, клизмы и мочевые катетеры, ну и мелочи вроде покормить и переодеть лежачего пациента, давление и градусники.
Все вышеперечисленное травматологическое отделение предоставляло нам с лихвой, но ведь хотелось больше!
Например, мечтой было просто попасть в операционную. Постоять, посмотреть издалека.
А уж если операционная сестра разрешит помыться и постоять на операции рядом с ней, то это почти что выход в открытый космос! Причастность к избранным!
Разумеется, были и другие желания, поскромнее. Поработать в процедурном кабинете без присмотра. Ассистировать в смотровой. Помочь в гипсовой.
И конечно же – приемник.
Это теперь приемное отделение стационара почему-то считается чуть ли не ссылкой для самых бестолковых.
А я не считала так никогда и не считаю теперь.
Ведь кто видит поступающего пациента первым?
Привезла ли его бригада «скорой» или это «самотек», кому первому будут адресованы все жалобы, объяснения, вопросы родственников, истерики, а зачастую-неадекватное поведение и даже угрозы?
Медсестре приемного отделения.
Кто должен разобраться: в порядке ли документы,
по профилю ли обращение, нужна ли экстренная помощь (и если нужна, то немедленно ее оказать!), кого из врачей вызвать на осмотр? Она же. Медсестра приемного.
И именно от ее опыта, профессионализма, скорости реакции и логики зависит все то, что будет дальше.
Так разве может там работать новичок или просто бестолочь?
Это уже потом, наверху, на профильном отделении, врачи будут совершать чудеса: обследовать, оперировать, наблюдать. И там у них для этого целая команда.
А вот тут, внизу, в «приемнике»– одна медсестра.
Которая любую неожиданность встречает первой.
Вот поэтому нам троим очень хотелось поработать в приемном.
Это же почти что спецназ….
Забегая вперед, отмечу – мечты наши сбылись почти что все.
Но для начала мне бы хотелось немного рассказать об отделении и сотрудниках, так сказать, проникнуться атмосферой.
Медсестры. Конечно, их было несколько.
Но ярко запомнилась только Светлана.
Это была совсем молодая девочка, немногим старше нас самих, но умела она, мне кажется, вообще все.
Попасть в вену бабушке или наркоману, когда «вен нет», даже по мнению анестезиологов? Запросто.
Успокоить буйного алкоголика весом в центнер?
Уже через пять минут дядя мирно устраивается на койке и обещает вести себя хорошо.
Отвезти одной среди ночи труп в морг? (шесть коридоров и два лифта). Ну…если некому помочь…могу и одна.
Работала Светлана сутки через двое, потому что персонала вечно не хватало. Каждую смену, помимо выполнения различных назначений врачей, уколов, капельниц и таблеток, она заполняла горы журналов, мыла и переодевала лежачих бабушек, «крутила» стерилизацию, а порой и убирала туалеты (санитарок чаще всего просто не существовало).
Но, несмотря на все это, совершенно спокойно, терпеливо и виртуозно учила нас всему.
Именно в ее смены мы и стали выходить на сутки, иногда просто по очереди, а иногда- парами.
Когда Света поняла, что уже хоть что-то мы умеем, а главное-хотим делать, то охотно нам это поручала, что исключительно вдохновляло нас и немного позволяло передохнуть ей самой.
Особенно нам нравились ночи.
Мы оставались в отделении «за старших» и это для нас было очень серьезной ответственностью.
Сделать дежурный укол или принять поступающего мы могли и сами, а уж если что посложнее- разумеется, будили и ее.
Врачи. Врачей тоже было несколько, но ярко запомнился только Борис Игоревич.
Очень худой, очень серьезный, всегда занятой и со слов медсестер -очень талантливый.
Борис Игоревич, кажется, вообще жил на работе.
Если он не оперировал, то писал истории.
Или работал в смотровой. Или в гипсовой.
Иногда, проходя мимо открытой двери комнаты отдыха персонала, он ласково смотрел в сторону дивана и его усталые голубые глаза становились на какой-то момент ярче, но….он почти всегда шел мимо-его ждали пациенты.
Мы наблюдали за его работой со стороны, не решаясь задавать ему уточняющих вопросов.
Лично мне он казался почти что небожителем, и я просто не могла перешагнуть этот свой комплекс. Одно дело, приставать с вопросами к преподавателям или медсестрам! А тут -целый Доктор! Фетиса разделяла это мое отношение. Она была в своей семье первой, кто пошел в эту область и для нее медицина вообще была чем-то вроде магии, а все без исключения врачи-существами высшего порядка. Женька же по складу характера была человеком скромным и приставать к кому-либо по своей инициативе не могла в принципе.
Именно поэтому нам с одной стороны очень-очень хотелось знать ВСЕ на свете, а с другой -откровенно лезть под руки именно докторам мы ужасно стеснялись. Пропасть казалась нам непреодолимой.
Но однажды все изменилось.
Стояла глубокая ночь. Мы с Фетисой были на сутках. Днем была всякая рутина вроде капельниц и уколов, а вот интересного ничего и не было. Сутки были «дежурными», но почему-то в ту ночь никто в городе травм не получал и в отделении была тишина.
Персонал, пользуясь случаем, отправился отдохнуть.
Мы сидели на посту и тихонько болтали.
Звонок местного телефона раздался внезапно и резко. Звонили из приемного, просили подойти дежурного травматолога.
УХХХ! Значит, кто-то все же поступает!
Конечно, было очень жаль (и немного страшновато) будить Бориса Игоревича, но ведь вызов есть вызов. Разбудив, раз такое дело, заодно и Свету, мы пошли за доктором.
Борис Игоревич открыл глаза. Выслушал нас молча.
Молча же сел. Выразительно посмотрел на нас, и мы наконец сообразили, что стоит деликатно выйти за дверь и подождать его снаружи. Через минуту он появился: сосредоточенный и серьезный, как всегда-будто бы и не спал до этого, и быстро пошел в сторону лестницы.
«А с Вами можно?»-рискнула я спросить в удаляющуюся спину. Возможно, он даже не расслышал.
Но нам показалось-кивнул. Мы бросились догонять.
В приемном отделении тогда было несколько боксов, большой общий зал с множеством каталок и один общий пост.
Именно на посту врачи «скорой» вяло переругивались с дежурной медсестрой по каким-то бумажным вопросам, ну а привезенный ими больной ожидал осмотра в одном из боксов. Туда и пошел наш доктор, ну а мы остались снаружи-мест для зрителей в крохотном помещении предусмотрено не было. Чтобы хоть немного понять, в чем же дело, мы прицепились с вопросами к молодому санитару.
Парень охотно поделился: да мужик лет сорока, нетрезвый, конечно … со слов -упал на улице. Но скорее всего, после драки. Вроде сломаны ребра, ссадины, ушибы. Вот сейчас на рентген, наверное, повезу…
Санитар неспешно подогнал к боксу гремящую каталку.
Борис Игоревич писал направление рентгенологам.
Мужик стонал и матерился. «Скорая» уехала.
Медсестра раскладывала документы.
И только мы болтались без дела, напряженно ожидая развязки.
И вскоре она наступила: пациента привезли назад, а вместе с ним принесли и готовые снимки. Глянув на них, наш доктор бросился к телефону настолько стремительно, что мы уж было подумали-все, как минимум-реанимация…
Но спустя минуту с каталки раздался сочный храп и стало ясно, что с пациентом как раз все прекрасно, а дело видимо в чем-то другом…
И тут сонную тишину спокойного в ту ночь приемного нарушил счастливейший голос нашего доктора, возбужденно кричащего кому-то в трубку:
–ТРИ! У него сломано ТРИ ребра, ребята!
И еще- болит живот!
Он не наш, он- ваш!
ХИ-РУР-ГИ-ЧЕС-КИЙ!
Мы переглянулись. Наш блок был сломан.
Врач-он вовсе не небожитель.
Он живой, он коллега, он-человек.
И на следующее утро мы, уже не стесняясь, попросились на операцию.
Про то, как вчерашние студентки
вырастают в акушерок.
Разумеется, не сразу.
Были и страхи, что не справлюсь, и дрожь в руках, и нервные срывы от гиперответсвенности, и слезы.
И если дрожь в руках со временем прошла, то остальное нет-нет, да и вернется.
И возвращаясь-заставляет постоянно чему-нибудь учиться, наблюдать и делать выводы, помня, что двух абсолютно одинаковых случаев не бывает. Всегда есть место сюрпризу, и к сожалению-не всегда приятному.
И сохраняя внешнее спокойствие, обязательно-транслируя его пациенту, ты все равно никогда не расслабляешься: Провидение (а может-и дух самого Гиппократа) жестоко карает тех, кто слишком уверен в себе и в своих навыках.
Самый лучший врач-это тот, что умеет убедить пациента в том, что он-Бог.
Самый худший- тот, кто действительно сам так и думает.
Моя самостоятельная работа началась с того, что…к самостоятельной работе меня не допустили:)
Точнее, допустили, но-под присмотром.
Одна из тех акушерок, на сутки к которым я бегала весь третий курс, так прямо мне и сказала: плевать мне на твои оценки в колледже. Вот пока ты МНЕ лично акушерство не сдашь-к женщине не подойдешь.
Ну я и сдавала, конечно. И надо сказать, что требования на этом экзамене были куда выше, чем у наших преподавателей.
Например, мне задавали так называемые «клинические задачи»-то есть, описывали какую-то живую практическую ситуацию из своего опыта, и я должна была быстро сообразить, что в таком случае следует делать.
Если я соображала недостаточно быстро, то мне могли сказать с сожалением: «все, твоя пациентка умерла».
Или : «давным-давно, когда еще мы были сперматозоидами…» – эта фраза означала то, что я начала ответ слишком издалека и с ненужными подробностями. Учись думать быстро и говорить содержательно, но кратко.
Я очень старалась не ударить в грязь лицом, все свободное время проводя за чтением учебников, брошюр и пособий, которые удавалось достать (интернета тогда еще не было) и с каждым разом отвечать на вопросы у меня получалось все лучше и лучше.
Практические навыки тоже постепенно осваивались.
Как-то, помню, выдался очень непростой день: несколько плановых операций, между ними-роды. А персонала в тот день не хватало: кто-то заболел, подмену найти не удалось, и работали в урезанном составе. В результате акушерок было вместо двух с половиной (за целую меня считать было объективно еще рано)-всего полторы: я и Ирина. Днем была, правда, еще операционная медсестра и это спасло положение в плане кесаревых-стояла на всех операциях она. Часть из них была по плану, плюс кого-то пришлось взять экстренно, так что бригаде досталось по полной.
Ирина принимала роды, тоже в авральном режиме- несколько подряд, и далеко не все простые.
Я же бегала на подхвате туда, где нужны были вторые руки.
Наконец, к девяти вечера операционная, работавшая по идее, до четырех, без сил уползла к выходу, а мы с Ириной остались.
К этому времени основная суета, к счастью, улеглась и мы сидели в нашем буфете (импровизированная комната отдыха персонала), устало вытянув ноги.
Даже разговаривать сил и желания не было.
Родилка была пуста.
И в наших душах расцветала робкая надежда на сон хотя бы пару часиков, а лучше бы-так и вообще до утра.
Но тут позвонили с дородового.
У завтрашнего «планового кесарева» отошли воды, что автоматически делало «плановое завтрашнее» кесарево -«экстренным сегодняшним».
Ирина тяжко вздохнула и предложила мне пойти в операционную с ней: во-первых, и такая практика мне тоже была полезна, а во-вторых, две уставшие головы все же лучше, чем одна. Подстрахуем друг друга.
Мы помылись, оделись и заняли свои места у столика с инструментами.
Надо сказать, что докторов в той смене тоже не хватало. Уже не помню, почему-но факт: с нами на операцию пришли как раз те, которые целый день в операционной уже простояли.
Я совершенно не помню, кто был ассистентом и почему его участие было столь невыразительным-возможно, тоже сильно устал. Или может, что-то еще. А вот кто был оперирующим-запомнила прекрасно.



