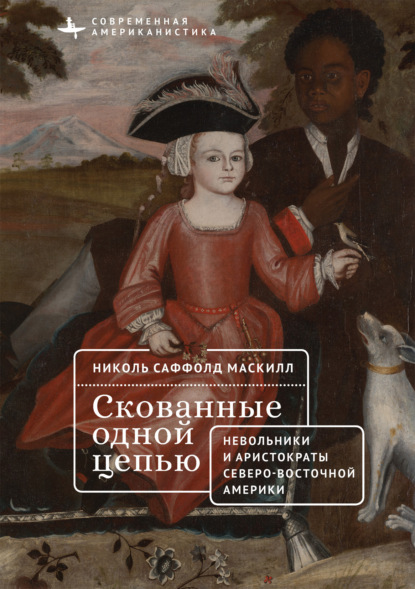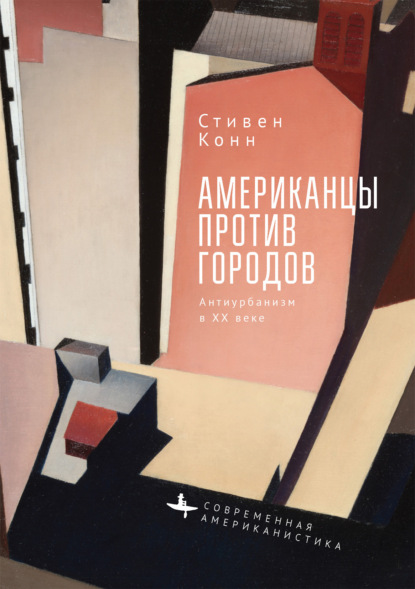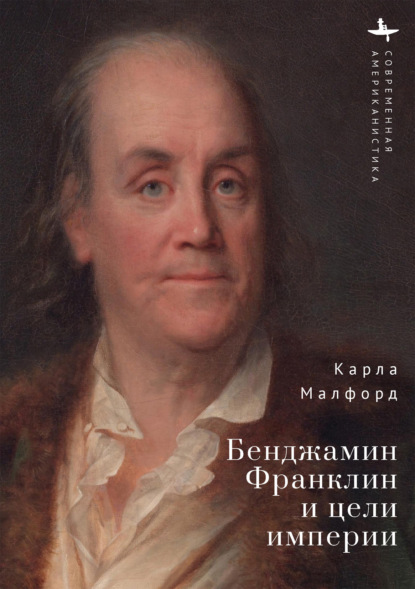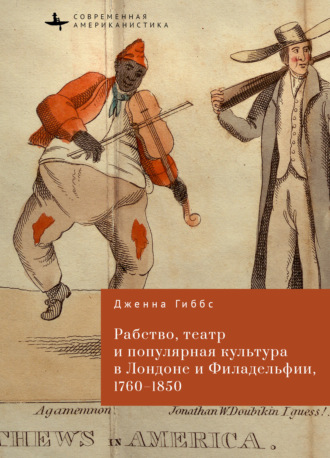
Полная версия
Рабство, театр и популярная культура в Лондоне и Филадельфии, 1760–1850
Популярный язык и символы, которыми пользовались лондонцы и филадельфийцы для выражения этих контрастирующих гражданских концепций и определения места рабства в государственном устройстве, были не просто неоклассическими представлениями о современных гражданских принципах. Поэты, драматурги и аболиционисты также задействовали блэкфейс-бурлеск для преодоления расовых опасений насчет рабства, свободы и гражданских прав, высвобожденных Американской революцией, последующими революциями во Франции и на Гаити и увенчанных возобновлением боевых действий между Великобританией и Соединенными Штатами во время войны 1812 года. В эти революционные годы британские актеры, художники, поэты и аболиционисты пользовались образом «умоляющего раба» для изменения и взаимного наложения смыслов: в качестве предшественника менестреля – темнокожего клоуна в исполнении белого актера, символа ксенофобских страхов перед расовым смешением (особенно после притока бывших американских рабов в Великобританию) и спикера-аболициониста, преобразующего концепцию британского храма Свободы в антирабовладельческом направлении для опровержения американских обвинений Британии в тирании. В ранние годы Американской республики существовал краткий утопический период, как будто обещавший распространение «права на жизнь, свободу и достижение счастья» на африканцев, но к началу XIX века американцы, пользуясь британскими персонажами темнокожих рабов в исполнении белых актеров, создали новый оскорбительный вид расового унижения с помощью карикатур и афиш с блэкфейсами, свидетельствовавших об отказе от радикальных революционных надежд на свободу и гражданские права для афроамериканцев.
После отмены работорговли филадельфийцы и лондонцы следовали этим национальным тенденциям, когда вовлекли мифологию британской и американской свободы в полифонический диалог с фантазиями о христианизации и «цивилизации» «темного континента – Африки». Работы художников, поэтов и актеров XIX века, симпатизировавших отмене работорговли, помогали сосредоточить надежду на спасении африканцев от ужасов войны, язычества и внутренней работорговли в Африке. Для лондонцев это представление об искупительной свободе для Африки было тесно связано с чествованием отмены работорговли и тем, как это примиряло британский национальный либерализм с рабовладельческим империализмом. Напротив, в Филадельфии евангельские миссии, вдохновленные Вторым великим пробуждением27, переплетались с усилиями по «репатриации» свободных темнокожих людей в Африку. Эти попытки исходили из расистских побуждений изгнать афроамериканцев из храма Свободы Колумбии и подкреплялись желанием распространять христианство и демократию в Африке. «Богиня Свободы» и «умоляющий раб» были ключевыми мотивами общего лексикона британцев и американцев, используемыми в театрализованных зрелищах, прославлявших отмену работорговли и распространение свободы на Африку, а также пародиях, фигурально лишавших африканцев права на британское подданство или американское гражданство.
В то время как британцы и американцы физически встречались в годы революции на поле боя, они также принимали участие в творческих и философских баталиях о смысле рабства, свободы и тирании. Живописные события и риторическое соперничество в годы революций во Франции и на Гаити не только усилили трения по поводу рабства и государственного устройства между Великобританией и Соединенными Штатами, но и привели к войне 1812 года. Но в течение периода британо-американской враждебности и войны, предвосхищенной протестами американских колоний в 1760-х годах и завершившейся после 1812 года, трансатлантический взаимообмен продолжал дискуссию о рабстве, расовой принадлежности и государственном устройстве в стихах, пьесах, карикатурах и памфлетах, узнаваемых по обе стороны океана. Британские и американские художники, драматурги, поэты, миссионеры, путешественники и аболиционисты формировали (несмотря на соперничавшие формулировки) общий лексикон образов, идей и печатной продукции: чернокожий раб в исполнении белого актера как символ рабства, неоклассическая богиня храма Свободы как метафора государственного устройства и имперский цивилизаторский мандат по отношению к Африке.
Глава 1
Чествование Колумбии, покровительницы белого республиканства
Двадцать шестого декабря 1807 года, когда конгресс узаконил запрет на зарубежную работорговлю, филадельфийский Новый театр на Честнат-стрит представил пьесу «Дух независимости», где, согласно афише, присутствовал «огромный символический транспарант под названием “Дух Америки” и особый танец в храме Свободы»28. Во время и сразу же после Американской революции филадельфийские художники, менестрели, актеры и участники праздничных шествий создавали представления с участием Колумбии как «Духа Америки» – антропоморфного символа зарождающейся нации и хранительницы естественных прав на личную и политическую свободу. Глубоко тронутые демократическими представлениями о революции, филадельфийцы стали изображать Колумбию дарующей личную свободу молящим рабам со своего трона в храме, рассматриваемом как метафора органа власти. Но актеры Нового театра лишили Колумбию освободительной силы в «Духе независимости». Их «Дух Америки» не обещал освобождения, и образы рабов-просителей нигде не появлялись. Это воплощение Колумбии прославляло идею национального единства, но уклонялось от проблемного вопроса о рабстве, просто не допуская рабов в храм Свободы. Гарантия политических свобод от Колумбии была разведена с ее предыдущим обещанием личной свободы для всех и каждого.
Театральный образ Колумбии был одновременно мерилом и движущей силой для политических импульсов американской нации. Удаление рабов из храма имитировало общие сдвиги государственной политики, в том числе убаюкивающую паузу в антирабовладельческой активности и новые попытки с помощью насилия ограничить участие свободных афроамериканцев в политической деятельности. Эта обратная реакция была следствием отмены работорговли, когда заметный рост численности свободных темнокожих общин в северных городах привлек недоброжелательное внимание, и белокожее население опасалось, что мятежный дух Сан-Доминго распространится на всех темнокожих, в том числе рабов, в Соединенных Штатах. В этом контексте некоторые белые филадельфийцы восприняли отмену работорговли как катализатор пугающей вероятности всеобщего освобождения рабов и, следовательно, огромного притока свободных темнокожих людей, которые хлынут в город с требованием гражданских прав и участия в государственной политике.
Храм Свободы Колумбии после отмены рабства, представленный в театральных постановках, печати, изящных искусствах, полемических памфлетах, комических афишах и уличных парадах, пропагандировал американское гражданство как прерогативу белых мужчин. Исключая рабов из прихожан храма, актеры Нового театра отказывали им в «неотчуждаемом праве» на свободу и гражданское участие в жизни республики, основанию которой они поспособствовали. Более того, хотя при рождении нации деятели культуры часто изображали Колумбию в образе коренной американки, после отмены работорговли они неизменно представляли ее в виде греко-римской богини. Такое «обеление» Колумбии больше соответствовало новому представлению об особой роли белых женщин как республиканских матерей, а также символизировало притязания белокожих американцев на родовые индейские земли. Новая «обеленная» Колумбия появилась не только в «Духе независимости», но и в сопутствующих художественных работах, прозе и шествиях. Когда актеры, художники, аболиционисты и другие пытались создать особый американский стиль, воспевающий революционное наследие и молодую республиканскую нацию, они невольно обращались к своему британскому наследию; греко-римская богиня была тесно связана с Британией – антропоморфным символом свободы, возникшим во времена «Славной революции»29. Это политическое достояние было общим для британцев и американцев [Fischer 2005: 233–234].
Наряду с «обелением» Колумбии и метафорическим удалением рабов из ее храма, белые филадельфийцы изобрели новый вид оскорбительной расовой пародии, умалявший роль гражданского участия свободных темнокожих людей Севера в построении государства и празднование отмены работорговли. Этот бурлеск тоже был позаимствован из британской культурной традиции, так как его участниками были «чернокожие» театральные персонажи из британских пьес, используемые для осмеяния настоящих темнокожих американцев. Когда темнокожие люди устраивали шествия в честь нового аболиционистского законодательства, белые северяне высмеивали их на афишах, изображавших косноязычных актеров с блэкфейсами, праздновавших отмену работорговли ритуалами, созданными, предположительно, по образцу американских индейцев. Такие насмешки над гражданской активностью темнокожих унижали индейцев и афроамериканцев одновременно. В сочетании с исключением темнокожих из постановок о Колумбии это использовалось для пропаганды американского гражданства как исключительной привилегии белых мужчин и заново укрепляло основы расовой кодификации.
Естественные права, аболиционизм и революционная Колумбия
Современная Колумбия развивалась как мощный символ прав колонистов на политические свободы во время имперского кризиса, предшествовавшего Американской революции. Начиная с протестов из-за Гербового акта 1765 года30, художники революционной эпохи приступили к созданию самобытного образа американской богини Свободы. Они изображали образ будущей нации во множестве канонических лиц – от украшенной перьями греческой богини до индейской принцессы – вплоть до окончательного превращения в греко-римское божество, происходившее от древнеримской фигуры Либертас [Deloria 1998: 29–30; Fleming 1967]. Эта эволюция была нелинейной, и разные национальные символы налагались друг на друга в революционные годы и некоторое время после революции, но любые изображения Колумбии символизировали политическое освобождение от «тирании» британского империализма, укорененное в концепции естественных гражданских прав.
Ради достижения этого значения образа Колумбии американские революционные патриоты (так они называли себя в противоположность всем, кто хотел сохранить верность Британии) изображали ее то как индейскую девушку, то как неоклассическую европейскую богиню, но смысловое наполнение этих образов сводилось к освобождению от колониальной зависимости. Естественная непосредственность индейской версии Колумбии символизировала «природные права» Нового Света, стремление к свободе и отказ от политической иерархии Старого Света. Присвоение идентичности коренных американцев – в качестве символа Америки или для маскировки под мохоков31 во время Бостонского чаепития32 – позволяло патриотам выступать против Британии с исключительно американской позиции [Deloria 1998: 17–18]. Такое смысловое значение политической свободы преобладало в ранних изображениях Колумбии как американки европейского происхождения, державшей жердь, увенчанную фригийским колпаком. Она впервые появилась в виде неоклассического божества Либертас на монете в честь американских побед при Саратоге и Йорктауне в 1776 году, заказанной Бенджамином Франклином и отчеканенной в 1782 году как символ политической независимости Америки [Vermeule 1971: 9; Fischer 2005: 137–138]. Визуальное искусство, стихи и песнопения, такие как «ораторный дивертисмент» Фрэнсиса Хопкинсона под названием «Независимая Америка, или Храм Минервы» (1781), тоже восхваляли богиню и ее храм как лейтмотив для просвещенного республиканского государства и политических свобод [Hopkinson 1781]. Патриоты поочередно пользовались образами Колумбии как индейской девы, Минервы или Либертас как олицетворениями американской политической независимости.
Но революционные патриоты также использовали Колумбию (в разных ее обличиях) как мощный символ индивидуальной свободы. Этот двоякий смысл ясно продемонстрировал Томас Пейн в своей балладе о богине Свободы, где он ратовал за эгалитарное государственное устройство с равными свободами и правами для всех, «равнодушными к чинам и отличиям». И Пейн был не одинок в своем мнении. Джон Ликок, его соратник-патриот и впоследствии драматург, тоже связывал образ богини с естественными правами для всего человечества в «Богине Свободы» – поэтическом предисловии к его революционной драме «Крушение британской тирании, или Торжество американской свободы» (1776). «Крушение британской тирании» было сложной пятиактной драмой, начинавшейся с дискуссии в британском парламенте об американских колониях в 1750-х и 1760-х годах и достигавшей кульминации во время первой патриотической военной кампании в Лексингтоне. Ликок, член группы филадельфийских патриотов «Сыновья Сент-Таммани» (подразделение «Сыновей Свободы»), также принимал участие в патриотическом читательском кружке Бенджамина Раша, Фрэнсиса Хопкинсона, шуринов Ликока Дэвида Холла и Джеймса Рида и двоюродного свойственника Бенджамина Франклина. Почти все они выступали против рабства [Mulford 1987: 14; Nolan 1939: 20]. Положение Франклина было противоречивым: в 1776 году он сам владел рабами, но впоследствии стал президентом Аболиционистского общества Пенсильвании [Waldstreicher 2004: 244]. Хотя Ликок пользовался рабским трудом в своем ювелирном деле по золоту и серебру как минимум до 1767 года; учетные записи о собственности показывают, что ко времени сочинения «Богини Свободы» и пьесы 1776 года он стал преуспевающим виноделом и больше не имел рабов; правда, остается неясным, произошло ли это по велению совести или из прагматических соображений33. Ясно, однако, что в своем драматургическом творчестве он выражал в отношении рабства негодование.
На первый взгляд стихотворение и пьесу можно было рассматривать как нескрываемую патриотическую пропаганду, но поэтическое возвеличивание богини у Ликока было сложнее, так как сопровождающая драма отпускала сатирические колкости в отношении идеалов свободы патриотов-вигов и жалоб на «политическое порабощение», сопоставляя их с реальностью системы рабского труда [Leacock 1776: vi]34. «Крушение британской тирании» включало в себя одно из первых известных театральных изображений американского рабства – яркую инсценировку прокламации лорда Данмора 1775 года, предлагавшей свободу рабам, сражавшимся на стороне Британии. В версии Ликока Лорд-Похититель вербует мятежных рабов и внушает их вождю Куджо – в выражениях, напоминающих жалобы патриотов: «У них нет права делать вас рабами». Затем Ликок объединяет цели мятежных рабов со стремлениями мятежных колонистов, когда Лорд-Похититель похваляется перед военным священником, что вооружение беглых рабов выставляет «слугу против его хозяина, мятежника против мятежника». Ответ капеллана, цитирующего Библию, – «Дом, разделившийся сам в себе, не устоит»35 – выражает не только худшие страхи патриотов насчет последствий прокламации Данмора, но и угрозу для становления нации, исходившую от рабовладельческой системы. Отсылка к «разделенному дому» из Священного Писания была частым рефреном в аболиционистских кругах Филадельфии. К примеру, известный аболиционист Джон Пэриш в своем эссе «Комментарии к рабству темнокожих людей» (1806) предупреждал: «Дом, разделившийся сам в себе, не устоит, как не сможет устоять правительство или конституция» [Parish 1806: 9]. Таким образом, когда вступительный панегирик богине Свободы у Ликока призывал американских колонистов «желать, говорить, писать, сражаться и умирать за Свободу», он также ставил проблему: на кого именно распространялась эта свобода? Этот вопрос преследовал Томаса Пейна, Бенджамина Раша и других филадельфийских патриотов и потому занимал центральное место в их антирабовладельческой агитации. Еще до того, как Джефферсон прописал «неотчуждаемое право на жизнь, свободу и поиски счастья» в Декларации независимости 1776 года, эти патриоты громко возражали против рабства как антитезы естественному праву на личную свободу. На этом основании Бенджамин Раш подвергал суровой критике лицемерие мятежных патриотов и страстно оспаривал веру во врожденные расовые отличия в «Обращении к жителям британских поселений в Америке о рабовладении», опубликованном в Филадельфии в 1773 году. Раш осуждал рабство как «национальное преступление» и призывал своих единомышленников, «поборников американской свободы, пробудиться и поддержать дело Человечности и Свободы» [Rush 1773: 25]. Пейн энергично вторил мнению Раша в своем антирабовладельческом трактате «Африканское рабство в Америке», опубликованном в популярном издании Pennsylvania Journal and Weekly Advertiser в марте 1775 года. В этом тексте он отвергал рабство как чудовищным образом противоречащее естественному человеческому праву на свободу и задавался вопросом:
На каком пристойном основании [американские рабовладельцы могут] так громко жаловаться на попытки поработить их, если они сами держат в рабстве сотни тысяч людей? Мы поработили великое множество народа и пролили много невинной крови, когда делали это, а теперь нам грозит то же самое [Paine 1997: 130–133].
Филадельфийские революционеры-аболиционисты вскоре перешли от пламенных слов к делу. В 1775 году десять белых «защитников американской свободы» встретились в таверне «Восходящее солнце» и основали первую в мире антирабовладельческую организацию – «Общество помощи свободным неграм, незаконно удерживаемым в неволе» – с целью защиты и отстаивания американской свободы для африканских рабов [Nash 2005: 152–153]. Вершина антирабовладельческих притязаний была достигнута в 1780 году, когда Генеральная ассамблея Пенсильвании, где Пейн был секретарем, приняла Закон о постепенной отмене рабства. Преамбула закона давала понять, что побудительным мотивом законодателей было их четкое понимание несовместимости рабства с революционными принципами свободы. По их общему мнению, оно ничем не отличалось от их «порабощения» во время британской оккупации Филадельфии, которая закончилась лишь четырьмя месяцами ранее:
Когда мы размышляем о нашем отвращении к этому состоянию, до которого нас довела вооруженная тирания Великобритании… то понимаем, что сие есть наш долг, и мы рады тому, что в нашей власти распространить часть этой свободы на других людей и освободить этот штат от рабовладения, на которое мы сами были тиранически обречены и от которого мы теперь имеем все возможности освободиться36.
Несмотря на это волнующее предисловие, закон не освобождал рабов; на самом деле он постановлял, что все дети рабынь обязаны служить хозяину своей матери до достижения двадцати восьми лет, а все дети, рожденные до принятия закона, оставались порабощенными. Тем не менее закон 1780 года обозначил кардинальную перемену общественного мнения о рабстве. Он также подчеркивал, что на начало XIX века в Филадельфии имелась значительная доля свободного темнокожего населения. Все остальные северные штаты приняли сходные законы о постепенной отмене рабства, и даже в южных штатах республиканские идеалы спровоцировали рост числа индивидуальных вольных грамот, освобождавших от рабства. Посреди революционных волнений многие американцы пришли к идеализации храма Свободы, где рабство было аберрацией, безобразным пятном на той са́мой свободе, которая была столпом храма. И, хотя молодое общество аболиционистов достигло немногого в бурный революционный период, оно было официально зарегистрировано как Пенсильванское аболиционистское общество (PAS) в 1788 году и начало оформлять юридические претензии к рабовладельцам. Пейн, Раш, Франклин и другие революционные патриоты, такие как Томас и Сэмюэл Миффлины, союзники Ликока и Раша в обществе «Сыновья Сент-Таммани», стали членами PAS [Nash 1988: 104–105; Nash 2005: 152]37.
Партийная политика, свобода Колумбии и федералистская конституция
Жаркие дебаты 1787 и 1788 года о предложении новой конституции происходили на фоне накала антирабовладельческих страстей. Защитники конституции часто упоминали о храме Свободы в своей пропаганде, направленной на продвижение новой конституции, которой предстояло укрепить централизованное правительство, что послужило бы противоядием от катастрофического расстройства экономики и широко распространенных общественных волнений в послевоенные годы, а также гарантировало бы свободу личности. Составители Статей Конфедерации38 1776 года намеревались защитить суверенитет штатов, не допуская федеральное правительство к налогообложению, формированию национальной армии или осуществлению фискального контроля над торговым обменом между штатами и странами. Но умопомрачительная инфляция, застой в торговле, громадные военные долги и демобилизация континентальной армии (многим солдатам так и не выплатили жалованье) – все это вносило свой вклад в сокрушительный экономический кризис, с которым утопавшее в долгах правительство, лишенное полномочий собирать налоги и регулировать торговлю, не могло справиться, не имея достаточных компетенций. Устрашенные призраком классовых гражданских распрей, самопровозглашенные федералисты выступили за ограничение избирательного права в надежде гарантировать правление аристократической элиты, которая напишет конституцию, позволяющую этому правительству заведовать фискальной системой и иностранными делами. Антифедералисты, с подозрением относившиеся к политическим элитам, отстаивали главенство штатов, прописанное в Статьях Конфедерации, и противились идее о новой конституции. Федералисты одержали верх, и в 1788 году конгресс составил проект конституции, включавший в себя двухпалатный конгресс и отдельные ветви законодательной, исполнительной и судебной власти. Конгресс получал право контролировать фискальные и иностранные дела, вводя национальные налоги и осуществляя международную торговлю. Влиятельные «Записки Федералиста»39, написанные Джеймсом Мэдисоном, Александром Гамильтоном и Джоном Джеем, помогли убедить большинство людей, что сильное федеральное правительство будет поддерживать стабильность и таким образом, как было сказано в преамбуле конституции, «обеспечит блага свободы для нас и наших потомков» [Hamilton A. 2000: 450].
Федералисты пользовались образами, песнями и стихотворениями с упоминанием Колумбии и храма Свободы, чтобы создать публичное впечатление о сильном централизованном правительстве как о гаранте свободы личности. К примеру, в популярном и много раз переиздаваемом стихотворении «Новая крыша: песня для федеральных механиков» (1788) Фрэнсис Хопкинсон сравнил потребность в новой конституции с нуждой в новой крыше. По словам Хопкинсона, когда новая крыша будет возведена, «сыны Колумбии узрят с восторгом / ее столпы и арки дивной высоты… Мир восхитится праведным престолом». В циклическом рефрене настойчиво повторялось, что «новая крыша» храма обеспечит и защитит свободу личности: «Мы крышу возведем, и с песней всенародной / Правленье будет прочным, граждане свободны»40. Сторонники новой конституции также распространяли эти идеи через изображения храма Свободы с неоклассическими колоннами, каждая из которых символизировала свой штат федерации. Эти колонны добавлялись по мере того, как каждый штат ратифицировал конституцию. Многие образы сопровождались популярными балладами. К примеру, колонна, изображавшая ратификацию Южной Каролины, – стихом из «Федерального здания»: «Одиннадцать колонн предстали перед восхищенным взором. / Мы купол здания теперь увидим скоро / в священном храме, где Колумбия устроила свой дом». Образы и стихи стремились убедить грамотных читателей и неграмотных зрителей, что колонна каждого штата является не только опорой, но и подчиненной «центральному куполу» правительства. Такова была политическая и экономическая структура, необходимая для купола храма Колумбии, охранявшего свободу личности.
Хотя Хопкинсон был энергичным противником рабства, ни он, ни другие федералисты с антирабовладельческими взглядами не делали открытых заявлений о связи концепции личной свободы и храма Колумбии с африканскими рабами в своем изобразительном, поэтическом и песенном творчестве. Наверное, это неудивительно, если принимать во внимание, что их основной задачей было убедить строптивых рабовладельцев из южных штатов с преобладавшими антифедералистскими настроениями в необходимости ратифицировать конституцию [Finkelman 1998: 145]. Политическая и фракционная принадлежность не была безусловной, когда дело касалось рабства, но большинство тех, кто поддерживал ограничение работорговли, были северянами и федералистами. Эта тенденция сохранялась в Филадельфии, где многие члены PAS поддерживали связь с федералистами, а также немногочисленными темнокожими, имевшими право голоса на выборах [Там же: 146]. По словам Мэдисона в его заметках после заседания конгресса, «разница интересов не заключается в малом или большом размере штатов. ОНА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В НЕСХОДСТВЕ МЕЖДУ СЕВЕРОМ И ЮГОМ» [Madison 1987; заглавные буквы в оригинале]. В черновиках конституции содержались спорные компромиссы; работорговля должна была продолжаться как минимум в течение двадцати лет; для целей налогообложения и представительства нужно было учитывать 60 % от общего количества рабов; помощь беглому рабу должна была считаться преступлением. Аболиционистские депутаты от Филадельфии, такие как Бенджамин Раш и Тенч Кокс (оба были членами PAS), как и Джеймс Уилсон, выказывали раздражение в адрес этих компромиссов, но рассматривали их как необходимые уступки Югу и утверждали, что окончание работорговли через двадцать лет является шагом к постепенной отмене рабства [Kaminski et al. 1976: 432–433].