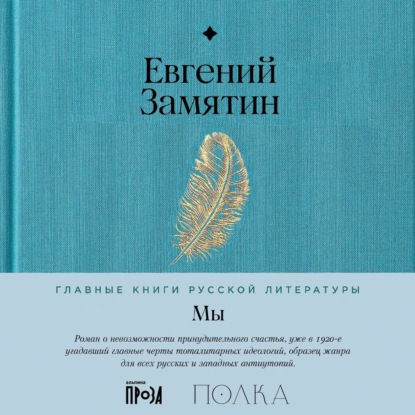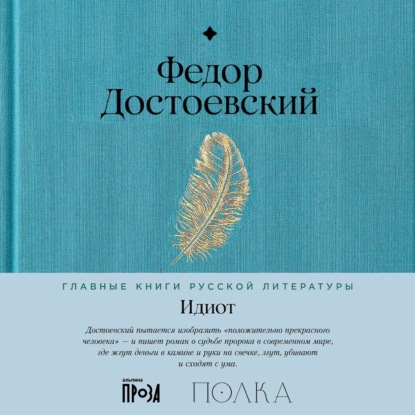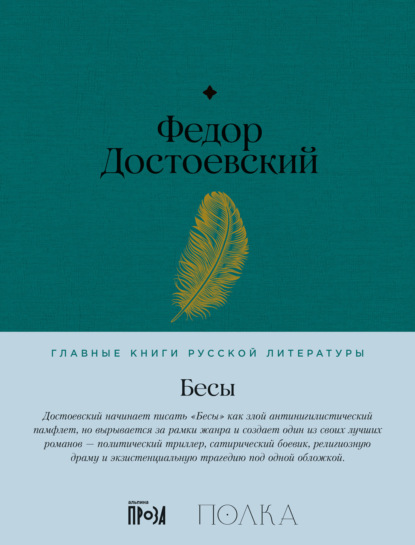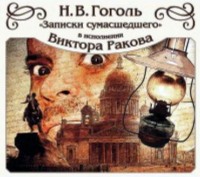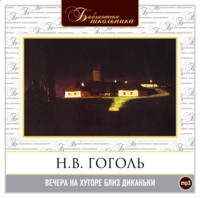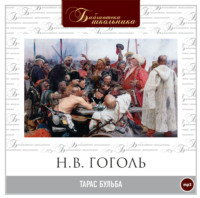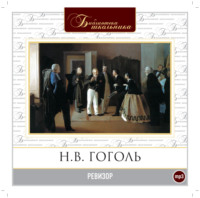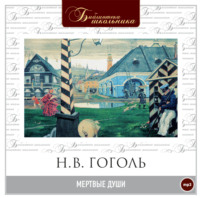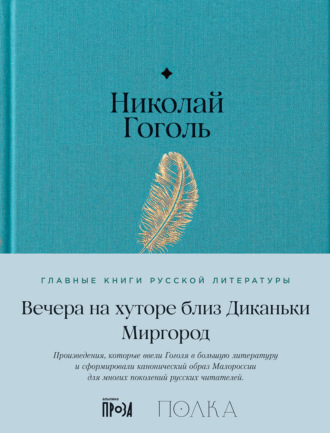
Полная версия
Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород
Казалось, что природа сделала непростительную ошибку, определив ей носить темно-коричневый по будням капот с мелкими оборками и красную кашемировую шаль в день Светлого воскресенья и своих именин, тогда как ей более всего шли бы драгунские усы и длинные ботфорты.
Выводя таких героинь, Гоголь, разумеется, не намекал ни на какую эмансипацию – для него это типичный комический прием в духе вертепной пьесы: муж-слабак под каблуком у властной сварливой жены. Однако исследователь Иван Ермаков, анализировавший «Вечера» с позиций психоанализа, отмечал, что Гоголь не просто шутил, он тяготел к описанию зрелых женщин: в случае с молодыми девушками (Оксана, Ганна, Параска) писатель довольствовался перечислением эпитетов красоты, которые встречаются в народных песнях (блестящие черные очи, косы, брови), тогда как в характеристике старух он чувствовал себя куда более свободным, «там вступал в силу его талант»[22]. Любопытно, что в женщинах, властвующих над мужчинами, у Гоголя почти всегда заложено демоническое начало – они постоянно сравниваются с чертями и ведьмами.
Солопий из «Сорочинской ярмарки», напуганный появлением головы свиньи в окне, бросается наутек из дома: он думает, что за ним гонится черт, на самом деле за ним следует испуганная Хивря. Цыгане, обнаружившие их лежащими друг на друге, тоже припоминают черта:
– Что лежит, Влас?
– Так, как будто бы два человека: один наверху, другой нанизу; который из них черт, уже и не распознаю!
– А кто наверху?
– Баба!
– Ну, вот, это ж то и есть черт!
Всеобщий хохот разбудил почти всю улицу.
В украинском фольклоре женщина часто соотносится с дьяволом. По одной из легенд женщина была сотворена не из ребра Адама, а из хвоста черта. По другой – увидев бабу и черта, апостол Петр отрубил им обоим головы, а затем приставил их наоборот, с тех пор баба ходит с головой черта[23]. Мистический ужас перед женщиной, которая может лишить мужчину воли (или угрозами, как Хивря, или своим обаянием, как Солоха), распространяется на весь цикл и находит отражение даже в рассказе про Шпоньку, казалось бы избавленном от всякой потусторонности. После сватовства Ивану Федоровичу снится страшный липкий сон:
То представлялось ему, что он уже женат, что все в домике их так чудно, так странно: в его комнате стоит – вместо одинокой – двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему странно; он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею, и замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену, тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону – стоит третья жена. Назад – еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад; но в саду жарко. Он снял шляпу, видит: и в шляпе сидит жена. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком – и в кармане жена; вынул из уха хлопчатую бумагу – и там сидит жена…
Как известно, сам Гоголь тоже опасался сближаться с женщинами и всю жизнь оставался холостым.
ЗА ЧТО ГЕРОИ «ВЕЧЕРОВ» КЛЯНУТ «МОСКАЛЕЙ»?«Москаль» здесь определенно ругательное слово: «если где замешалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько от голодного москаля», «да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху москали увезли», «пьяный москаль побоится вымолвить их нечестивым своим языком», «когда черт да москаль украдут что-нибудь, то поминай как и звали» и т. д. Однако «москаль» в речи казаков обозначает не москвича, как можно подумать, и даже необязательно русского: в старину на Украине так называли офицеров, солдат, чиновников, находящихся на государственной службе[24]. Считалось, что им свойственна склонность к обману и пройдошливость. Однако в «Вечерах» также встречается бранное слово «кацап», которое обозначает как раз человека из России. Его употребляет сосед Шпоньки в светской беседе: «Надобно вам знать, милостивый государь, что я имею обыкновение затыкать на ночь уши с того проклятого случая, когда в одной русской корчме залез мне в левое ухо таракан. Проклятые кацапы, как я после узнал, едят даже щи с тараканами».
Вообще мир «Вечеров» – плодотворная почва для любого рода ксенофобии. В нелестном контексте упоминаются цыгане (они считались «сродни черту»), евреи («жиды» в фольклоре воспринимались как черти, только еще хитрее), немцы (под немцами понимались любые иностранцы, и они тоже соотносились с бесами). Но, пожалуй, самыми лютыми врагами для героев «Вечеров» являются католики и ксендзы. Эта нетерпимость – эхо Брестской унии 1596 года, по которой православная церковь на Украине перешла в подчинение папе, что привело к столкновениям между казачеством и поляками; для многих (особенно малообразованных) жителей Малороссии того времени слово «католик» превратилось в бранное.
КАК УСТРОЕН У ГОГОЛЯ МИР НЕЧИСТОЙ СИЛЫ?Колдовской мир в фольклорном сознании никак не отделен от мира людей, напротив, он состоит с ним в тесных, а зачастую даже в родственных связях. Ведьма Солоха – мать набожного кузнеца Вакулы, который смог одурачить черта. Колдун из «Страшной мести» – отец Катерины, жены главного героя Данилы. Ведьма из «Майской ночи» – мачеха панночки, ставшей утопленницей. В «Вечерах» нечисть ведет себя как люди, а люди – как нечисть. Статус многих героев из-за такой диффузии остается непонятным: например, знахарь Пацюк из «Ночи перед Рождеством» застрял где-то посередине между человеческим и демоническим. Сложно охарактеризовать и Басаврюка из «Вечера накануне Ивана Купала»: он то ли «бесовской человек», то ли черт, обернувшийся человеком, то ли ходячий покойник – такая расплывчатость для фольклора обычно нехарактерна.
Приметами связи с демоническим миром в «Вечерах», как и в народной традиции, служат самые невинные вещи: растрепанные волосы, косоглазие, хромота. Любая инаковость объясняется чертовщиной. Все, что не соответствует принципам и стандартам патриархальной общины, понимается как проделки дьявола: в связях с нечистым чаще всего подозреваются женщины, люди других национальностей или вероисповеданий, безродные отщепенцы. Характерным примером в этом смысле служит рассказ «Страшная месть»: мы наблюдаем, как отец Катерины, находящийся в ссоре с зятем, постепенно раскрывает свою демоническую сущность, будто намеренно подтверждая подозрения Данилы. Отец Катерины возвращается из чужих краев после двадцати лет скитаний (уже странно!), не ест привычную еду и отказывается от алкоголя, чем сразу же вызывает в зяте возмущение: «Не захотел выпить меду! слышишь, Катерина, не захотел меду выпить… Горелки даже не пьет! Экая пропасть! мне кажется, пани Катерина, что он и в Господа Христа не верует. А, как тебе кажется?» Еще сильнее настраивают Данилу против свекра зловещие предвестия и кошмарные сны жены. Кажется, будто он заковывает в цепь отца Катерины не столько из-за того, что тот колдун, сколько из-за предательства родины и веры. Андрей Белый, к примеру, интерпретировал «Страшную месть» как социальную историю, а не мистическую: «Суть же не в том, что “колдун”, а в том, что – отщепенец от рода, “страшно” не оттого, что “страшен”, а оттого, что страшна жизнь, в которой пришелец издалека выглядит непременно “антихристом”».
Согласно Белому, настоящий ужас «Вечеров» сосредоточен не в изображении чертей и ведьм, а в изображении патриархального общества: «Всякий инако слаженный, – хозяйственник ли, инако мыслящий ли, инако ли одёвый, инако ли сеющий репу, внушает ужас любому скопищу людей, которое тут же “срастается в одно громадное чудовище” (как у Гоголя в “Сорочинской ярмарке”. – Прим. ред.); каждому в сросшемся со всем, что ни есть, состоянии кажется, “будто залез в прадедовскую душу” он; а кто не залез, того – бей!»

Корпус Киево-Могилянской академии. 1900-е годы[25]
ГДЕ В «ВЕЧЕРАХ» ПРЯЧЕТСЯ САМ ГОГОЛЬ?
Комическое альтер эго писателя можно увидеть в образе панича в гороховом сюртуке, рассказчика нескольких историй из первой части «Вечеров». Иронические комментарии Рудого Панька насчет излишней литературности историй панича, по сути, предвосхищают упреки критиков, которых раздражает высокопарный слог Гоголя. В облике героя есть и общие с писателем черты, например способность вынюхать большую порцию табака; в «Вечерах»: «…Захвативши немалую порцию табаку, растертого с золою и листьями любистка, поднес ее коромыслом к носу и вытянул носом на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большого пальца», а вот запись Гоголя в альбоме Елизаветы Чертковой: «…Мой <нос> решительно птичий, остроконечный и длинный… могущий наведываться лично, без посредства пальцев, в самые мелкие табакерки».
Трагическое же альтер эго писателя можно рассмотреть в образе колдуна из «Страшной мести» (о его автобиографизме писали Андрей Белый, Валерий Брюсов, Александр Блок, Дмитрий Мережковский, Алексей Ремизов, Иван Ермаков). И панича, и колдуна роднит друг с другом их статус чужого в диканьковском мире и нежелание соблюдать установленные в нем традиции. Этот бескомпромиссный индивидуализм, чувство отчуждения и инаковости было хорошо знакомо Гоголю (см. у Набокова: «Школьником он с болезненным упорством ходил не по той стороне улицы, по которой шли все; надевал правый башмак на левую ногу; посреди ночи кричал петухом и расставлял мебель своей комнаты в беспорядке, словно заимствованном из “Алисы в Зазеркалье”»). Панич и колдун, по сути, представляют собой два полюса гоголевского творчества, на одном из которых «настоящая веселость», по Пушкину, на другом – жуткая дьявольщина, пустота.
Вечера на хуторе близ Диканьки
Часть первая
Предисловие
«Это что за невидаль: “Вечера на хуторе близ Диканьки”? Что это за “Вечера”? И швырнул в свет какой-то пасичник! Слава Богу! еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу! Еще мало народу, всякого звания и сброду, вымарало пальцы в чернилах! Дернула же охота и пасичника потащиться вслед за другими! Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть в нее».
Слышало, слышало вещее мое все эти речи еще за месяц! То есть я говорю, что нашему брату, хуторянину, высунуть нос из своего захолустья в большой свет – батюшки мои! – Это все равно, как случается, иногда зайдешь в покои великого пана: все обступят тебя и пойдут дурачить. Еще бы ничего, пусть уже высшее лакейство, нет, какой-нибудь оборванный мальчишка, посмотреть – дрянь, который копается на заднем дворе, и тот пристанет; и начнут со всех сторон притопывать ногами. «Куда, куда, зачем? пошел, мужик, пошел!..» Я вам скажу… Да что говорить! Мне легче два раза в год съездить в Миргород, в котором вот уже пять лет как не видал меня ни подсудок из земского суда, ни почтенный иерей, чем показаться в этот великий свет. А показался – плачь не плачь, давай ответ.
У нас, мои любезные читатели, не во гнев будь сказано (вы, может быть, и рассердитесь, что пасичник говорит вам запросто, как будто какому-нибудь свату своему или куму), – у нас, на хуторах, водится издавна: как только окончатся работы в поле, мужик залезет отдыхать на всю зиму на печь, и наш брат припрячет своих пчел в темный погреб, когда ни журавлей на небе, ни груш на дереве не увидите более, – тогда, только вечер, уже наверно где-нибудь в конце улицы брезжит огонек, смех и песни слышатся издалеча, бренчит балалайка, а подчас и скрыпка, говор, шум… Это у нас вечерницы! Они, изволите видеть, они похожи на ваши балы; только нельзя сказать, чтобы совсем. На балы если вы едете, то именно для того, чтобы повертеть ногами и позевать в руку; а у нас соберется в одну хату толпа девушек совсем не для бала, с веретеном, с гребнями; и сначала будто и делом займутся: веретена шумят, льются песни, и каждая не подымет и глаз в сторону; но только нагрянут в хату парубки с скрыпачом – подымется крик, затеется шаль, пойдут танцы и заведутся такие штуки, что и рассказать нельзя.
Но лучше всего, когда собьются все в тесную кучку и пустятся загадывать загадки или просто нести болтовню. Боже ты мой! Чего только не расскажут! Откуда старины не выкопают! Каких страхов не нанесут! Но нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасичника Рудого Панька. За что меня миряне прозвали Рудым Паньком – ей-богу, не умею сказать. И волосы, кажется, у меня теперь более седые, чем рыжие. Но у нас, не извольте гневаться, такой обычай: как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно. Бывало, соберутся накануне праздничного дня добрые люди в гости, в пасичникову лачужку, усядутся за стол, – и тогда прошу только слушать. И то сказать, что люди были вовсе не простого десятка, не какие-нибудь мужики хуторянские. Да, может, иному, и повыше пасичника, сделали бы честь посещением. Вот, например, знаете ли вы дьяка диканьской церкви, Фому Григорьевича? Эх, голова! Что за истории умел он отпускать! Две из них найдете в этой книжке. Он никогда не носил пестрядевого[26] халата, какой встретите вы на многих деревенских дьячках; но заходите к нему и в будни, он вас всегда примет в балахоне из тонкого сукна, цвету застуженного картофельного киселя, за которое платил он в Полтаве чуть не по шести рублей за аршин. От сапог его у нас никто не скажет на целом хуторе, чтобы слышен был запах дегтя; но всякому известно, что он чистил их самым лучшим смальцем[27], какого, думаю, с радостью иной мужик положил бы себе в кашу. Никто не скажет также, чтобы он когда-либо утирал нос полою своего балахона, как то делают иные люди его звания; но вынимал из пазухи опрятно сложенный белый платок, вышитый по всем краям красными нитками, и, исправивши что следует, складывал его снова, по обыкновению, в двенадцатую долю и прятал в пазуху. А один из гостей… Ну, тот уже был такой панич, что хоть сейчас нарядить в заседатели или подкомории[28]. Бывало, поставит перед собою палец и, глядя на конец его, пойдет рассказывать – вычурно да хитро, как в печатных книжках! Иной раз слушаешь, слушаешь, да и раздумье нападет. Ничего, хоть убей, не понимаешь. Откуда он слов понабрался таких! Фома Григорьевич раз ему насчет этого славную сплел присказку: он рассказал ему, как один школьник, учившийся у какого-то дьяка грамоте, приехал к отцу и стал таким латыньщиком, что позабыл даже наш язык православный. Все слова сворачивает на ус. Лопата у него – лопатус, баба – бабус. Вот, случилось раз, пошли они вместе с отцом в поле. Латыньщик увидел грабли и спрашивает отца: «Как это, батьку, по-вашему называется?» Да и наступил, разинувши рот, ногою на зубцы. Тот не успел собраться с ответом, как ручка, размахнувшись, поднялась и – хвать его по лбу. «Проклятые грабли! – закричал школьник, ухватясь рукою за лоб и подскочивши на аршин. – Как же они, черт бы спихнул с мосту отца их, больно бьются!» Так вот как! Припомнил и имя, голубчик! Такая присказка не по душе пришлась затейливому рассказчику. Не говоря ни слова, встал он с места, расставил ноги свои посереди комнаты, нагнул голову немного вперед, засунул руку в задний карман горохового кафтана своего, вытащил круглую под лаком табакерку, щелкнул пальцем по намалеванной роже какого-то бусурманского генерала и, захвативши немалую порцию табаку, растертого с золою и листьями любистка, поднес ее коромыслом к носу и вытянул носом на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большого пальца, – и всё ни слова; да как полез в другой карман и вынул синий в клетках бумажный платок, тогда только проворчал про себя чуть ли еще не поговорку: «Не мечите бисер перед свиньями»… «Быть же теперь ссоре», – подумал я, заметив, что пальцы у Фомы Григорьевича так и складывались дать дулю. К счастию, старуха моя догадалась поставить на стол горячий кныш с маслом. Все принялись за дело. Рука Фомы Григорьевича, вместо того чтоб показать шиш, протянулась к кнышу, и, как всегда водится, начали прихваливать мастерицу хозяйку. Еще был у нас один рассказчик; но тот (нечего бы к ночи и вспоминать о нем) такие выкапывал страшные истории, что волосы ходили по голове. Я нарочно и не помещал их сюда. Еще напугаешь добрых людей так, что пасичника, прости Господи, как черта все станут бояться. Пусть лучше, как доживу, если даст Бог, до нового года и выпущу другую книжку, тогда можно будет постращать выходцами с того света и дивами, какие творились в старину в православной стороне нашей. Меж ними, статься может, найдете побасёнки самого пасичника, какие рассказывал он своим внукам. Лишь бы слушали да читали, а у меня, пожалуй, – лень только проклятая рыться, – наберется и на десять таких книжек.
Да, вот было и позабыл самое главное: как будете, господа, ехать ко мне, то прямехонько берите путь по столбовой дороге на Диканьку. Я нарочно и выставил ее на первом листке, чтобы скорее добрались до нашего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы наслышались вдоволь. И то сказать, что там дом почище какого-нибудь пасичникова куреня. А про сад и говорить нечего: в Петербурге вашем, верно, не сыщете такого. Приехавши же в Диканьку, спросите только первого попавшегося навстречу мальчишку, пасущего в запачканной рубашке гусей: «А где живет пасичник Рудый Панько?» – «А вот там!» – скажет он, указавши пальцем, и, если хотите, доведет вас до самого хутора. Прошу, однако ж, не слишком закладывать назад руки и, как говорится, финтить, потому что дороги по хуторам нашим не так гладки, как перед вашими хоромами. Фома Григорьевич, третьего году, приезжая из Диканьки, понаведался-таки в провал с новою таратайкою своею и гнедою кобылою, несмотря на то, что сам правил и что сверх своих глаз надевал по временам еще покупные.
Зато уже как пожалуете в гости, то дынь подадим таких, каких вы отроду, может быть, не ели; а меду, и забожусь, лучшего не сыщете на хуторах. Представьте себе, что как внесешь сот – дух пойдет по всей комнате, вообразить нельзя какой: чист, как слеза или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. А какими пирогами накормит моя старуха! Что за пироги, если б вы только знали: сахар, совершенный сахар! А масло, так вот и течет по губам, когда начнешь есть. Подумаешь, право: на что не мастерицы эти бабы! Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху[29] с изюмом и сливами? Или не случалось ли вам подчас есть путрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть – объяденье, да и полно. Сладость неописанная! Прошлого года… Однако ж что я в самом деле разболтался?.. Приезжайте только, приезжайте поскорей; а накормим так, что будете рассказывать и встречному, и поперечному.
Пасичник Рудый Панько.На всякий случай, чтобы не помянули меня недобрым словом, выписываю сюда, по азбучному порядку, те слова, которые в книжке этой не всякому понятны.
Банду́ра, инструмент, род гитары.
Бато́г, кнут.
Боля́чка, золотуха.
Бо́ндарь, бочар.
Бу́блик, круглый крендель, баранчик.
Буря́к, свекла.
Бухане́ц, небольшой хлеб.
Ви́нница, винокурня.
Галу́шки, клёцки.
Голодра́бец, бедняк, бобыль.
Гопа́к, малороссийский танец.
Го́рлица, малороссийский танец.
Ди́вчина, девушка.
Дивча́та, девушки.
Дижа́, кадка.
Дрибу́шки, мелкие косы.
Домови́на, гроб.
Ду́ля, шиш.
Дука́т, род медали, носится на шее.
Зна́хор, многознающий, ворожея.
Жи́нка, жена.
Жупа́н, род кафтана.
Кагане́ц, род светильни.
Кле́пки, выпуклые дощечки, из коих составлена бочка.
Кныш, род печеного хлеба.
Ко́бза, музыкальный инструмент.
Комо́ра, амбар.
Кора́блик, головной убор.
Кунту́ш, верхнее старинное платье.
Корова́й, свадебный хлеб.
Ку́холь, глиняная кружка.
Лысый дидько, домовой, демон.
Лю́лька, трубка.
Маки́тра, горшок, в котором трут мак.
Макого́н, пест для растирания мака.
Малаха́й, плеть.
Ми́ска, деревянная тарелка.
Молоди́ца, замужняя женщина.
На́ймыт, нанятой работник.
На́ймычка, нанятая работница.
Оселе́дец, длинный клок волос на голове, заматывающийся на ухо.
Очи́пок, род чепца.
Пампу́шки, кушанье из теста.
Па́сичник, пчеловод.
Па́рубок, парень.
Пла́хта, нижняя одежда женщин.
Пе́кло, ад.
Пере́купка, торговка.
Переполо́х, испуг.
Пе́йсики, жидовские локоны.
Пове́тка, сарай.
Полу́табенек, шелковая материя.
Пу́тря, кушанье, род каши.
Рушни́к, утиральник.
Сви́тка, род полукафтанья.
Синдя́чки, узкие ленты.
Сластёны, пышки.
Сво́лок, перекладина под потолком.
Сливя́нка, наливка из слив.
Сму́шки, бараний мех.
Со́няшница, боль в животе.
Сопи́лка, род флейты.
Стуса́н, кулак.
Стри́чки, ленты.
Тройча́тка, тройная плеть.
Хло́пец, парень.
Ху́тор, небольшая деревушка.
Ху́стка, платок носовой.
Цибу́ля, лук.
Чумаки́, обозники, едущие в Крым за солью и рыбою.
Чупри́на, чуб, длинный клок волос на голове.
Ши́шка, небольшой хлеб, делаемый на свадьбах.
Юшка, соус, жижа.
Ятка, род палатки или шатра.
Сорочинская ярмарка
I
Менi нудно в хатi жить.
Ой, вези ж мене iз дому,
Де багацько грому, грому,
Де гопцюють все дiвки,
Де гуляють парубки![30]
Из старинной легендыКак упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно-жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих! На нем ни облака. В поле ни речи. Все как будто умерло; вверху только, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые стога сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешен, слив, яблонь, груш; небо, его чистое зеркало – река в зеленых, гордо поднятых рамах… как полно сладострастия и неги малороссийское лето!
Такою роскошью блистал один из дней жаркого августа тысячу восемьсот… восемьсот… Да, лет тридцать будет назад тому, когда дорога, верст за десять до местечка Сорочинец, кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. С утра еще тянулись нескончаемою вереницею чумаки[31] с солью и рыбою. Горы горшков, закутанных в сено, медленно двигались, кажется, скучая своим заключением и темнотою; местами только какая-нибудь расписанная ярко миска или макитра хвастливо выказывалась из высоко взгроможденного на возу плетня и привлекала умиленные взгляды поклонников роскоши. Много прохожих поглядывало с завистью на высокого гончара, владельца сих драгоценностей, который медленными шагами шел за своим товаром, заботливо окутывая глиняных своих щеголей и кокеток ненавистным для них сеном.
Одиноко в стороне тащился на истомленных волах воз, наваленный мешками, пенькою, полотном и разною домашнею поклажею, за которым брел, в чистой полотняной рубашке и запачканных полотняных шароварах, его хозяин. Ленивою рукою обтирал он катившийся градом пот со смуглого лица и даже капавший с длинных усов, напудренных тем неумолимым парикмахером, который без зову является и к красавице, и к уроду и насильно пудрит несколько тысяч уже лет весь род человеческий. Рядом с ним шла привязанная к возу кобыла, смиренный вид которой обличал преклонные лета ее. Много встречных, и особливо молодых парубков, брались за шапку, поровнявшись с нашим мужиком. Однако ж не седые усы и не важная поступь его заставляли это делать; стоило только поднять глаза немного вверх, чтоб увидеть причину такой почтительности: на возу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком, с черными бровями, ровными дугами поднявшимися над светлыми карими глазами, с беспечно улыбавшимися розовыми губками, с повязанными на голове красными и синими лентами, которые, вместе с длинными косами и пучком полевых цветов, богатою короною покоились на ее очаровательной головке. Всё, казалось, занимало ее; всё было ей чудно, ново… и хорошенькие глазки беспрестанно бегали с одного предмета на другой. Как не рассеяться! в первый раз на ярмарке! Девушка в осьмнадцать лет в первый раз на ярмарке!.. Но ни один из прохожих и проезжих не знал, чего ей стоило упросить отца взять с собою, который и душою рад бы был это сделать прежде, если бы не злая мачеха, выучившаяся держать его в руках так же ловко, как он вожжи своей старой кобылы, тащившейся, за долгое служение, теперь на продажу. Неугомонная супруга… Но мы и позабыли, что и она тут же сидела на высоте воза, в нарядной шерстяной зеленой кофте, по которой, будто по горностаевому меху, нашиты были хвостики, красного только цвета, в богатой плахте, пестревшей, как шахматная доска, и в ситцевом цветном очипке, придававшем какую-то особенную важность ее красному, полному лицу, по которому проскальзывало что-то столь неприятное, столь дикое, что каждый тотчас спешил перенести встревоженный взгляд свой на веселенькое личико дочки.