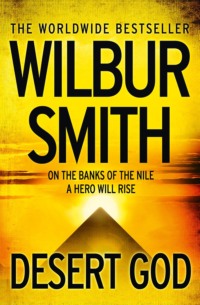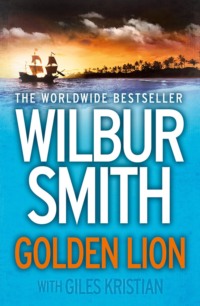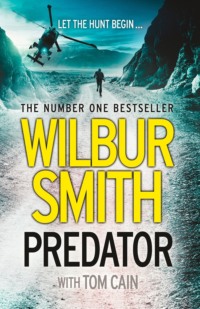Полная версия
Ярость
– Я пришлю за тобой, когда это будет безопасно.
– Я приду мгновенно, когда бы ты ни позвал.
– А сейчас я должен уйти. Отвези меня.
На сей раз Тара остановилась у дома Молли, в тени, где их не могли увидеть с дороги.
«Теперь начнутся увертки и скрытность, – спокойно подумала Тара. – Да, это так. Моя жизнь уже не будет прежней».
Мозес не сделал попытки обнять ее, это было не в обычае африканцев. Он просто смотрел на Тару, и белки его глаз светились в полутьме, как слоновая кость.
– Ты понимаешь, что, выбирая меня, ты выбираешь борьбу? – спросил он.
– Да, я это знаю.
– Тебе придется стать воином, и ты сама, твои желания и даже твоя жизнь уже не будут иметь значения. Если тебе придется погибнуть в этой борьбе, я не протяну руку, чтобы спасти тебя.
Тара кивнула:
– Да, я понимаю.
Благородство самой этой идеи наполнило ее грудь, мешая дышать, поэтому голос Тары стал хриплым, когда она прошептала:
– Ни у кого нет большей любви, чем эта… я пожертвую чем угодно, если ты попросишь.
Мозес ушел в гостевую спальню, которую предоставила ему Молли; и пока он умывался, Маркус Арчер без стука проскользнул к нему, закрыл дверь и прислонился к ней, наблюдая за Мозесом через зеркало.
– Получилось? – наконец спросил он таким тоном, словно ему не хотелось слышать ответ.
– Именно так, как мы и задумали. – Мозес вытер лицо чистым полотенцем.
– Ненавижу эту глупую маленькую сучку, – чуть слышно произнес Маркус.
– Мы ведь решили, что это необходимо.
Мозес выбрал чистую рубашку в чемодане, лежавшем на кровати.
– Знаю, что решили, – ответил Маркус. – Я сам это предложил, если помнишь, но я не обязан любить ее за это.
– Она просто инструмент. С твоей стороны неразумно примешивать сюда личные чувства.
Маркус Арчер кивнул. В конце концов, он питал надежду, что сможет действовать как истинный революционер, один из тех стальных непреклонных людей, в которых нуждалась их борьба. Но его чувства к этому человеку, Мозесу Гаме, были сильнее, чем любые политические убеждения.
Он знал, что эти чувства не взаимны. Уже много лет Мозес Гама использовал его так же цинично и расчетливо, как теперь задумал использовать эту женщину, Кортни. Мозес Гама рассматривал собственную огромную сексуальную привлекательность просто как еще одно оружие в его арсенале, еще одно средство для управления людьми. Он мог обращать ее на мужчин или женщин, молодых или старых, при этом не важно, хороши они были или отвратительны, и Маркус восхищался этой его способностью, но в то же время она опустошала его.
– Мы завтра уезжаем в Витватерсранд, – сказал он, отодвигаясь от двери и на мгновение справляясь со своей ревностью. – Я уже все подготовил.
– Так быстро? – спросил Мозес.
– Все уже подготовлено. Поедем на машине.
Это была одна из проблем, мешавших их работе. Чернокожему человеку трудно было путешествовать по огромному субконтиненту, поскольку у него в любой момент могли потребовать предъявить домпас и подвергнуть допросу, если бы власти обнаружили, что он находится далеко от постоянного места жительства без видимой причины или что на его пропуске нет печати нанимателя.
Связь Мозеса с Маркусом и его формальная работа, которую устроил ему Маркус на рудниках, давали Гаме весьма ценное прикрытие, когда возникала необходимость куда-то поехать, но им всегда требовались посыльные. Это вполне могла обеспечить им Тара Кортни. К тому же она по рождению и замужеству занимала высокое положение, и та информация, которую она могла раздобыть, оказалась бы весьма ценной для их планов. Позже, когда она докажет свою преданность, ей могут дать и другие, более опасные задания.
В конце концов Шаса Кортни осознал, что именно совет матери склонил чашу весов и помог ему решить, принимать или отвергнуть предложение, полученное во время охоты на антилоп на открытых равнинах Оранжевого Свободного государства.
Шаса первым презрел бы любого мужчину своего возраста, до сих пор цепляющегося за материнскую юбку, но ему и в голову не приходило, что это относится и к нему самому. Тот факт, что Сантэн Кортни была его матерью, выглядел совершенно несущественным. Что привлекало его в ней, так это острейший финансовый и политический ум; она также была его деловым партнером и единственным доверенным лицом. И принять такое серьезное решение, не посоветовавшись с ней, он никогда бы не решился.
Он выждал неделю после возвращения в Кейптаун, разбираясь в своих чувствах и ища возможности поговорить с Сантэн наедине, потому что ничуть не сомневался, какой будет реакция его отчима на подобное предложение. Блэйн Малкомс представлял оппозицию в парламентском подкомитете, изучавшем проект замены нефти на уголь, это было частью долговременного плана правительства по снижению зависимости страны от импортной сырой нефти. Комитет намеревался рассмотреть все доводы за и против, изучив ситуацию на месте, и Сантэн в кои-то веки не сопровождала мужа. Именно такого случая и выжидал Шаса.
До имения Малкомсов от Вельтевредена ехать на машине было меньше получаса, через перевал Констанция-Нек и вниз по другую сторону гор к побережью Атлантики, где на пятистах акрах земли стоял дом, построенный Сантэн для Блэйна; поросшие дикой протеей склоны круто спускались к скалистым мысам и белым пляжам. Старый дом, Родс-Хилл, построил во время правления королевы Виктории один из прежних магнатов-шахтовладельцев из Рэнда, но Сантэн полностью изменила и обновила его внутри.
Когда Шаса припарковал «ягуар», она уже ждала его на веранде, и он взбежал по ступеням, чтобы обнять ее.
– Ты худеешь, – нежно пожурила она его.
По его телефонному звонку она поняла, что сын хочет обсудить нечто важное, и Сантэн поступила в соответствии с их традицией. Она надела хлопковую блузку с открытым воротом, просторные брюки и удобные ботинки для пеших прогулок и, ничего не говоря, взяла сына под руку, и они пошли по дорожке, которая огибала ее розовый сад и поднималась по заросшему склону холма.
Последняя часть подъема была крутой, а тропа неровной, но Сантэн миновала ее без остановок и вышла на вершину впереди Шасы. Ее дыхание почти не изменилось и через минуту уже вернулось в норму. «Она держит себя в прекрасной форме, и одному небу известно, сколько она тратит на разные оздоровительные средства, да еще и тренируется, как профессиональный атлет», – подумал Шаса, с гордой улыбкой посматривая на нее. Он обнял мать за тонкую крепкую талию.
– Разве здесь не прекрасно? – Сантэн легко прислонилась к сыну, глядя на холодные зеленые воды Бенгельского течения, окружавшего белым пенным кружевом мыс, который, словно ступня средневекового рыцаря, был закован в доспехи из черного камня. – Это одно из моих любимых мест.
– Кто бы сомневался, – пробормотал Шаса и повел ее к плоскому камню, поросшему лишайником.
Сантэн уселась на него, обхватив колени, а Шаса растянулся на пышном мху под ней. Какое-то время они оба молчали, и Шаса задумался о том, как часто они сидели вот так в этом особенном для Сантэн месте и сколько трудных решений было принято здесь.
– Ты помнишь Манфреда де ла Рея? – внезапно спросил он, но оказался не готов к ее реакции.
Сантэн вздрогнула и уставилась на него широко раскрытыми глазами, кровь отлила от ее щек, и Шаса не понял выражения ее лица.
– Что-то не так, мама?
Он начал встать, но она жестом остановила его.
– Почему ты спрашиваешь о нем? – спросила она, но Шаса не ответил прямо.
– Разве не странно, что наши пути пересекаются с его семьей? С тех самых пор, как его отец спас нас, когда я был еще младенцем и мы жили с бушменами в Калахари.
– Нам незачем снова перебирать все это, – резко перебила его Сантэн.
Шаса сообразил, что был бестактен. Отец Манфреда ограбил рудник Ха’ани, похитив алмазов почти на миллион фунтов в качестве мести за воображаемые обиды, которые, как он убедил себя, Сантэн причинила ему. За это преступление он был приговорен к пожизненному заключению и провел в тюрьме почти пятнадцать лет, но был помилован, когда в 1948 году к власти пришли националисты. В то же самое время националисты помиловали многих африканеров, отбывающих наказание за государственную измену, саботаж и вооруженное ограбление, осужденных правительством Смэтса за попытку помешать стране воевать с нацистской Германией. Однако украденные алмазы так и не были найдены, и это едва не уничтожило состояние, которое Сантэн Кортни создавала с таким трудом, жертвуя многим.
– Почему ты заговорил о Манфреде де ла Рее? – повторила она вопрос.
– Он пригласил меня на некую встречу. Тайную встречу – в стиле плащей и кинжалов.
– И ты пошел?
Шаса медленно кивнул:
– Мы собрались на одной ферме в Свободном государстве, и там присутствовали еще два министра.
– Ты говорил с Манфредом наедине? – спросила Сантэн.
Тон вопроса, как и тот факт, что она назвала де ла Рея просто по имени, насторожил Шасу. Потом он вспомнил неожиданный вопрос, который задал ему Манфред де ла Рей.
«Ваша мать говорила с вами обо мне?» – спросил он тогда, и теперь при реакции Сантэн на его имя вопрос приобретал новое значение.
– Да, мама, я разговаривал с ним наедине.
– Он упоминал обо мне? – резко произнесла Сантэн, и Шаса слегка озадаченно хихикнул:
– Он задал мне тот же самый вопрос – говорила ли ты со мной о нем. Почему вы оба так интересуетесь друг другом?
Лицо Сантэн помрачнело, Шаса увидел, как она замкнулась. Это была тайна, которую он не раскрыл бы, продолжая настаивать, поэтому следовало проявить осторожность.
– Они сделали мне некое предложение.
Он увидел, как в Сантэн снова пробудился интерес.
– Манфред? Предложение? Рассказывай.
– Они хотят, чтобы я перешел на другую сторону.
Она медленно кивнула, не выказывая особого удивления и не отвергая сразу эту идею. Шаса понимал, что, окажись здесь Блэйн, все было бы совсем иначе. Чувство чести Блэйна, его твердые принципы не оставили бы места для маневра. Блэйн был человеком Смэтса; и хотя старый фельдмаршал умер от разрыва сердца вскоре после того, как националисты лишили его парламентского мандата и отобрали бразды правления, Блэйн все равно оставался верным его памяти.
– Могу догадаться, зачем ты им нужен, – не спеша произнесла Сантэн. – Им нужен выдающийся финансовый аналитик, организатор и предприниматель. Это единственное, чего нет в их кабинете.
Шаса кивнул. Сантэн мгновенно все поняла, и его огромное уважение к ней в очередной раз подтвердилось.
– Какую цену они готовы заплатить? – требовательно спросила она.
– Назначение в кабинет министров – министром рудной промышленности.
Шаса увидел, как взгляд матери стал рассеянным, как у близорукой, когда она уставилась вдаль, на море. Он знал, что означает это выражение. Сантэн делала расчеты, оценивая будущее, и он терпеливо ждал, пока она не сосредоточилась снова.
– У тебя есть какие-то причины отказаться? – спросила она.
– А как насчет моих политических принципов?
– Чем они отличаются от их собственных?
– Я не африканер.
– Это может послужить к твоей выгоде. Ты станешь их символическим англичанином. Это придаст тебе особый статус. Ты получишь свободу действий. И если им понадобится кого-то уволить, то они скорее избавятся от кого-то из своих, чем от тебя.
– Но я не согласен с их национальной политикой, с этим ихапартеидом, он просто ошибочен в финансовом отношении.
– Боже мой, Шаса! Ты ведь не веришь в равные политические права для чернокожих, не так ли? Даже Ян Смэтс этого не хотел! Ты же не хочешь, чтобы нами правил очередной вождь вроде Чаки, не хочешь черных судей и черных полицейских, защищающих черного диктатора? – Она содрогнулась. – Они бы с нами быстро расправились!
– Нет, мама, конечно не хочу. Но апартеид – это же просто уловка, средство захватить весь пирог целиком. Мы должны дать и им кусок, мы же не можем съесть все сами! Это уж точно отличный рецепт для кровавой революции.
– Отлично, chéri. Если ты войдешь в состав кабинета, ты сможешь присмотреть за тем, чтобы они получили пару крошек.
Шаса явно сомневался; он демонстративно достал сигарету из своего золотого портсигара и закурил.
– У тебя особый дар, Шаса, – убежденно продолжала Сантэн. – Твой долг – использовать его на благо всем.
Но он все еще колебался; ему хотелось, чтобы мать высказалась до конца. Ему нужно было знать, хочет ли она этого так же сильно, как он сам.
– Мы должны быть честны друг с другом, chéri. Это ведь именно то, ради чего мы трудились с самого твоего детства. Прими эту работу и делай ее хорошо. А потом… кто знает, что еще может произойти?
Воцарилось молчание; они знали, на что надеялись в будущем. Они ничего не могли с собой поделать, такова была их природа – всегда стремиться к высочайшей вершине.
– А как же Блэйн? – спросил наконец Шаса. – Как он это воспримет? Я не горю желанием объясняться с ним.
– Я сама это сделаю, – пообещала Сантэн. – Но тебе придется поговорить с Тарой.
– Тара, – вздохнул Шаса. – Да, тут может возникнуть проблема.
Они снова молчали, пока наконец Сантэн не спросила:
– Как ты это сделаешь? Если просто перейдешь на другую сторону, ты приобретешь дурную славу…
Итак, все уже было решено без лишних слов, осталось обсудить технические средства.
– На следующих всеобщих выборах я просто проведу кампанию под другими цветами, – ответил Шаса. – Они обеспечат мне надежное место.
– Значит, у нас есть немного времени, чтобы согласовать детали.
Они посвятили обсуждению еще час, выстраивая план с предельным вниманием, который делал их такой невероятно успешной командой на протяжении многих лет, и наконец Шаса посмотрел на мать.
– Спасибо тебе, – просто сказал он. – Что бы я без тебя делал! Ты сильнее и умнее всех мужчин, каких я только знал.
– Вот этого не надо, – улыбнулась она. – Ты знаешь, как я ненавижу лесть.
Они оба засмеялись над этой бессмыслицей.
– Я тебя провожу вниз, мама.
Но Сантэн покачала головой:
– Мне нужно еще кое о чем подумать. Останусь здесь.
Она наблюдала, как сын спускается с холма, и ее любовь и гордость были так сильны, что почти мешали ей дышать.
«В нем есть все, что я всегда хотела видеть в сыне. Спасибо тебе, мой сынок, спасибо за радость, которую ты всегда приносишь мне».
Но тут слова «мой сынок» внезапно вызвали новую реакцию, и Сантэн вернулась мыслями к началу их разговора.
«Ты помнишь Манфреда де ла Рея?» – спросил у нее Шаса, но он и представить себе не мог, каким должен быть ответ.
– Может ли женщина забыть дитя, которое она выносила? – вслух прошептала ответ Сантэн, но ее слова затерялись в ветре и шуме зеленого прибоя, бившегося о каменистый берег под холмом.
Все скамьи в церкви были заняты. Разноцветные чепчики женщин напоминали поле диких маргариток в Намакваленде весной, а костюмы мужчин были темными и строгими. Все лица обратились к великолепной резной кафедре черного дерева, на которой стоял преподобный Тромп Бирман, глава Голландской реформатской церкви Южной Африки.
Манфред де ла Рей в очередной раз задумался над тем, как сильно постарел дядя Тромп за годы, прошедшие после войны. Он так и не оправился до конца от пневмонии, которой переболел в концентрационном лагере у Коффифонтейна, куда этот любитель англичан Ян Смэтс отправил его вместе с сотнями других патриотов-африканеров на все время войны англичан с Германией.
Теперь борода дяди Тромпа стала снежно-белой, что выглядело еще более эффектно, чем тот черный куст, которым она была когда-то. Волосы на голове, тоже седые, он стриг коротко, чтобы скрывать, как они поредели, и они сверкали, словно стеклянная пудра на большой голове. Однако глаза Тромпа пылали огнем, когда он смотрел на свою паству, а голос, благодаря которому он получил прозвище Глас Божий, ничуть не утратил мощи и гремел под высоким сводчатым потолком.
Дядя Тромп по-прежнему собирал полную церковь, и Манфред серьезно, но гордо кивал, когда над ним взрывалась яростная проповедь. На самом деле он не вслушивался в слова, а просто наслаждался чувством единства, наполнявшим его; мир становился безопасным и добрым местом, когда на кафедру поднимался дядя Тромп. И человек мог вверить себя Господу своего народа, когда дядя Тромп говорил об этом с такой уверенностью, и не сомневаться в божественном вмешательстве, направляющем его жизнь.
Манфред де ла Рей сидел на передней скамье, справа от кафедры, ближе к проходу. Это было самое почетное место в общине, и Манфред занимал его по праву, как наиболее могущественный и важный человек в этой церкви. Скамья была предназначена именно для него и его семьи, их имена были напечатаны золотом на книгах псалмов, что лежали рядом с каждым сиденьем.
Хейди, его жена, была великолепной женщиной, высокой и сильной; ее руки, открытые под пышными рукавами, были гладкими и крепкими, она обладала пышной грудью прекрасной формы, длинной шеей. Густые золотистые волосы она заплела в косы и уложила под черную широкополую шляпу. Манфред познакомился с ней в Берлине, когда стал золотым медалистом среди боксеров в полутяжелом весе на Олимпийских играх 1936 года, и сам Адольф Гитлер присутствовал на их свадьбе. В годы войны им пришлось разлучиться, но потом Манфред привез ее в Африку вместе с их сыном, маленьким Лотаром.
Теперь Лотару было почти двенадцать лет, он стал чудесным сильным парнишкой, светловолосым, как мать, и крепким, как отец. Он сидел на их скамье очень прямо, его волосы были аккуратно зачесаны назад и смазаны бриллиантином, а жесткий белый воротник стягивал шею. Как и отец, он мог бы стать атлетом, но вместо этого предпочел регби и уже делал немалые успехи. Три его младшие сестры, светленькие и хорошенькие, сияющие здоровьем, сидели за ним, их личики обрамляли традиционные чепчики фуртреккеров, предков африканеров, а длинные юбки падали до лодыжек. Манфреду нравилось, что по воскресеньям они надевали национальные платья.
Дядя Тромп закончил проповедь призывом к спасению, заставившим его паству затрепетать перед угрозой адского огня, и все встали, чтобы запеть заключительный гимн. Глядя в одну книгу с Хейди, Манфред заодно посматривал на ее красивые немецкие черты лица. Она была женой, которой можно гордиться, хорошей хозяйкой и матерью, прекрасной спутницей, которой можно доверять, и блестящим украшением его политической карьеры. Такая женщина могла бы стоять рядом с любым мужчиной, даже с премьер-министром могущественной и процветающей страны.
Манфред позволил себе задержаться на этой тайной мысли. Но ведь все было возможно, он был молодым человеком, самым молодым на сегодняшний день в кабинете министров, и он никогда не совершал политических ошибок. Даже его деятельность во время войны принесла ему доверие и уважение среди равных, хотя за пределами самого близкого круга мало кто по-настоящему знал о той роли, которую он играл в военной антибританской и пронацистской секретной армии Оссевабрандваг, «Стража воловьей повозки».
Все поговаривали, что он многообещающий человек, и это было видно по огромному уважению, которое ему оказывали по окончании службы, когда община покидала церковь. Манфред с Хейди стояли на лужайке перед церковью, а важные и влиятельные люди подходили к ним, чтобы вручить приглашения на прием, попросить об одолжении, поздравить Манфреда с удачной речью в парламенте по поводу нового акта о поправках к уголовному законодательству или просто засвидетельствовать свое почтение. Прошло почти двадцать минут, прежде чем он смог покинуть двор церкви.
Семья отправилась домой пешком. Им нужно было пройти всего два квартала под зелеными дубами, что обрамляли улицы Стелленбоса, маленького университетского городка, ставшего цитаделью интеллектуализма и культуры африканеров. Три девочки шли впереди, Лотар следовал за ними, а Манфред с Хейди под руку замыкали шествие, каждые несколько шагов останавливаясь, чтобы выслушать приветствия или обменяться несколькими словами с соседями, друзьями или с кем-то из избирателей Манфреда.
Манфред купил этот дом, когда они вернулись сюда после войны. Хотя при доме имелся лишь маленький садик, а само здание почти вплотную подходило к улице, дом был большим, с просторными комнатами и высокими потолками, отлично подходившим для их семьи. Манфред не видел причин переезжать отсюда, он чувствовал себя уютно в тевтонской обстановке, которую создала Хейди. Теперь Хейди с девочками поспешили вперед, чтобы помочь слугам на кухне, а Манфред обошел дом сбоку, направляясь к гаражу. Он никогда не пользовался в выходные своим служебным лимузином с шофером, а взял свой личный «шевроле-седан» и теперь поехал к отцу, чтобы привезти его на воскресный семейный обед.
Старик редко посещал церковь, в особенности когда проповедовал преподобный Тромп Бирман. Лотар де ла Рей жил один в небольшом доме, который Манфред купил для него на окраине города у подножия перевала Хельшугте. Лотар был в персиковом саду, занимался ульями, и Манфред остановился у калитки, наблюдая за отцом со смесью жалости и глубокой любви.
Лотар де ла Рей когда-то был высоким и стройным, как теперь внук, носящий его имя, но артрит, полученный им за годы, проведенные в Центральной тюрьме Претории, согнул и искривил его тело и превратил единственную оставшуюся руку в гротескную лапу. Левую руку ему ампутировали выше локтя, слишком высоко, чтобы использовать протез. А руку он потерял в результате ограбления, которое и привело его в тюрьму. Сейчас он был одет в грязный голубой джинсовый комбинезон, на голове у него красовалась испачканная коричневая шляпа, надвинутая на лоб до бровей. Один рукав комбинезона был заколот на спине.
Манфред открыл калитку и прошел в сад, где старик склонился над одним из деревянных ульев.
– С добрым утром, папа, – мягко произнес Манфред. – Ты еще не готов.
Его отец выпрямился и непонимающе посмотрел на него, а потом удивленно вздрогнул:
– Мани! Неужели сегодня снова воскресенье?
– Идем, па. Надо переодеться. Хейди готовит жареную свинину – она знает, как ты любишь свинину.
Он взял старика за руку и повел в дом; Лотар не сопротивлялся.
– Какой тут беспорядок, па!
Манфред с отвращением оглядел маленькую спальню. Постельное белье явно давно не меняли, грязная одежда была разбросана по полу, использованные тарелки и чашки стояли на прикроватной тумбочке.
– А что случилось с новой горничной, которую нашла тебе Хейди?
– Она мне не понравилась, наглая темная чертовка, – пробормотал Лотар. – Ворует сигары, пьет мой бренди. Я ее выгнал.
Манфред подошел к шкафу и достал чистую белую рубашку. Он помог старику переодеться.
– Когда ты в последний раз мылся, папа? – мягко спросил он.
– А? – Лотар уставился на него.
– Ладно, не важно. – Манфред застегнул рубашку на отце. – Хейди найдет тебе другую горничную. Ты должен на этот раз постараться не выгонять ее хотя бы пару недель.
Старик ни в чем не виноват, напомнил себе Манфред. Это тюрьма искалечила его рассудок. Он был гордым свободным человеком, солдатом и охотником, порождением дикой пустыни Калахари. Нельзя запирать в клетку вольного зверя. Хейди хотела, чтобы старик жил с ними, и Манфред чувствовал себя виноватым из-за того, что отказался. Это означало бы, что придется купить дом побольше, но главным было другое. Манфред не мог допустить, чтобы Лотар, одетый как цветной рабочий, рассеянно бродил по дому, без приглашения заходя в его кабинет, когда у него были важные посетители, неопрятно ел и бросал бессмысленные замечания, когда обедал у них. Нет, для всех лучше, и для старика в особенности, что он живет отдельно. Хейди придется поискать ему новую горничную, но все же Манфреда грызло чувство вины, когда он за руку вел Лотара к «шевроле».
Он ехал медленно, почти со скоростью пешехода, собираясь с духом, чтобы сделать то, чего не в силах был сделать за годы после того, как Лотар был помилован и выпущен из тюрьмы по настоянию Манфреда.
– Помнишь, каково было в прежние времена, папа? Когда мы ловили рыбу в заливе Уолфиш? – спросил он, и глаза старика засияли.
Далекое прошлое было для Лотара куда реальнее настоящего, и он радостно вспоминал те дни, без колебаний называя события, людей и места давних лет.
– Расскажи мне о моей матери, па, – попросил наконец Манфред и возненавидел себя за то, что загонял старика в тщательно подготовленную ловушку.
– Твоя мать была прекрасной женщиной, – радостно кивнул Лотар, повторяя то, что Манфред слышал много раз с детских лет. – У нее были волосы цвета пустынных дюн, когда на них падают первые лучи солнца. Прекрасная женщина из благородной немецкой семьи.
– Па, – осторожно произнес Манфред. – Ты не хочешь сказать мне правду, да? – Он словно говорил с капризным ребенком. – Та женщина, которую ты называешь моей матерью, та, что была твоей женой, умерла задолго до моего рождения. У меня есть копия свидетельства о ее смерти, подписанного английским врачом в концентрационном лагере. Она умерла от дифтерии, «белого горла».