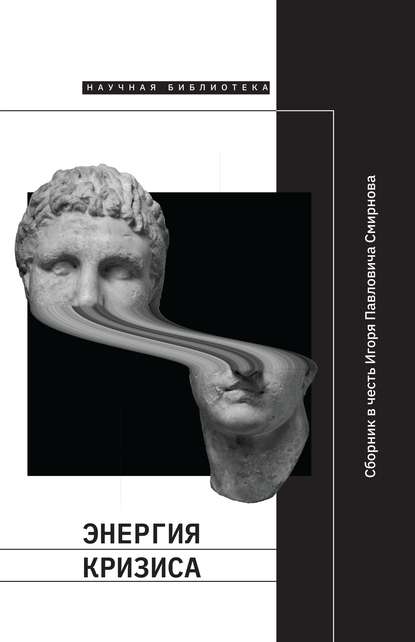Полная версия
Тамиздат. Контрабандная русская литература в эпоху холодной войны
Неудивительно, что тамиздат резко снижал или вовсе перечеркивал шансы писателя опубликоваться в госиздате, но он мог также бросить тень на репутацию автора среди его единомышленников – читателей-нонконформистов и представителей литературного андеграунда, особенно когда политические перемены внутри страны вселяли надежду на то, что цензура ослабит хватку, как было во время оттепели и в частности после XXII съезда КПСС в октябре 1961 года, когда о преступлениях Сталина впервые заговорили публично. Можно сказать, что по крайней мере в конце 1950‑х – начале 1960‑х годов, когда тамиздат формировался как литературная практика и политический институт, самиздат и тамиздат исходили из разных этических посылов: если подпольное распространение рукописи в самиздате считалось актом гражданской солидарности, мужества и даже героизма, то позволить своей рукописи утечь за рубеж и увидеть (или не увидеть) ее опубликованной в тамиздате могло восприниматься как поступок бесчестный и вероломный – едва ли не как предательство писателем своего гражданского долга. Например, когда 28 декабря 1963 года Ахматова показала Чуковской экземпляр «Реквиема», только что вышедший в Мюнхене, реакция Чуковской была двойственной. «Довольно с нас и того позора, – записала она в тот день, – что великий „Реквием“ прозвучал на Западе раньше, чем дома»12. В скором времени Чуковская обнаружила, что и ее собственная повесть «Софья Петровна», у которой общие с «Реквиемом» тематика и отчасти место действия, тоже напечатана в тамиздате, невзирая на все попытки автора издать повесть в России.
В тамиздате – анонимно, под псевдонимами или под настоящими именами – могли печататься как произведения авторов, которых уже не было в живых (например, поэтов Серебряного века)13, так и более поздние тексты, написанные теми, кто еще мог столкнуться с последствиями такого «преступления». Эта книга посвящена текстам второй категории, чтобы, с одной стороны, проследить отношения авторов с их зарубежными издателями, а с другой – влияние публикаций за границей на их творческую судьбу в родной стране. Хотя публикация в тамиздате необязательно влекла за собой наказание (да и само наказание могло быть разным, от нестрогого выговора до лагерного срока), память о «деле Пастернака» и скандале с «Доктором Живаго» накладывала отпечаток на поведение авторов: как тех, которые принимали непосредственное участие в публикации своих произведений в тамиздате, так и тех, кто просто узнавал, что их тексты вышли за рубежом «без ведома и согласия автора» (эта стандартная формулировка широко применялась в тамиздате, чтобы обезопасить авторов в СССР от преследований со стороны властей)14.
Хотя история первой публикации романа Пастернака за рубежом оставалась неизменным фоном для тамиздата на протяжении всей советской эпохи, здесь выбрана другая веха в истории русской литературы XX века, а именно – публикация «Одного дня Ивана Денисовича» Солженицына в госиздате. Как будет продемонстрировано в первой главе, именно эта официальная публикация 1962 года запустила почти непрерывный поток нелегальных рукописей из Советского Союза на Запад в последующие годы и помогла тамиздату сформироваться как практике и институту – в ответ на литературные и политические события внутри страны. Повесть Солженицына, ставшая настоящим потрясением по обе стороны советских границ, также задает и тематическую рамку этого исследования: тюремные нарративы сталинского периода. ГУЛАГ, без сомнения, был самой горячей темой холодной войны, но вместе с тем он требовал и новых языковых средств для изображения катастрофической реальности, не поддававшейся вербализации: человеческий язык не мог адекватно передать бесчеловечный лагерный опыт. Именно лагерная проза, вне зависимости от того, где она впервые была издана – на родине, как «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, или за рубежом, как «Колымские рассказы» Шаламова, – особенно наглядно вскрывала различия в восприятии одного и того же текста по разные стороны железного занавеса. И если на родине она подвергалась цензуре по политическим причинам, то за рубежом ее жестко закодированный язык был эстетически малодоступен эмигрантам, чей исторический и личный опыт, включая травму изгнания, разительно отличался от опыта авторов, оставшихся в СССР и переживших то, что советская эпоха имела им предложить. ГУЛАГ, таким образом, представлял собой языковую, эпистемологическую и коммуникативную проблему, которую тамиздат пытался разрешить и продуктом которой, с другой стороны, сам являлся.
Сокращение дистанции
Предмет исследования этой книги по самой своей природе пограничен – как исторически, так и географически; как внутри страны, так и за ее пределами; как эстетически, так и институционально. После Октябрьской революции и на протяжении всей советской эпохи существовали «две русские литературы» – на родине и за границей. В самой России, особенно после смерти Сталина в 1953 году, литература тоже делилась на официальную и неофициальную, хотя даже в самые суровые периоды советской истории, как и в самые застойные, культурное пространство никогда не было настолько раздвоенным, как это традиционно изображают: граница между официальной и подпольной культурой всегда оставалась проницаемой и размытой15.
Оттепель конца 1950‑х – начала 1960‑х годов впервые рассеяла страх и нарушила молчание, десятилетиями царившие в стране при Сталине, породив надежды и создав возможность для разговора о травмах недавнего прошлого: Большом терроре и ГУЛАГе, Второй мировой войне и блокаде Ленинграда. В это бурное десятилетие обнажились и стилистические последствия раскола русской литературы на советскую и эмигрантскую, с одной стороны, и на официальную и подпольную в самой России – с другой. Именно тогда эти идеологически разграниченные «поля культурного производства» – если использовать термин Пьера Бурдьё, – до тех пор казавшиеся автономными, начали накладываться друг на друга, образуя пространство двойной политической и эстетической значимости, вовлеченными в которое оказывались все больше и больше авторов, читателей, издателей и критиков по обе стороны железного занавеса. Именно в этой контактной зоне, или области пересечения, локализовывалась оттепель, прокладывая дорогу для будущего воссоединения русской литературы внутри страны и за ее пределами во время перестройки, когда железный занавес начал ржаветь16.
5 марта 1953 года советское общество испытало то, что, согласно Ирине Паперно, многие современники описывают как «ницшеанский момент смерти Бога. (Вспоминая об этом дне в мемуарах, многие описали неудержимые слезы.)». Для советской интеллигенции смерть Сталина трансформировала ощущение истории и времени как такового: «В годы террора они тщательно сберегали в памяти тексты для будущего употребления, не веря при этом, что это будущее наступит (по крайней мере, при их жизни)»17. Память о недавнем прошлом проснулась, а еще открытые раны начали зарубцовываться тремя годами позднее, в 1956 году, после «секретного доклада Хрущева на XX съезде КПСС». Частью последовавшей затем кампании по десталинизации была реабилитация политзаключенных (часто посмертная). Выжившие в лагерях начали возвращаться домой, чтобы не только воссоединиться с семьей, если она у них еще оставалась, но и встретиться лицом к лицу с теми, кто несколько лет или десятилетий назад отправил их за решетку. Возвращались они и для того, чтобы записать пережитое, что государством какое-то время даже официально поощрялось18. 4 марта 1956 года, через неделю после ХХ съезда, Анна Ахматова сказала Лидии Чуковской: «Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили. Началась новая эпоха. Мы с вами до нее дожили»19. Эта встреча «двух Россий», ознаменовавшая переход от одной эпохи к другой, распространялась на все советское общество: в стране едва ли оставалась хоть одна семья, не затронутая коллективизацией, чистками 1930‑х годов и дальнейшими политическими преследованиями. Многим, в том числе Ахматовой, которая прожила достаточно долгую жизнь, чтобы стать свидетельницей «настоящего XX века», «приятно было думать, что есть „две России“»; требовалось «не только чувство отчетливого исторического перелома <…> но и представление об отчетливом делении внутри общества». Такое деление или как минимум его осознание необходимо обществу, которое пытается примириться с травмами прошлого, облекая их в слова. В 1956 году будущее, по словам Паперно, «снова наступило», каким бы недолговечным оно ни оказалось20.
Вновь обретенную веру в будущее вверяли рукописям, «раскрепощенным» во время оттепели, которая подошла к концу гораздо раньше, чем ожидалось, и вскоре сменилась новым похолоданием, если использовать еще одну метеорологическую метафору. Но в тот относительно краткий промежуток, когда в воздухе повеяло весной, опыт выживших в лагерях, засвидетельствованный ими в стихах и прозе, был призван стать памятником тем, кто не дожил до возможности записать свой опыт от первого лица. «Именно тексты служили самым надежным хранилищем времени и памятником эпохи», – пишет Ирина Паперно об этой особой «культуре текстов», изменивших ландшафт русской литературы по обе стороны железного занавеса21. Тексты, выбравшиеся в эти переходные годы из-под обломков истории, написанные во время оттепели или чудом уцелевшие, впервые изданные в России или за рубежом, стали для советской интеллигенции, преимущественно светской, своего рода священным писанием. Именно сакральным статусом рукописей можно объяснить безжалостное преследование их авторов государством, а вместе с тем – и огромную нравственную и общественную значимость, которой наделяли такие произведения как сами авторы, так и читатели. Придавать такую значимость художественному тексту – утверждать, что «рукописи не горят», – означало принадлежать к интеллигенции.
Чтобы память о прошлом заговорила, требовалось время. Стране пришлось ждать еще несколько лет, прежде чем пробужденные воспоминания воплотились в несколько публикаций, последовавших за XXII съездом КПСС. Вечером 31 октября 1961 года, после окончания работы съезда, тело Сталина вынесли из Мавзолея. Названные в его честь улицы и города начали переименовывать. Именно тогда многие и многие рукописи, в том числе те, о которых идет речь в этой книге, были рассекречены и «вышли» на свободу. Попытки напечатать их в советских издательствах и журналах, как правило, не увенчивались успехом; некоторые тексты попали за границу, где и были впервые изданы. Впрочем, одна рукопись все же прошла цензуру и через год, с личного разрешения Хрущева, увидела свет – «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына22. Тогда разногласий по поводу значимости и своевременности этого события было мало, но сама по себе госиздатовская публикация лишь усилила глубинный раскол между интеллигенцией и «народом» – социальным слоем, которому власти отдавали явное предпочтение (солженицынский Иван Денисович был им, безусловно, ближе женских взгляда и голоса в «Реквиеме» Ахматовой и «Софье Петровне» Чуковской, о которых речь пойдет во второй и третьей главах). Невзирая на огромный общественный авторитет Солженицына в интеллигентских кругах, «Иван Денисович» обозначил пределы допустимого в официальной советской печати, а потому невольно вытеснил другие произведения о лагерях – сначала в подполье на родине, а затем за границу.
Помимо отчуждения между интеллигенцией и народом, оттепель выявила еще одну грань в пробудившемся после смерти Сталина историческом самосознании советской интеллигенции: впервые за несколько десятилетий страна открыла границы для иностранных ученых и студентов, приезжавших в СССР по программам академического и культурного обмена, а также для западных писателей и журналистов23. Хотя за ними велось пристальное наблюдение, само их присутствие на советской территории и их контакты с русскими писателями, художниками и интеллектуалами напоминали о существовании где-то там другой жизни, в том числе о возможности, пусть и вполне фантастической на первый взгляд, отправить свою рукопись для публикации за рубеж. В то же время общение с иностранцами, служившими живым доказательством того, что теперь государственные границы можно пересекать, пусть даже только в одном направлении, заставляло интеллигенцию осознавать и себя «иностранцами» в собственной стране. Это осознание лежало в основе самоидентификации русских авторов как «внутренних эмигрантов» или попросту изгоев, что стало неотъемлемой чертой позднесоветской интеллигенции. Именно благодаря иностранным ученым, журналистам и дипломатам бо́льшая часть русской литературы того времени попала за границу и впервые увидела свет в тамиздате.
Естественно, иностранцы настораживали даже самых отважных представителей подпольных литературных кругов в России, особенно старшего поколения. Когда в 1969 году Карл и Эллендея Проффер, основатели легендарного сегодня издательства «Ардис» в Энн-Арборе, штат Мичиган, впервые побывали у Надежды Мандельштам, вдовы поэта, она рассказала им, как, за несколько лет до того, Кларенс Браун, специалист по Мандельштаму из Принстонского университета, «пришел познакомиться с ней, она спряталась за дверью у Ахматовой и боялась показаться. <…> Когда мы приезжали к ней, она, бывало, выглядывала в окно – нет ли за нами слежки»24. Стоит ли говорить, что даже самых отважных иностранцев во время пребывания в Советском Союзе тоже порой охватывал страх.
Сколько раз за эти шесть месяцев 1969 года, – вспоминал Карл Проффер, – придя в новый дом и спросив о фотографии на стене или на столе, мы получали обескураживающий ответ: это мой отец, расстрелян в 1937 году. (Родственник или год могли быть другими, но шок от услышанного – всегда такой же.) Да, соглашались мы: такое может поселить страх надолго.
Сами Профферы тоже «постоянно испытывали страх» —
…такой иногда, что у нас по несколько дней болели животы – из‑за историй, которые приходилось услышать, и из‑за того, что занимались мы противозаконными делами, в частности добывали и раздавали много книг, в том числе особенно опасных, как «Доктор Живаго» на русском, романы Солженицына, Оруэлла, Библию и т. д. Обычны были аресты иностранных студентов и обыски <…> Если наш страх был объясним, то что говорить о Н. М. и многих других, которым выпал на долю хищный век25.
Воспоминания Проффера относятся к его второй (а для его жены – первой) поездке в Россию в 1969 году, через пять лет после показательного суда над Иосифом Бродским в 1964‑м, за которым в 1965–1966 годах последовали арест и суд над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. В сознании старшего поколения преследование молодых писателей закономерно вызывали мучительные воспоминания о самых мрачных сталинских годах, то есть о том самом прошлом, с которым «будущее», начавшееся после смерти Сталина, должно было порвать. 14 марта 1964 года, когда был оглашен приговор Бродскому – пять лет ссылки за «тунеядство», Чуковская записала: «А мне все казалось, что я опять в Ленинграде, на дворе тридцать седьмой, то же чувство приниженности и несмываемой обиды…»
Конечно, – добавила [Ахматова], – шестьдесят четвертый отнюдь не тридцать седьмой, тут тебе не ОСО и не Военное Судилище, осуждающее каждый день на мгновенную смерть или медленное умирание тысячи тысяч людей, – но правды нет и нет, и та же непробиваемая стена. И та же, привычная… ненависть к интеллигенции26.
Как и суд над Синявским и Даниэлем, «дело Бродского в 1964‑м вызвал[о] сильные чувства, которые напомнили о 1937 годе. <…> Шестидесятые и тридцатые годы были связаны общими эмоциями», – заключает Ирина Паперно27. Связь между двумя разными эпохами не ограничивалась сознанием интеллигенции внутри страны. Она проявлялась и в реакции издателей и критиков за рубежом на те же самые события в СССР. Здесь словно действовал принцип сообщающихся сосудов: усиление политического давления внутри страны вело к росту числа зарубежных изданий28. Первый сборник Бродского «Стихотворения и поэмы» вышел в США в 1965 году – как прямой отклик на суд над поэтом в Ленинграде29.
Историческая память (точнее, ее специфические аберрации по обе стороны железного занавеса), ожившая в силу изменений политического климата в годы оттепели и сразу после нее, бросала вызов географии и вместе с тем отталкивалась от нее. Неослабевающий интерес зарубежных издателей к теме ГУЛАГа наряду с первостепенным значением, которое придавали этой теме писатели в СССР, вызывает ассоциации между контрабандой рукописей через советскую границу и побегом заключенных из лагеря. Тамиздат, таким образом, наследовал одному из морфологических признаков лагерного нарратива как жанра: писатели, прошедшие через лагеря, нередко, по словам Леоны Токер, «видели в СССР одну большую „зону“, огромную тюрьму, где узники отличаются друг от друга лишь степенью иллюзорной свободы передвижения»30. Но свобода, которую тамиздат сулил беглым рукописям, часто оборачивалась тюремным заключением для авторов. Специфика бытования русской литературы XX века делала осязаемой не только историю, но и географию.
Пока советское общество пыталось справиться с маховиком истории, приведенным в движение оттепелью, западные интеллектуалы были заняты так называемым пространственным поворотом – направлением в социальных и гуманитарных науках, подчеркивавшим роль географии, картографии и топографии в формировании дискурса и культурной идентичности. В 1967 году Мишель Фуко заявил, что в то время как «великой навязчивой идеей» XIX века (и, с опозданием, большей части XX века в России) «была история: темы развития и остановки, темы кризиса и цикла, темы накопления прошлого…»,
Сегодняшнюю же эпоху можно, скорее, назвать эпохой пространства. Мы живем в эпоху одновременного, в эпоху рядоположения, в эпоху близкого и далекого, переправы с одного берега на другой, дисперсии. Мы живем в пору, когда мир, по-моему, ощущается не столько как великая жизнь, что развивается, проходя сквозь время, сколько как сеть, связывающая между собой точки и перекрещивающая нити своего клубка31.
Как литературная практика и политический институт, построенный на детерриториализации, тамиздат, по словам Ольги Матич, предполагал, что
пространственное там часто начиналось с зарубежного здесь, связывая близкое и далекое посредством их своеобразного сближения в атмосфере холодной войны, которое можно определить как еще одну разновидность промежуточного положения32.
Пересечение запрещенными текстами границы в обоих направлениях было призвано нарушить, прорвать географически обозначенные и исторически укрепившиеся пределы. Тамиздат давал рукописям писателей-нонконформистов шанс ускользнуть из паноптикона советской цензуры – в духе предложенной Фуко концепции тотальной слежки, достигаемой за счет упорядочивания пространства33. Однако эти тексты, привязанные к советской территории как единственному пространству, физически доступному их авторам, попадая за рубеж, часто оказывались вписанными в иные горизонты ожиданий, если воспользоваться ключевым термином рецептивной эстетики.
Рецептивная эстетика – подходящая оптика для рассмотрения социополитической и художественной среды, в которой тексты, созданные в СССР, публиковались за рубежом. Художественное произведение – «не обособленный объект, который одинаково видится разным читателям в разные исторические периоды». Согласно Ханс Роберту Яуссу, текст по природе диалогичен, так как его восприятие «немыслимо без активной вовлеченности адресатов»34. За исключением весьма узкого круга читателей самиздата, иногда успевавших познакомиться с контрабандной русской литературой внутри страны, первыми читателями тамиздата были западные издатели, критики и широкая публика, прежде всего русские эмигранты, то есть интерпретативное сообщество со своим набором лично и социально обусловленных рефлексов. Реакция западных читателей на контрабандные рукописи из‑за железного занавеса способствовала становлению тамиздата как альтернативного «поля культурного производства», если вновь воспользоваться термином Бурдьё, который, как и «горизонт ожиданий» Яусса, представляет собой пространственную метафору. В соответствии с моделью Бурдьё, в этом поле действовала сеть «агентов» (или «акторов») и институтов, а двигало этим полем превращение символического капитала (рукописей) в экономический (книги). Но даже этот социально-экономический аспект тамиздата, речь о котором пойдет ниже и будет подкреплена конкретными примерами, напрямую зависел от географии, детерриториализации и миграции текстов с одного поля в другое. Тем не менее тамиздат – в той мере, в какой он представлял альтернативное поле культурного производства, противостоящее советскому режиму в целом и литературной догме соцреализма в частности, – был не лишен собственной иерархии, идеологической повестки и даже цензуры. Была у него и предыстория, сформировавшая тамиздат как практику и институт позднесоветской эпохи.
Исторические прецеденты тамиздата
В 1957 году «Доктор Живаго» Пастернака и его первая публикация в Италии, отчасти организованная американскими спецслужбами, пробили брешь в железном занавесе, через которую в последующие годы за рубеж утекло множество рукописей, в результате чего и сложился тамиздат как феномен позднесоветской эпохи35. Однако случай «Доктора Живаго» не был беспрецедентным в истории русской словесности и мысли, как и холодная война не первая эпоха, когда русской литературе приходилось мигрировать за границу или уходить в подполье на родине. Поэзия, проза, драматургия, автобиографии передавались из рук в руки в обход государственной цензуры и циркулировали по разным каналам внутри страны столько, сколько существовали сама русская литература и цензура. Истоки этой практики просматриваются еще в XVII веке, когда протопоп Аввакум (1620–1682), старовер, написал текст, который считается первым автобиографическим повествованием о политическом заключении на русском языке и был сожжен за свои раскольнические взгляды на православную церковь.. «Житие протопопа Аввакума», ознаменовавшее переход от церковного жанра жития к собственно автобиографии (и, шире, к светской литературе), «переписывалось и передавалось от одной общины староверов к другой», получив, за неимением лучшего термина, статус «первого заметного русского текста в самиздате»36.
В XIX веке «недопустимые» в царской России тексты начали издаваться в Западной Европе, за пределами досягаемости Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, учрежденного Николаем I после восстания декабристов в качестве главного органа государственной цензуры, надзора и пропаганды. Яркий пример – поэма Михаила Лермонтова «Демон» (1829–1839), впервые изданная в 1856 году в Карлсруэ, тогда как в России ее напечатали только четыре года спустя. Государственный контроль за литературной продукцией в Российской империи, как столетием позже и в Советском Союзе, распространялся не только на явно подрывные политические сочинения, но и на фривольные тексты, едва ли имеющие отношение к политике. К последним относятся, например, «срамные стихи» Михаила Лонгинова – некогда вольнодумца и друга Николая Некрасова, Ивана Тургенева и других либералов из круга «Современника», а позднее, по иронии судьбы, главного цензора России:
Пишу стихи я не для дам,Все больше о пизде и хуе;Я их в цензуру не отдам,А напечатаю в Карлсруэ37.Главным ориентиром для тамиздата советской эпохи служил ежемесячник Александра Герцена «Колокол», на протяжении десяти лет (1857–1867) издававшийся в Лондоне и Женеве Вольной русской типографией, основанной несколькими годами ранее. В обращении «Братьям на Руси», датированном 21 февраля 1853 года, Герцен писал:
Дома нет места свободной русской речи, она может раздаваться инде, если только ее время пришло. Я знаю, как вам тягостно молчать, чего вам стоит скрывать всякое чувство, всякую мысль, всякий порыв.
К 1853 году, по мнению Герцена, пришло «время печатать по-русски вне России», но успех его дела зависел от находившихся в России писателей.
Ваше дело найти и вступить в сношение, – наставлял Герцен. – Присылайте что хотите, все писанное в духе свободы будет напечатано, от научных и фактических статей по части статистики и истории до романов, повестей и стихотворений. Мы готовы даже печатать безденежно. <…> Дверь вам открыта. Хотите ли вы ею воспользоваться или нет – это останется на вашей совести. Если мы не получим ничего из России – это будет не наша вина. Если вам покой дороже свободной речи – молчите38.
Учреждая типографию в Лондоне, Герцен опирался на опыт и поддержку своих польских соратников, включая Адама Мицкевича и Иоахима Лелевеля, чей девиз «За нашу и вашу свободу» (Za naszą i waszą wolność), возникший во время Польско-литовского восстания 1830–1831 годов против владычества Российской империи, вдохновил и Герцена, который двадцать лет спустя избрал его в качестве лозунга собственной оппозиционной деятельности39. В воззвании «Братьям на Руси» Герцен обращается к польскому примеру: