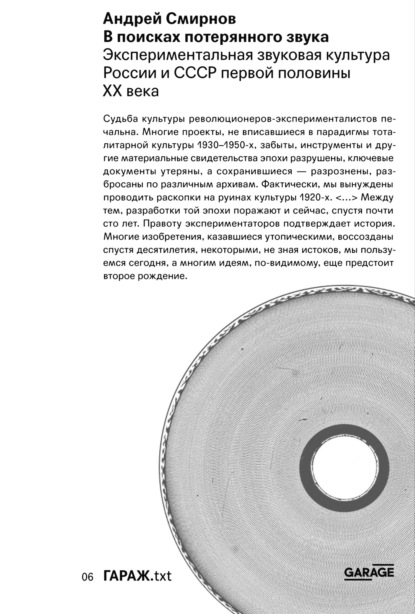Полная версия
Пора Сецессионов. Выставочные стратегии русского модерна
…Остались еще русские; их довольно много и… довольно много недоумений приходится замечать на лицах художников и публики, случайно забравшихся в русский отдел. Если бы не И. Е. Репин и две-три незначительных картинки, то негде было бы отдохнуть глазу. И. Е. Репин выставил только три портрета «г. Ге», «дочери художника» и «Франца Листа» – последний во весь рост. Ими очень интересуются[95].
Дягилев, конечно, внимательно следил за начинанием своего друга Бенуа и сразу же написал обзор на оба события[96]. Контраст в составе участников позволял аргументировать необходимость изменений в художественной сфере на родине. Этот текст вскоре стал известен как настоящий манифест, где Дягилев высказывался об основных художественных течениях в разных странах и где особое внимание уделял русскому искусству. Будучи одной из первых публичных деклараций такого рода, статья заявляла о миссии, которая, по мнению автора, ложилась на плечи нового поколения художников. Дягилев дал несколько более положительную оценку мюнхенской выставке и вместе с тем решительно раскритиковал выступление некоторых художников в Берлине, которые, по его мнению, «решились компрометировать русское искусство»[97]. Движимый характерным для него энтузиазмом с долей свойственной эпохе патриотической гордости, ущемленной тем, что соотечественников не замечают на мероприятиях, которые Дягилев на тот момент расценивал как наиболее значимые для нового искусства, он использовал недостаточно удачные появления на смотрах в Мюнхене и Берлине в 1896 году в качестве довода в пользу своего видения того, как должны действовать художники, чтобы добиться успеха за границей. В Берлине, по его мнению, причиной неудачи было отсутствие единой концепции, логической связи, объединившей бы произведения и художников:
Итак, русский отдел в Берлине составлен без всякой системы, без всякого руководящего начала. Посылал, кто и что хотел[98].
Естественно, в качестве положительного и более убедительного примера Дягилев приводит более близкую ему выставку:
Совсем иное впечатление производит выставка Secession в Мюнхене[99].
Дягилев связывал возросший интерес мюнхенской публики к русскому искусству с публикацией Бенуа в антологии Мутера. Реальное же влияние этого краткого обзора на современников в Германии было куда скромнее. Заявления Дягилева по поводу выставки в Мюнхене, которую он смог увидеть своими глазами во время одной из европейских поездок, и попытка проанализировать этот опыт, скорее всего, вызваны скудной реакцией местной прессы на начинание Бенуа, хотя Дягилев с гордостью сообщал, что работы Серова приняты лучше остальных, и отмечал покупку его пейзажа принцем-регентом. В этой связи следует добавить, что в 1890-е годы за рубежом действительно наблюдалась слабая осведомленность об изобразительном искусстве, создававшемся в России, если не полное отсутствие интереса к нему. Хотя в императорских министерствах и Академии очень серьезно относились к вопросу о российском участии во Всемирных выставках, этим событиям редко удавалось вызвать более широкий интерес[100]. До конца века существовало лишь несколько публикаций о русской живописи. Многие исследователи отмечают, что первичные представления о русской культуре черпались современниками из романов русских авторов, которые все чаще переводились на западно- и центральноевропейские языки и к концу века успели войти в репертуары зарубежных театров. Существует тесная связь между мифологией, сложившейся вокруг русской литературы и ее ключевых идей, и тем, как воспринималось русское искусство на Всемирных выставках и других международных смотрах[101]. Как отмечает Раев, до 1870-х годов творчество русских художников едва ли рассматривалось в контексте общеевропейского процесса и не имело особой рыночной стоимости[102]. Вплоть до публикации Бенуа у Мутера художественная критика и историки искусства действительно практически не обращали внимания на русское искусство, за исключением крупных событий вроде Всемирных выставок и отдельных случаев, таких как персональные зарубежные выставки Верещагина, отличавшиеся новаторским подходом.
В своей статье-манифесте Дягилев попытался использовать мюнхенскую выставку, чтобы противопоставить свое видение неуверенности и нерешительности Бенуа. Поскольку экспозиция в действительности обернулась дебютом группы москвичей за границей, он представлял это как результат интуиции Паулюса, который в поиске «мистической школы» с ее представителями вроде Левитана, имя которого было у него уже на слуху, по словам Дягилева, «со свойственным ему чутьем попал прямо в цель», метив «в центр нашей, единственно интересной, зарождающейся московской школы»[103]. Вместе с тем Дягилев с сожалением констатировал, что подача этих художников в Мюнхене терялась среди других экспонентов, и заметил, что его соотечественники прежде всего не имеют должного представления о том, каков контекст мероприятия. По мнению Дягилева, они «как бы устыдились представить на суд Европы свою национальность и хотели только доказать, что и мы умеем так же писать, как и западные европейцы. Но им ни разу не пришел в голову вопрос: можем ли мы вас научить тому, чего вы еще не знаете». Причину расхождения между работами русских участников выставки с ожиданиями зрителей он объяснял тем, что от русских артистов международная публика не ждала «тех сереньких пейзажиков, которые угрюмо выглядывают из углов, как бы просясь, чтобы на них обратили внимание». Дягилев, перехватывая туманную терминологию Паулюса, указывает, что художникам за рубежом следовало бы показать примеры «нововизантийской „мистической“ живописи», пейзажей где передавалось бы чувство «широкой, бесконечной дали»[104].
Подобное стремление определить и продуктивно использовать для продвижения художников-соотечественников за границей определенный визуальный репертуар, который мог резюмировать ряд национальных характеристик, было уникальным для российского контекста, однако сам импульс к формулированию «национального» в изобразительном искусстве характерен для сферы международных выставок эпохи. Даже когда Стасов подводил итоги десятилетия, в течение которого количество иностранных выставок, организованных в России, значительно возросло, он сетовал на их слабую репрезентативность в плане типично национальных черт[105]. Парадокс в том, что, хотя художники рубежа веков все чаще и чаще старательно погружались в работу над мифологией своей национальной самобытности, состав международных выставок нередко соответствовал наиболее популярным стилистическим тенденциям того времени. В основном это была эстетика, близкая французским стандартам, – можно с уверенностью говорить, что в 1890-е эпитет «международный» был практически синонимом «французского». По мнению Дягилева, попытайся художники более грамотно откликнуться на интерес из-за рубежа в 1896 году и сделай они это сообща, иностранная публика, возможно, оценила бы их «нетронутую поэзию»[106]. Основной причиной неудачи, по мнению Дягилева, было отсутствие опыта регулярного участия в групповых выставках за границей:
И это среди выставки, где кругом кипит жизнь, где художники стараются выступить во всем блеске, куда французы, по закрытии парижских салонов, посылают свои лучшие вещи ‹…› где все – талант, борьба и жизнь[107].
Дягилева смущало отсутствие у соотечественников соревновательного чувства, и он считал крайне важным, чтобы те стали «не случайными, а постоянными участниками в ходе общечеловеческого искусства». В заключение он призывал:
Солидарность эта необходима. Она должна выражаться как в виде активного участия в жизни Европы, так и в виде привлечения к нам этого европейского искусства[108].
В целом появление русских художников на выставке Мюнхенского сецессиона того сезона почти не нашло отклика у немецких критиков. Единственная достоверно известная исследователям оценка этого эпизода принадлежит Паулю Шульце-Наумбургу, берлинскому критику и художнику[109], который как минимум дважды рецензировал выставку Сецессиона в 1896 году, сначала для Kunst für alle, а затем для лейпцигского ежегодного издания Zeitschrift für bildende Kunst. Он чуть подробнее остановился на вкладе российских художников, перед тем как завершить свою статью обзором шведского и норвежского искусства. Очевидно, что его восприятие было обусловлено представлениями о русской литературе.
Впервые в Сецессионе участвуют несколько русских. Они не привезли чего-то откровенного, хотя это свежее и честное искусство, напоминающее ранние поиски скандинавов, из которых может развиться разное. Я не заметил ничего необычного, так как большинство из этих работ – просто пейзажи, не отличающиеся особенной смелостью или колоритом, но все же напоминающие о том, что они родом из страны, где родился Тургенев[110].
Шульце-Наумбург в целом остался доволен выставкой. По его мнению, организаторы Сецессиона справились с задачей показать наиболее интересное в актуальном искусстве лучше коллег из Берлина, которые предпочли количество качеству. Критик, впрочем, отметил явное превосходство немецких художников над иностранцами. Оно заключалось в мастерстве рисунка и в умении выразить самобытный национальный характер. Применяемые Шульце-Наумбургом критерии как нельзя лучше иллюстрируют ожидания от художников на международных выставках. Комментируя иностранные школы, он подчеркивает достоинства шотландских и скандинавских художников, тех самых, на кого в тот же период начинает ориентироваться и Дягилев (скорее всего, после ознакомления с отзывами немецкого критика). Реакция была сдержанной, что, несомненно, объясняется количеством участников и тем, что они не были сосредоточены в одном зале. Кроме того, небогатый подбор отвечал исключительно умеренным вкусам: преобладали пейзажи – самый распространенный жанр на салонах и выставках. В их контексте стиль русских работ казался избыточно скромным, близким к живописи juste milieu.
Во второй, более сжатой, рецензии Шульце-Наумбург писал, что российские художники, по-видимому, неукоснительно придерживаются господствующих тенденций, показывая себя «настоящими натуралистами»[111]. Впрочем, несмотря на кажущийся экспромт в развеске, выбор именно пейзажа в качестве главного жанра нельзя назвать случайным. Дело здесь в общем для эпохи отношении к пейзажу и его прочтению в отечественном искусстве. Символистическое видение природы было укоренено в самой культуре и формировало эстетическую мысль многих мастеров 1890-х. Работа с темами духовности и созерцания потенциально могла принести плоды на немецкой сцене, поскольку они высоко ценились местной публикой, причем неважно, отечественный это был автор или зарубежный. Что же касается отсылок к литературе, то в воздухе витала симпатия к «русскому натурализму», который подготовил основу и для искусства. Очевидно, что именно здесь две традиции могли найти общий язык.
Выставка 1896 года была совсем незначительным эпизодом по сравнению с тем, что происходило в эти годы в российском художественном мире. Несмотря на амбициозную риторику Дягилева, не стоит забывать, что начинания, формировавшиеся вокруг него и Бенуа, тогда имели весьма узкую аудиторию.
Художники из России в Мюнхене не были новаторами с точки зрения стиля и формальных качеств представленных работ. Однако их участие было важно для процесса интеграции отечественных художников-модернистов в западноевропейский выставочный контекст и было результатом поисков представителей все более многочисленных независимых художественных объединений. Именно поэтому этот эпизод можно рассматривать как основополагающий в распространении модернистской культуры и установок в изобразительном искусстве в России. Это была самостоятельная инициатива группы молодых критиков и художников, стремившихся приобщиться к международному движению. Предшествующие поколения в подобном не были заинтересованы – более того, такие инициативы считались вредными для национальной традиции.
Неудача не на шутку обескуражила Бенуа, но вместе с тем стала серьезной мотивацией для будущей группы его и Дягилева единомышленников и – ретроспективно – для молодых художников в России в целом. Несмотря на то что как началу карьеры Дягилева, так и раннему периоду объединения «Мир искусства» посвящены многочисленные исследования, мюнхенский эпизод обычно трактуется лишь как маргинальное событие в биографии Бенуа, хотя в отношении зарубежной выставочной деятельности это был радикальный шаг и один из главных импульсов для формирования личной программы Дягилева.
На фоне этой выставки в итоге была развернута целая кампания против консерватизма на эстетическом и на организационном уровне. Многие представители молодого поколения поняли, что потенциальный интерес к «русской школе» явно выходит за рамки доступных им площадок. Как оказалось, источником проблемы было именно отсутствие организатора, способного взять на себя инициативу. Того, кто мог бы координировать художников таким образом, чтобы их совместные выступления за рубежом могли соответствовать актуальной на тот момент категории «национальной школы». Молодого Дягилева, безусловно, привлекала идея примерить эту агрегирующую роль.
Появление соотечественников в новом европейском выставочном сезоне и их последующее обсуждение в прессе дали Дягилеву дополнительные поводы для критики академической среды.
В 1897 году в мюнхенском Стеклянном дворце совместно с Сецессионом была организована очередная Международная художественная выставка (противоречивое, на первый взгляд, сотрудничество, которое в действительности неоднократно имело место и демонстрировало характерный для Сецессиона прагматизм). Ряд российских художников экспонировался на ней, хотя опять же в скромном составе и без общей концепции или связи между участниками. Выбор в основном обусловлен пожеланиями отдельных мастеров и наличием свободных произведений. В подобных случаях приглашения часто распространялись через Академию или аналогичные организации, которые затем давали объявление о приеме работ. Поскольку эти приглашения редко носили персональный характер (что, соответственно, снижало ценность участия для художника) и не содержали каких-либо рекомендаций относительно подачи работ, живописцы не были мотивированы вырабатывать некую общую стратегию. В 1897 году в Мюнхене за российское участие отвечал Франц Рубо, специально назначенный комиссаром петербургскими инстанциями. Рубо был художником французского происхождения, родившимся в Одессе, но жившем в Мюнхене и специализировавшимся на исторических и военных сюжетах. Успешный баталист, в дальнейшем особенно известный своими работами на тему Бородинского сражения, за год до этого он выставлял амбициозное панорамное полотно «Штурм аула Ахульго» (1890) на Нижегородской художественной и промышленной выставке. В год проведения выставки в Стеклянном дворце Рубо, хотя и был занят личными и профессиональными делами, смог оформить русский отдел, куда вошли работы Альберта Бенуа, Аполлинария Васнецова, Николая Дубовского, Ивана Ендогурова, Николая Касаткина, Александра Киселева, Константина Крыжицкого, Кирилла Лемоха, Владимира Маковского, Александра Обера, Леонида Пастернака, Ильи Репина, Константина Савицкого и Павла Трубецкого. Выборка весьма характерна и для конкретного мероприятия, и для 1890-х вообще[112]. За организацию отдела Рубо удостоился ордена Святой Анны.

И. Репин, «Дуэль», 1897. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея
Вместе с тем в 1897 году произошло еще одно знаменательное для выставочной истории событие: в рамках второй Венецианской биеннале было показано несколько работ, отправленных из России под эгидой Императорской Академии художеств. Александр Бенуа был приглашен в академический совет, занимавшейся этой инициативой[113]. На самой выставке картина Репина «Дуэль» была отмечена в журнале The Studio как «тонко и драматично написанная» и в целом охарактеризована как «одна из самых ярких работ русской школы», в которой «умелое использование вечернего (sic) света, проникающего сквозь деревья и освещающего фигуры, которые сами собой повествуют о происходящем, заслуживает большого уважения и отнюдь не является театральным или чисто живописным, как в случае с огромным полотном Генриха Семирадского «Христианская мученица» в том же зале»[114]. Грабарь в обзорной статье о ряде выставок за рубежом сообщал об откликах, полученных Репиным:
Теперь в Венеции около трех десятков русских произведений, занимающих даже особую залу. Произведения эти и в особенности «Дуэль» г. Репина обратили на себя внимание. О них много говорят, а «Дуэль» даже считается одним из «гвоздей» выставки, она нравится, и г. Репиным, и русским отделом итальянская печать занялась довольно усердно[115].
Вместе с тем он снабдил свой обзор многочисленными цитатами из рецензий итальянских критиков, выстраивая из них критику решений Академии художеств в отношении заграничных выставок:
…Все эти картины доставлены сюда петербургской Академией художеств, – источником, который уже a priori исключал возможность проявлений и намерений, сколько-нибудь отходящих от обычных. Но наше разочарование не ограничивается одним только содержанием; оно также велико и для внешних форм, обуславливается техникой, манером (русских) видеть и передавать природу и жизнь. Мутер утверждает, что теперешнее русское искусство, попав в тиски между цивилизацией и варварством, еще колеблется между рабским подражанием иностранцам и несколько старомодным и первобытным проявлением прирожденных тенденций. Может быть это и так, но ему следовало прибавить, что подражание притягивает русских гораздо сильнее, что прирожденных тенденций, высказанных ими хотя бы и примитивно, почти нет и следа ‹…› В произведениях, собранных в Венеции, совсем не видно духовных веяний, вызванных в русском искусстве Ивановым, Перовым, Верещагиным. И сам Репин, может быть, наиболее определившийся из современных русских живописцев и теперь резидирующий в петербургской академии, выставил две картины, столь отличающиеся одна от другой, что их можно принять за произведения разных авторов и разных эпох[116].
В течение последующих месяцев Дягилев опубликовал серию из пяти статей, пропагандирующих большую интеграцию в международное художественное сообщество и эстетизм в живописи и графики. При этом он бросал вызов ценностям как передвижников, так и академической среды. Несмотря на свою открытую оппозиционность, некоторые из лозунгов, которые Дягилев решил взять на вооружение, не были чем-то радикально чуждым старшим поколениям. В этом можно увидеть еще одно доказательство принципиально полемического характера ранних выступлений и риторики Дягилева. Уже в 1893 году среди консервативных деятелей находились те, кто признавал проблемы в художественной жизни, не ушедшие и после реформ Академии. Одним из таких людей был Владимир Маковский. Как вспоминал Переплетчиков, Маковский заявлял, что Московское общество любителей художеств «не должно устраивать выставки, а должно предоставить это самим художникам, а его обязанность – помогать художникам, устраивать конкурсы, посылать за границу»[117].
Глава 3. Зарубежное турне «Выставки русских и финляндских художников» 1898 года
В 1898 году в рамках очередной выставки Мюнхенского сецессиона был организован отдел из более чем сотни работ российских художников, в том числе полотна Серова, Коровина, Левитана, Нестерова, Переплетчикова, Сомова и Якунчиковой. Экспозиция представляла собой выборку произведений, показанных накануне на «Выставке русских и финляндских художников», устроенной Дягилевым в Петербургском музее барона Штиглица. Невозможно с точностью определить, происходила инициатива организации мюнхенского отдела главным образом со стороны Дягилева или же со стороны баварского объединения, однако не стоит недооценивать потенциального интереса последнего. Сецессион выступал в роли посредника при продаже произведений, появлявшихся на его выставках, и удерживал ввиду этого процент. Общий объем продаж на выставках, организованных непосредственно Сецессионом в период с 1893 по 1908 год, превышал полтора миллиона марок[118]. Его администрация была открыта к привлечению иностранных участников, поэтому вполне вероятно, что, стремясь к пополнению рядов экспонентов намечавшихся выставок из числа русских художников, она связалась с Дягилевым или приняла его предложение. В уже упоминавшемся знаковом письме-воззвании к художникам, которых он намеревался задействовать в этом начинании, Дягилев так очерчивал маршрут после показа выставки в Петербурге:
Затем предположено выставку перевести в Москву, а оттуда целиком отправить на Мюнхенскую выставку Secession, так как с устроителем ее, Адольфом Паулюсом, в данное время мною ведутся переговоры о русском отделе[119].
Поездка Дягилева в Мюнхен в 1896 году, во время которой он увидел попытку создания русского отдела, вероятно, позволила ему познакомиться с Паулюсом и другими представителями объединения. Дягилев задался целью осуществить то, что не удалось сделать Бенуа. Этому начинанию предшествовали ряд программных заявлений, которые в полной мере иллюстрируют его решительность и свидетельствуют о том, что это было частью более масштабной стратегии, которую он разрабатывал в 1897 году и в начале 1898-го. Главной целью было утвердить авторитет молодых русских художников за рубежом (причем в контексте, который для Дягилева на тот момент соответствовал понятию глобального) и среди художников, критиков и историков, которые формировали актуальную повестку. Кроме того, он намеревался опираться на опыт зарубежных коллег и использовать атмосферу соперничества, чтобы выгоднее артикулировать собственную национальную и художественную идентичность «русской школы». В письме, которое Дягилев разослал ряду художников с просьбой принять участие в выставке, запланированной в Петербурге, Москве, и затем в Мюнхене, он объявил, что им следует выступить единым фронтом, поскольку пришло время «как сплоченное целое занять место в жизни европейского искусства»[120].
Значительная часть письма Дягилева была опубликована вскоре после этого в интервью, которое он сам, Савва Мамонтов и один художник, оставшийся анонимным, дали «Петербургской газете» по поводу основания журнала «Мир искусства»[121]. Главные аргументы сводились к тому, что в стране назрела потребность в принципиально ином подходе к художественным выставкам – к ним следовало относиться как к инструменту для выработки новой эстетической и, главное, институциональной модели, аналогичной успешным независимым художественным объединениям в Европе. Обращая внимание на положительные результаты охватившей ее волны «сецессионизма», который проявлялся «в таких блестящих и сильных протестах, каковы – Мюнхенский Secession, Парижский Champ de Mars, Лондонский New Gallery и проч.», Дягилев призывал своих соотечественников последовать примеру стран, где «талантливая молодежь сплотилась вместе и основала новое дело на новых основаниях с новыми программами и целями»[122].
Работа над экспозицией русских и финских художников послужила для Сергея Дягилева толчком к созданию «собственного прогрессивного общества», которое, несомненно, было вдохновлено и отчасти опиралось по своей структуре на вышеуказанные выставки. Одновременно с этим Дягилеву доверили организацию выставки скандинавских художников в Санкт-Петербурге. Он охотно принял предложение Императорского общества поощрения художеств и запросил финансовую поддержку для поездки в скандинавские страны для отбора произведений, о чем к концу года сообщал в заметке для «Северного вестника»[123]. Для Дягилева финское искусство было примером уже потому, что оно смогло сформировать самостоятельную школу. Кроме того, финский контекст служил в его понимании жизненно важной, хотя и эфемерной, связью с Европой. После этого путешествия Дягилев сделал остановку в Париже, чтобы заручиться поддержкой нескольких живших там русских художников. Связи, которые он наладил в обеих поездках, сохранились и в дальнейшем – даже спустя десять лет Дягилев помогает Магнусу Энкелю в организации выставки финских художников в парижском Осеннем салоне в 1908 году[124].
По мнению Боулта, Дягилев «осознавал как необходимость улучшения возможностей для выставок в Петербурге ‹…› так и появление нового искусства, которое должно было стать доступным для публики за пределами Абрамцева и Москвы»[125]. О том, что молодые московские художники, часть из которых ранее выставлялась на передвижных выставках, рассматривались Дягилевым в качестве потенциального ядра для его зарубежного проекта, свидетельствует и его известное высказывание по поводу юбилейной выставки в честь 25-летия Товарищества:
…От этой выставки надо ждать того течения, которое нам завоюет место среди европейского искусства. Нас там давно поджидают и в нас глубоко верят[126].