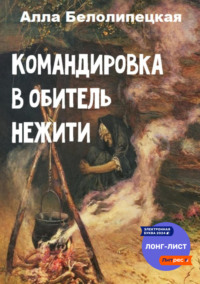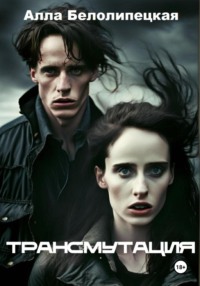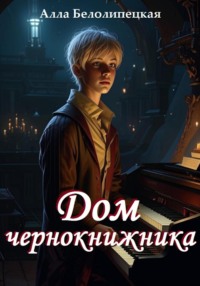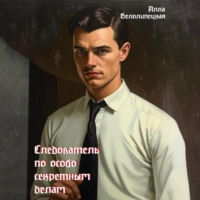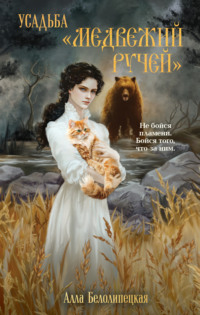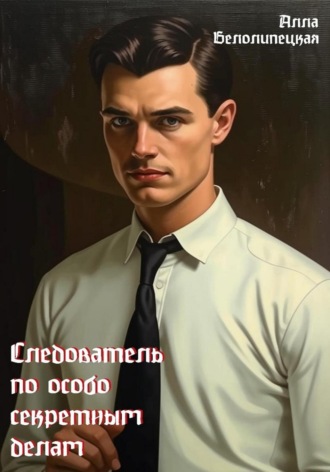
Полная версия
Следователь по особо секретным делам
Горло Евграфа Иевлева перерезали – не от уха до уха, как принято говорить, а скорее от ключицы до ключицы. И этот низкий разрез привел, безусловно, к тому, что несчастный носильщик прожил еще какое-то время после нанесения ему страшной раны. Причем за это время он получил еще несколько ранений – не смертельных, но наверняка причинивших ему адские муки: в живот и в правый бок, в область печени. Так что кровь, натекшая на перрон, частично имела черноватый оттенок. Носильщик умер с открытыми глазами, взгляд которых, обращенный куда-то вбок, будто указывал путь, которым ушел убийца.
Тут же, в луже крови, валялось брошенное орудие убийства – хорошо хоть никто из пассажиров не удумал стащить его! Это был финский нож НКВД – точная копия того, какой имелся и у самого Николая Скрябина. А рядом с ножом валялась две длинные, сплошь изгвазданные кровью брезентовые перчатки – какие обычно используют садовники.
– Не стали ничего убирать до вашего прибытия, товарищ Скрябин, – сказал Денис Бондарев. – И мы тут всё сфотографировали, конечно же. Однако по части следов… – Муровец развел руками: и так всё было ясно.
С Бондаревым – который приходился примерно ровесником им с Мишей – Николай Скрябин водил прежде не особенно короткое знакомство. Но успел понять: умом и смекалкой молодого муровца Бог не обделил. И Скрябин сказал:
– Я рад, что именно ты прибыл на вызов, Денис. Уверен: МУР отнесется к этому делу со всем возможным вниманием. Но я прошу прислать мне финку и перчатки – после того, как с ними поработают ваши эксперты. Я оформлю соответствующий запрос из ГУГБ.
Денис отошел – отдавать распоряжения, а Миша изумленно произнес:
– Ну и ну! Впервые вижу, чтобы ты передоверял кому-то свое дело!
– Будет лучше, – сухо проговорил Скрябин, – если этим делом займет кто-то и помимо меня. О причинах этого, извини, я пока умолчу. А сейчас – уходим, возвращаемся на Лубянку.
6
Скрябин знал, что должен разъяснить ситуацию другу. И, несмотря на поздний час, они вернулись на площадь Дзержинского. В здании НКВД проекту «Ярополк» было отведено два этажа, длинные коридоры которых застилали податливо-мягкие красные ковровые дорожки с зеленой окантовкой, приглушавшие шаги, а все окна даже и днем закрывали плотные шторы. Скрябин и Кедров молча дошли по тихому коридору до маленького кабинета Николая и бесшумно прикрыли за собой дверь с отлично смазанными петлями. Только после этого Миша проговорил:
– И всё-таки я не понимаю, кому понадобилось убивать Евграфа Иевлева? Да еще – так зверски? Ведь он уже дал показания! Какой был прок в его смерти?
– Выходит, кому-то прок был. И я ругаю себя, что не догадался спрятать Иевлева – убрать его с Казанского вокзала.
Теперь, постфактум, Скрябин распорядился: временно перевезти дочь Иевлева и его троих внуков на одну из конспиративных квартир НКВД. Помахал, можно сказать, кулаками после драки… Николай медленно, будто нехотя, прошел к своему письменному столу и уселся за него, а вот Миша почти что рухнул на посетительский стул напротив. И громко произнес – чуть ли не возопил:
– Но зачем пытать-то было носильщика перед смертью?! Убийца – больной на голову садист, что ли? Уж если решил убить – так отправил бы сразу бедолагу к ангелам! А ему этого мало показалось!..
– Во-первых, Иевлев мог видеть что-то такое, чему изначально сам не придал значения. И не рассказал об этом мне, когда я с ним беседовал. А убийца, вероятно, опасался, что позже на Евграфа Галактионовича найдет просветление, и он побежит на Лубянку. Во-вторых, убийца хотел от него что-то узнать. Потому и перерезал Иевлеву горло так, чтобы не повредить голосовые связки. И тот мог отвечать на задаваемые ему вопросы. А если и не в состоянии был говорить, то мог хотя бы кивать или мотать головой. Возможно, его истязателю большего и не требовалось. Он задавал Иевлеву вопросы – и побуждал его отвечать, нанося ему новые раны финским ножом.
– Ну, какая же мразь! – не выдержал Миша.
– Мразь первостатейная, – подтвердил Николай. – Но даже и не это – самое худшее.
– Да что же еще-то может быть хуже?! Разве что… – И Кедров умолк на полуслове – потрясенно воззрился на своего друга.
– Вижу, и ты всё понял, – кивнул Скрябин. – Да: убийца – кто-то из наших с тобой коллег. И не просто из числа сотрудников НКВД – из тех, кому могла принадлежать та финка. Она-то как раз ключевой уликой и не является. Её могли украсть специально для совершения преступления, чтобы потом пустить следствие по ложному следу.
– Протокол допроса… – прошептал Кедров.
– Точно. Он сразу же попал в архив «Ярополка». И доступ к нему мог получить лишь кто-то из участников проекта. Никак иначе узнать про Иевлева и его показания было невозможно.
Скрябин подумал: Валентин Сергеевич еще накануне предвидел нечто в этом роде. Потому и решил придать расследованию неофициальный характер. У Николая даже шевельнулась мыслишка: а не мог ли руководитель проекта «Ярополка» предощутить грядущую судьбу Евграфа Иевлева? Ведь именно такие предощущения – способность делать неизменно верные прогнозы относительно чьей-то смерти – и были особым талантом Резонова-Смышляева. Из-за них-то его и привлекли к участию в проекте более десяти лет назад.
Но потом Николай всё-таки решил: нет, подобных предвидений у Валентина Сергеевича быть не могло. И решил он так не потому, что считал: в противном случае руководитель «Ярополка» поделился бы с ним, Скрябиным, своими подозрениями насчет грозившей носильщику опасности. Нет, Николай знал: Валентин Сергеевич считал неотвратимым то, что он предощущал. Так что он не видел смысла в том, чтобы остерегать потенциальных жертв. Однако для получения своих предчувствий руководителю «Ярополка» требовалось время. Он должен был сжиться с объектом, общаться с ним – если не напрямую, то хотя бы при помощи мыслеобразов. А Смышляев до вчерашнего дня даже не знал о существовании Евграфа Иевлева – равно как и сам Скрябин.
– Слушай, Колька, – проговорил Кедров – уже в полный голос, – так ведь это – одно дело, а не два! Иевлева-то убил тот же человек, который заморозил инженера Хомякова и его собаку! И – я тем более не понимаю, зачем ты передал расследование убийства Иевлева в МУР!
– Тот же человек? – Скрябин иронически изогнул бровь. – Ты и вправду считаешь, что человеку под силу в долю секунды обратить в лед взрослого мужчину и немецкую овчарку? Ну, ладно, ладно! – Он взмахнул рукой. – Я понимаю, что ты хочешь сказать! И согласен с тобой. К обоим этим эпизодам причастно одно и то же лицо: сотрудник «Ярополка». Предатель в наших рядах. Вычислим его – найдем убийцу Хомякова и Евграфа Иевлева.
– И как ты собираешься его вычислять?
Вопрос не был лишен смысла: в составе «Ярополка», невзирая на секретность проекта, числилось почти сто сотрудников. Но – Скрябин знал, что искать он будет отнюдь не иголку в стоге сена.
– Круг подозреваемых у нас четко очерчен, – сказал он. – И совсем не велик. Давай-ка я введу тебя в курс дела.
И Николай взял со своего стола папку-скоросшиватель, материалы из которой он изучал как раз перед звонком своего друга. В этот полуночный час в кабинете Скрябина горела всего одна настольная лампа. И она отбросила на папку ровный круг желтого света, похожего оттенком на лунный. Однако обоим друзьям померещилось, будто на них полыхнул огнем воспаленный глаз какого-го древнего чудища. Быть может, демонического дракона Фафнира, который перелетел в Москву прямиком из ледяного мрака скандинавского ада Хельхейма.
Глава 4. Погодные феномены
17-18 июля 1939 года. Ночь с понедельника на вторник
1
Отчет о природной аномалии – чрезвычайной силы морозах локального проявления – опубликовала газета «Советская Белоруссия». Это было крупнейшее республиканское периодическое издание, так что изложенная в газете информация дошла вскоре и до Москвы – до площади Дзержинского.
– Вот, прочти! – Николай Скрябин через стол передал другу газетную вырезку, слегка помятую с одного угла. – Статейка прелюбопытная – сам увидишь!
Текст статьи «Погодный феномен в социалистической Белоруссии» был таким:
«23-го апреля, в минувшее воскресенье, впервые за многолетнюю историю наблюдения за погодой в Минской области были зафиксированы аномальные локальные морозы, которые, к прискорбию, имели самые трагические последствия. Известный в республике передовик социалистического производства, директор льнокомбината Соловцов Семен Иванович, пятидесяти двух лет, прогуливался воскресным вечером в окрестностях своей дачи, находящейся в 15 километрах от Минска. Его домашние: жена, сын и невестка – оставались на даче и ожидали, что Семен Иванович вернется с минуты на минуту. Отметим, что погода при этом стояла весьма теплая (корреспондентам нашей газеты сообщили в метеобюро, что на территории Минской области температура воздуха вечером 23-го апреля составляла 18 градусов по шкале Цельсия).
Домочадцы Соловцова С.И. обеспокоились только тогда, когда он не вернулся на дачу к 9 часам вечера. В это время из Минска прибыл служебный автомобиль директора, на котором он с семьей должен был отбыть в город. Сын Соловцова вместе с водителем отправился в лес, и они двинулись по той самой тропе, которую, как было известно, директор всегда выбирал для своих прогулок. И прямо посреди этой тропы они внезапно увидели погруженную в лед человеческую фигуру, в которой они опознали Семена Ивановича. Шофер и сын Соловцова оба кинулись к ледяной глыбе, но ясно поняли, что находящийся внутри неё человек уже мертв. И впоследствии медицинская экспертиза дала заключение, что умер он почти мгновенно, не успев осознать, что оказался в зоне аномального воздушного выброса со сверхнизкой температурой.
По заверению синоптиков, подобных феноменов на территории Белоруссии не наблюдалось с 1888 года. Тогда при схожих обстоятельствах погиб пожилой крестьянин тогдашней Минской губернии, который, по невероятному совпадению, приходился дедом тов. Соловцову С.И.»
– М-да… – протянул Миша, разглаживая смятый газетный уголок. – Вот это я понимаю – совпаденьице…
– Наши товарищи в такое совпадение тоже не особенно поверили. Потому-то в Белоруссию и выехала следственная группа «Ярополка» – для изучения обстоятельств дела. И, представь, она обнаружила еще одну оказию. Взгляни-ка сам!
И Николай протянул Мише еще одну бумажку из папки: заверенную печатью справку с железнодорожной станции, близлежащей к месту гибели Семена Соловцова. И эта справка подтверждала, что 23 апреля 1939 года там делал остановку товарный поезд, в составе которого, помимо прочего, имелась специализированная цистерна с жидким азотом.
– Так что, – сказал Николай, – наши с тобой коллеги пришли к выводу: директора Соловцова убили враги и вредители. Они похитили передовика производства с места его обычной прогулки, окунули в ту цистерну, а потом вытащили его оттуда и подбросили его тело обратно, на тропу. Ну, а поиск вредителей – не прерогатива «Ярополка», как тебе известно. Следственная группа оформила свое заключение по делу – честь по чести, и отбыла в Москву.
– Это какая-то ахинея, Колька, – сказал Михаил. – Я видел, что происходит при замораживании жидким азотом. Да ты и сам это знаешь! Ведь это ты предложил тогда, в позапрошлом году, заморозить то существо – похожее на помесь акулы с русалкой. И оно стало твердым и хрупким, будто стеклянным, а не вмерзло в лед! Как они могли поверить в такое?
– Пока не знаю, – сказал Николай и сложил все бумаги обратно в папку, которую тут же убрал в сейф и повернул ключ в громко клацнувшем замке. – Но завтра я встречусь со всеми четырьмя участниками той следственной группы. И составлю свое мнение.
С тем они и отправились по домам.
2
Лариса Рязанцева тоже полуночничала в ночь с понедельника на вторник: сидела за старинным, на толстых шарообразных ножках, письменным столом в угловой комнате коммунальной квартиры на Моховой, 10, где до неё проживал Николай Скрябин. И не могла оторваться от изучения материалов, переданных ей Николаем. Это дело увлекло её так сильно, как она и сама не ожидала.
Лара всего месяц назад окончила с отличием Историко-архивного институт. И дипломную работу она защитила на такую тему, с какой её и близко не подпустили бы к государственной комиссии – если бы ни содействие старшего лейтенанта госбезопасности Скрябина. Эта тема – «Инфернальная мифология славянских народов» – и стала, по сути, причиной их знакомства в конце мая нынешнего года. Но иногда Лара думала: лучше бы они познакомились каким-то иным образом. Таким, который не выявил бы в ней столь явной склонности к расследованию дел труднообъяснимого свойства. Поскольку именно на таких делах специализировался проект «Ярополк». И перейти в него – то есть, поступить на службу в ГУГБ НКВД – Николай Скрябин агитировал её вот уже полтора месяца.
Однако Лара служить на Лубянке решительно не желала – невзирая на то, что она испытывала к самому Скрябину. Она работала в отделе редких рукописей Библиотеки имени Ленина – которую она видела из окна прямо сейчас, сидя у себя в комнате за столом: огромный и величественный Дом Пашкова. И девушка помыслить не могла о том, чтобы покинуть это чудесное место – с его ароматом старых книг, с его пропитанной пылью веков тишиной, с кирпичной кладкой старых томов на стеллажах.
«Ну что ты, право, как маленькая! – ругала она себя. – Надо раз и навсегда условиться с Николаем, что этот вопрос мы больше поднимать не будем. Николай поймет».
И то, что она была не маленькая, являлось правдой: в августе ей исполнялся двадцать один год. Но вот в том, что Николай поймет – и, главное, примет! – её отказ работать с ним, она уверена отнюдь не была. Да, он не давил на неё, не требовал немедленно ответа, но – подспудно всегда его ожидал.
И вот теперь, изучая содержимое кожаной папки, девушка почти готова была сменить место работы. Приходилось признать: то, чем занимался проект «Ярополк», вряд ли уступало в увлекательности работе с редкими рукописями.
Одни только письма – из которых были вымараны имена адресатов и подписи корреспондентов – чего стоили! Вымараны-то они оказались не слишком тщательно. И Лара страшно гордилась тем, что сумела, продираясь сквозь дореволюционную орфографию, отыскать непосредственно в тексте писем двукратное упоминание имени женщины, к которой обращался автор: Стефания Болеславовна. И один раз – имя мужчины: Платон Александрович.
Но не одни обнаруженные имена были предметом Лариной гордости. Она еще и расшифровала условные значки на старинной карте Минской губернии! Звездочки на ней оказались изображениями снежинок, а кружочки – чем-то вроде символа «зеркало Венеры»; только крохотные, едва различие рукоятки этих зеркалец торчали сверху.
Однако же и новый взгляд на эти символы Лара не считала своим главным достижением. Главное состояло в том, что она соотнесла символы на карте с конкретными событиями, происходившими в Минской губернии в период между 1845 и 1888 годами. Для этого ей пришлось под благовидным предлогом на целый день покинуть отдел редких рукописей. И долго сидеть, шурша ломкими страницами старых газет, в отделе периодических изданий.
А сейчас Лара заносила в блокнот всё то, что ей удалось выяснить. Но не могла удержаться: поминутно отвлекалась на то, чтобы еще раз перечесть строки безадресных писем, так поразивших её.
3
В то время, как Лариса Рязанцева корпела над своими изысканиями, другая девушка – несколько старше её – нашла себе занятие поинтереснее. Её звали Татьяна Рябинина, ей недавно исполнилось двадцать шесть, и она была артисткой Театра имени Вахтангова.
Формально Татьяна всё еще состояла в комсомольской организации. И продолжала аккуратно уплачивать взносы, получая от театрального комсорга штампик в свой комсомольский билет. Вот только – и комсорг, и все артисты театра в середине июля находились в отпуске. Равно как и сама Татьяна Петровна. А потому она сегодня даже немножко поволновалась, когда говорила своему мужу о внеочередном отчетно-перевыборном комсомольском собрании в театре, на котором она всенепременно должна присутствовать.
Но волновалась она зря. Её муж тут же ей поверил – он всегда ей верил. И Татьяна так и не смогла для себя определить, что служило тому истинной причиной. Беззаветная любовь супруга? Его невероятная наивность? Или то, что ему было без разницы, где и с кем она проводит время, поскольку он и сам давным-давно отыскал себе кого-то на стороне?
«Да нет! – одернула она себя. – Разве он мог на кого-то меня променять?»
Она оглядела себя в большом зеркале с лампионами в раме, что висело в её гримерке. Ангельски хороша! Просто королева! И фигура, и огромные голубые глаза, и дивные белокурые волосы, и, самое главное, та особая изюминка, без которой никакая красота не сделает женщину привлекательной – всё было при ней. И стоило ли удивляться, что театральный сторож всегда беспрепятственно пускал её в здание театра – отпуск или не отпуск, открыто здание или закрыто для всех. Достаточно было улыбнуться старику, чмокнуть его в щечку – и он прямо-таки таял от счастья.
Вот и сегодня благодаря дружбе с ним она смогла посетить собрание. А что в нем участвовали только двое – сама Татьяна и новый друг её сердца – о том старичок-сторож будет молчать. Уж, во всяком случае, ябедничать её мужу он не побежит.
Но – собрание собранием, а к двенадцати часам ночи ему следовало бы закончиться. Так что четверть часа назад ей пришлось со своим сердечным другом распрощаться. Он ушел первым – еще, чего доброго, кто-то мог бы заметить их, вместе выходящими из здания театра. И потом вопросов не оберешься. А теперь и самой Татьяне настало время уходить.
Она еще раз оглядела себя в зеркале, оправила на бедрах платье, провела кончиками тонких пальцев по волосам, придавая прическе мнимую небрежность. И собиралась уже щелкнуть выключателем, гася лампионы в раме, когда позади себя увидела в зеркале это.
В первый момент она решила: с зеркалом случилась какая-то неприятность. Может, отошел фрагмент амальгамы – из-за того что дура-уборщица протирала зеркало мокрой тряпкой. Или на него просто что-то налипло. Но потом непонятное пятно переместилось в другую часть зеркального стекла.
Татьяна медленно, всем корпусом, стала поворачиваться. И с четверть минуты созерцала это воочию, не в виде отраженья: маленький сияющий предмет, похожий на крохотный маятник, который сам собой качался. Он просто висел в воздухе – никто его не держал и не придавал ему движение.
«У меня галлюцинация! – подумала Татьяна. – Или, хуже того – внезапно возник какой-то дефект в хрусталике глаза. Я скоро ослепну, и тогда…»
Но последнюю жуткую мысль она не успела додумать до конца. Сияющий маятник качнулся еще разок, а потом – просто исчез. Мгновенно и бесповоротно. Татьяна еще не меньше минуты озиралась – боясь и в то же время пытаясь увидеть его снова. Но нет: чем бы ни было это сияние, теперь оно пропало.
– Тьфу ты, черт! – Татьяна громко и немелодично рассмеялась – благо, в театре никого кроме сторожа не было, а тот не покидал свой пост при входе и услышать её не мог. – Померещится же такое! Расскажу потом Самсону – он со смеху помрет.
Она погасила в гримерке свет и выпорхнула в коридор Вахтанговского театра.
4
Лара Рязанцева не зря ворошила газетные подшивки – выяснила, кем был Платон Александрович, упомянутый в письме столетней давности! Она соотнесла факты и сумела узнать по старым газетам и его фамилию – Хомяков, и род его занятий – крупный судейский чиновник, председатель судебной палаты. Несколько лет он состоял в переписке с молодой женщиной, к которой, надо полагать, питал нечто вроде робкой романтической привязанности. Вылилась ли эта привязанность во что-то, являлись ли письма из папки полной перепиской этих двоих или только её частью – оставалось неведомым. Но вот что не представляло сомнений: эти двое постоянно жили в страхе. И общий их страх не носил иррационального характера: для него имелись веские причины.
Вы ведь знаете, что случилось давеча в Игуменском уезде, – писал Платон Александрович. – Двое проезжих крестьян ясно видели на дороге сияющую женщину, которая держала в одной руке словно бы маленький круглый мешочек, перетянутый тонкой бечевкой. И, хотя стояла середина августа, оба землепашца одинаково и одновременно начали дрожать от холода. Обоих при этом обуял сверхъестественный ужас, и оба потом признались уряднику, которому они рассказали о встрече на дороге: если бы сияющая незнакомка не пропала внезапно с их глаз, им пришел бы конец. «Мы окочурились бы со страху», – так один из них выразился.
Лара по прочтении этого фрагмента отыскала на карте, приложенной к письмам, упомянутый Игуменский уезд. И – пожалуйста: обнаружила на карте символ в виде кружка или перевернутого зеркала. По-видимому, он обозначал тот самый мешочек на бечевке.
А в следующем письме неведомая Стефания отвечала своему знакомцу – единственный раз назвав его в тексте по имени-отчеству:
Больше скажу, Платон Александрович: отец поведал мне, что два года тому назад его вызывали в конце зимы на берег Припяти – для опознания найденного мертвого тела. Оно целиком вмерзло в лед, и нимало не подтаивало – поскольку, как вы помните, у нас тогда стояли сильнейшие морозы. Мой отец решил сперва: мертвеца вырубили в виде глыбы льда прямо из реки, которая до дна промерзла. Но ему объяснили: покойник изначально находился в таком виде на берегу, в зарослях ивняка. Его бы и до весны не обнаружили, если бы один пьяненький мужичок не вздумал продираться сквозь заросли, чтобы срезать путь к селу.
Отец мой опознал покойника сразу же: это был его бывший лакей, молочный брат отца, захотевший по достижении пожилого возраста покинуть службу, чтобы посмотреть на мир и пожить самому по себе. Мой отец снабдил его деньгами и подарил ему на прощание свою шинель на енотовом меху. А на шинели имелась нашивка с именем отца. Так полиция на него и вышла.
Лара изучила по карте все изгибы Припяти на территории тогдашней Минской губернии. И обнаружила подле синей линии, обозначавшей реку, значок в виде снежинки.
5
Сторож Вахтанговского театра, Валерьян Ильич, знал, что Танечка, красивая молодая артисточка, встречается нынче в своей гримерке с молодым человеком. И видел этого молодого человека выходящим из здания – более часу тому назад. Поговорил с ним перед его уходом, а потом еще и отечески похлопал его по плечу – так надо было.
По прикидкам сторожа, и самой Танечке давно уже следовало театр покинуть. Как-никак, она была замужем, и вряд ли супруг одобрил бы её ночные прогулки невесть где. Но вот – поди ж ты: не шла она домой. Ну, никак не шла!
Валерьян Ильич встал из-за маленького столика на вахтерском посту, на ключ запер черный ход театра, открытый им специально для Танечки, и стал подниматься на второй этаж. Однако даже до площадки между первым и вторым пролетами не дошел, когда на него повеяло вдруг ледяным холодом. А потом ему на голову упало несколько хлопьев мокрого снега.
Валерьян Ильич вздрогнул и поморщился, как от сильной и внезапной боли. И так стиснул выкрашенные малиновой краской лестничные перила, что у него даже костяшки пальцев побелели.
– Этого не может быть, – прошептал сторож. – Никак не может быть!..
Глава 5. Улица Вахтангова
18 июля 1939 года. Вторник
1
Во второй день рабочей недели Николай Скрябин планировал хорошенько выспаться после ночных бдений. Ему просто не было смысла с утра идти на Лубянку. Сотрудники проекта «Ярополк» – в силу специфики своих занятий – постоянно трудились по ночам и раньше полудня на площади Дзержинского почти никогда не появлялись. А Николай хотел переговорить сегодня именно со своими коллегами по «Ярополку»: с участниками следственной группы Назарьева.
Но какой там утренний сон! Когда на его прикроватной тумбочке затрезвонил телефонный аппарат, времени было – двадцать минут восьмого. Точь-в-точь как позавчера, когда Николая разбудила потолочная капель.
И после этого ему пришлось ехать в театр Вахтангова, где он и пробыл битых два часа. Только в одиннадцать утра он вышел из театрального здания, где еще продолжали работать следователи МУРа – во главе всё с тем же Денисом Бондаревым. А вслед Николаю летел надтреснутый голос театрального сторожа:
– Наверняка это тот амбал Танечку нашу заморозил – больше некому! Кроме него никто в театр не входил вчера!..
«Кроме амбала – и тебя самого», – не удержавшись, мысленно ответил ему Скрябин. Но вслух ничего не сказал. Не мог он поверить, что этот старичок – Валерьян Ильич – сумел бы обратить актрису в ледяную глыбу, каждая капля воды из которой источала легкое свечение, имевшее форму клубка с размотавшейся ниткой.