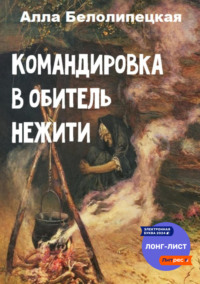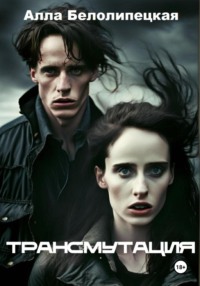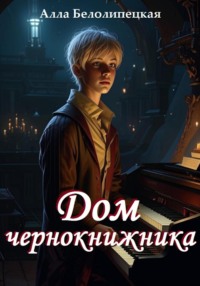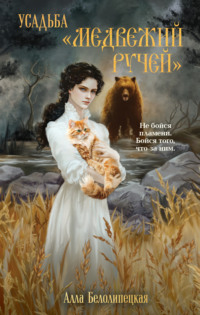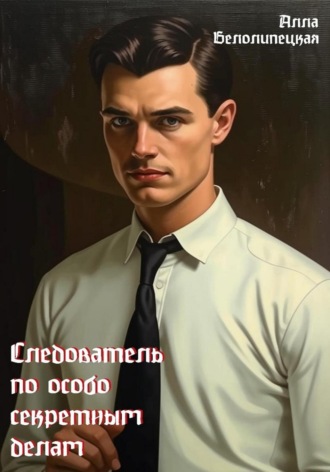
Полная версия
Следователь по особо секретным делам
Возможно, для бывшего актера и режиссера Смышляева в этом и содержался какой-то глубокий психологический смысл. Но в самом Николае лишь всколыхнулось уже затихшее было раздражение. Порфирий Петрович отнюдь не входил в число его любимых литературных персонажей. Николай, как и все, сопереживал Раскольникову, а не ему. Так, видно, Достоевский всё и задумал. И еще – Скрябин полагал: изначальным преступлением Раскольникова, которое решило его судьбу, было не то, что он зарубил топором старуху-процентщицу и сестру её Лизавету. Топор – уже составлял часть наказания, которое Раскольников сам себе назначил. А преступление, за которое он себя наказывал, состояло в том, что он выносил в своей душе, а потом еще и изложил в статье, довел до всеобщего сведения идею разрешения крови по совести. Идею, способную уничтожить род людской вернее, чем все топоры в мире, вместе взятые.
– Я готов изложить вам всё, что мне известно, – говорил между тем (дьячок) Андрей Валерьянович. – Как я понимаю, речь пойдет о том расследовании, которое моя следственная группа проводила в Белоруссии?
Вместо ответа Николай сунул руку в пакет из бумаги, вытащил оттуда маленький округлый предмет и показал его Назарьеву:
– Вам знакома эта вещь?
Андрей Назарьев перестал улыбаться и пристально, цепко поглядел на тряпичный детский мячик: очень старый, из выцветшего красного сатина. Швы на нем разлезлись, и наружу выглядывала набивка из грубой волокнистой ткани, напоминавшей джут. К мячику крепилась не слишком длинная веревочка с петелькой на конце – явно предназначенной для детской ручки. Эту петлю Скрябин сейчас надел на свой указательный палец – держал игрушку на весу.
– Нет, – Назарьев качнул головой, – никогда прежде я эту вещицу не видел. У меня хорошая память на материальные объекты – я бы запомнил.
Николай другого ответа и не ожидал. И проговорил – исполняя просьбу того, кто шпионил за ним сегодня на улице Вахтангова:
– Ваш подчиненный, младший лейтенант госбезопасности Данилов, просил меня от его имени извиниться перед вами за то, что он изъял этот предмет из числа улик по делу, над которым вы работали в Минской области. И еще – он попросил передать вам дословно следующее: он с этим делом не химичил. – Скрябин сделал акцент на слове он, как давеча и сам Данилов.
Но Назарьев будто и не услышал второй половины сказанного Скрябиным. С удивлением он вскинул взгляд на Николая.
– Святослав Сергеевич просил мне это передать? Но ведь мы с ним виделись нынче утром. Почему же он сам ничего мне не сказал?
– Понятия не имею.
И тут, похоже, до Назарьева дошел смысл и последней фразы Скрябина.
– Он – не химичил? – переспросил Андрей Валерьянович. – То есть, кто-то другой – химичил?
– А вам самому так не показалось?
Назарьев уставился на Николая со столь явным недоумением, что тот решил: либо его визави чист, как младенец, либо он – актер такого уровня, что и Валентину Сергеевичу Смышляеву даст вперед сто очков.
– Нет, – произнес Назарьев после долгой паузы, – а почему мне должно было так показаться? Что – причиной смерти Соловцова стало не то, что его заморозили в цистерне с жидким азотом? Он умер еще до того, как его в эту цистерну обмакнули?
Миша Кедров издал горлом какой-то сдавленный звук – словно бы он поперхнулся чем-то и пытался прокашляться. Да Николай и сам едва сдержал усмешку.
– Скажите, Андрей Валерьянович, – спросил он, – а какое у вас образование? Какое учебное заведение вы окончили?
В личном деле Назарьева – Николай это хорошо помнил – упоминаний об этом отчего-то не содержалось.
И от этого простого вопроса Андрей Валерьянович смутился так сильно, что краска залила его лицо – вплоть до самых корней рыжевато-русых волос.
– Я, – проговорил он, – в 1927 году окончил Высшие богословские курсы в Ленинграде. Ровно через год после этого их расформировали.
И тут Николай не выдержал: громко, в полный голос расхохотался – хоть и понимал, насколько это не к месту.
– Не в бровь, а в глаз! – выдавил он из себя сквозь смех.
Миша глядел на него удивленно и непонимающе, Назарьев – по-прежнему смущенно, но уже и с заметной обидой.
3
– Извините меня, Андрей Валерьянович, – сказал Николай; отсмеявшись, он снова стал серьезен. – Мой смех – он был не по поводу вашего образования. Хотя теперь мне всё ясно: на богословских курсах свойства жидкого азота не изучают. Однако для «Ярополка» образование сотрудников не играет приоритетной роли. Для нас важно другое. Так что я прошу вас взять в руки эту вещь и дать по ней свое заключение.
И Николай протянул Назарьеву тряпичный мячик. Андрей Валерьянович принял предмет обеими руками, сложив их лодочкой. И прежде всего остального поднес мячик к лицу – к самому носу, чтобы втянуть в себя его запах. А дальше – произошло нечто такое, отчего Скрябин и Кедров одновременно ахнули: лицо Андрея Назарьева, тридцатичетырехлетнего сотрудника НКВД СССР, при вдыхании этого запаха просто-напросто исчезло. И его место заняло лицо маленького мальчика – не более двух лет от роду: кареглазого, с каштановыми кудрями, красивого, как ангелок со старинной рождественской открытки.
– Вот это да… – прошептал Скрябин.
А детский облик Назарьева тем временем начал претерпевать изменения. Ангельское личико мнимого малыша несколько раз дернулось, как бы заколыхалось, а потом черты ребенка трансформировались в лицо юной женщины: тоже очень красивой, имевшей с мальчиком очевидное сходство. Кудрявые волосы и карие глаза у неё были в точности такие же, как у него. Но в глазах этих стояло выражение уже отнюдь не детское: в них читались ярость, обида, страх и мстительная злоба. Скрябину показалось, что взгляд этих глаз остановился на нём, и у него перехватило дыхание – хотя он считал себя человеком отнюдь не робкого десятка.
Но лицо яростной женщины тоже просуществовало недолго. Не прошло и минуты, как оно начало будто растягиваться, как надуваемый воздушный шарик. А черты его сделались резче, грубее – но в то же самое время добрее и простодушнее. Теперь на Николая и Мишу глядел крестьянский детина лет двадцати пяти: с круглым лицом, чувственными, слегка оттопыренными алыми губами, над которыми темнели усы, и с глазами ярко-голубого цвета. Его взгляд выражал одну эмоцию: горе. Причем горе это казалось столь неизбывным, беспредельным, что пугало чуть ли не сильнее, чем давешняя ярость кареглазой красавицы.
Лицо это недолго оставалось молодым: через пару секунд оно начало худеть, бледнеть, под глазами возникли тени, а на щеках и на подбородке проступила густая седоватая щетина. А потом постаревшее лицо и вовсе пропало – его будто снесло потоком воздуха. И на смену ему пришла череда быстрых, почти неуловимых для глаза трансформаций. Николай Скрябин едва успевал различить мужские или женские черты на новом лике, как они уже сменялись новыми.
Зато два последних лица он разглядел великолепно. Одно принадлежало Святославу Сергеевичу Данилову. А второе – ему самому. И черты его лица отображали такое негодование, такую сардоническую язвительность, что почти казались чертами старика. Николай даже расстроился при виде этого. Но тут лицо Назарьева внезапно расправилось и обрело свой изначальный, натуральный вид.
Андрей Валерьянович выпустил выцветший красный мячик из рук – положил на стол. И часто, мелко задышал.
4
– Это и было мое заключение, – сказал Назарьев. – То, что вы увидели. Так уж работает мой дар. Это приходит и уходит помимо моей воли. Управлять своим даром я не умею, к сожалению.
– Невероятно! – воскликнул Миша. – Вы показали нам всех, кто когда-либо держал эту вещь в руках.
Но Николай восторга своего друга не разделял. Увиденное впечатляло, вне всяких сомнений. Но очень мало давало им в плане текущего расследования. Да еще и, к тому же, никак не характеризовало личность самого психометрика – Андрея Назарьева.
– И вы ничего не можете прибавить от себя? – спросил Скрябин. – Дать какой-то комментарий?
– Да если бы я это мог – меня, наверное, приглашали бы для расследования самых громких преступлений в СССР! Увы: я даже не знаю, что вы видели, пока я держал эту вещь.
Скрябин взял сатиновый мячик со стола и опустил обратно в бумажный пакет.
– Хорошо, – сказал он, – тогда на сегодня – всё.
– Но ведь я так и не сделал никаких записей, – напомнил ему Миша.
– Запиши: товарищ Назарьев отрицает, что ему известно, кто мог фальсифицировать результаты расследования и с какой целью.
Бывший слушатель богословских курсов слегка подпрыгнул на стуле при этих словах и уже открыл было рот – намереваясь внести какие-то уточнения. Но Скрябин и Кедров (который на ходу быстро карябал что-то в своем блокноте) уже вышли в коридор.
5
Следующим номером в списке Скрябина значился Федор Великанов. У лейтенанта госбезопасности своего кабинета не было, так что Скрябин с Кедровым перехватили его, когда он возвращался с обеда – выходил из столовой НКВД. А теперь они втроем сидели в кабинете Николая. Но Скрябин допрос не начинал – прислушивался вместо этого к тому, что происходило наверху, этажом выше.
Прямо над ними располагалась библиотека – хранилище документов проекта «Ярополк». И Скрябин всегда считал это помещение самым тихим на Лубянке. Считал – вплоть до сегодняшнего дня. Поскольку, едва он сам, Кедров и Великанов в кабинет вошли, прямо над их головами раздался дробный перестук чьих-то шагов. Через библиотеку словно бы кто-то пробежал, хотя стеллажи в ней стояли так тесно, что и ходить-то между ними можно было лишь бочком, приставным шагом.
Миша тоже услышал шум, удивленно поднял глаза к потолку. А вот Федор Великанов внимания на странные звуки не обратил – продолжал себе сидеть рядом с письменным столом Скрябина, с любопытством разглядывая книги и артефакты в шкафах. Это был довольно привлекательный мужчина двадцати шести лет от роду, высокий, с тонкими чертами бледного худощавого лица. Его сухопарая фигура заставила Скрябина вспомнить изображения с древнеегипетских фресок: Федор Васильевич здорово напоминал долговязого широкоплечего египтянина с головой ибиса. То есть, по сути – древнеегипетского бога Тота. И Скрябин, вслушиваясь в звуки беготни у себя над головой, всё же успел про себя подумать: наверняка и сам Великанов об этом сходстве знал, коль скоро он окончил истфак МГУ.
– Скажите, Федор Васильевич, – обратился к нему Скрябин, – вы видели раньше этот предмет?
И он вытащил из бумажного пакета всё тот же ветхий мячик блекло-красного цвета.
Великанов – удивив Скрябина – коротко кивнул:
– Видел. Данилов мне его продемонстрировал. Мы с ним, видите ли, совершили обмен. Так сказать, quid pro quo. Баш на баш. Я ему рассказал одну историю. А он показал мне это.
– Что за история? – спросил Миша.
– Напрямую связанная с белорусским делом. Тем самым, из-за которого теперь и разгорелся сыр-бор. Я раскопал в минском архиве сведения об одном предке Семена Соловцова.
– О его деде, который тоже замерз? Надо полагать, и его в 1888 году окунули в цистерну с жидким азотом? – спросил Скрябин.
Он продолжал прислушиваться к звукам в архиве. Беготня там сменилась каким-то топтаньем – как если бы некто в одиночку вальсировал, не сходя со своего места.
Федор Великанов пристально посмотрел на старшего лейтенанта госбезопасности, потом ответил – без улыбки:
– Да нет, не в цистерну. И, упреждая ваш вопрос: я не знаю, кто подбросил Назарьеву ту версию. Насчет жидкого азота. А история, – теперь он повернулся к Михаилу, – действительно связана с Артемием Соловцовым. Дедом Семена Ивановича. Причем она – эта история – известна практически всем. Хотя имен её участников никто не знает.
– Ну, вы нас заинтриговали, – сказал Николай; в библиотеке перестали топтаться, и он – почти не отдавая себе в том отчета – перевел дух. – Так что мы рассчитываем от вас эту историю услышать. И собираемся всё запротоколировать.
Миша Кедров в подтверждение этого чуть приподнял свой блокнот, в котором открыл чистую страничку, но тут Великанов удивил их во второй раз.
– Не нужно ничего протоколировать, – сказал он. – Я уже сам всё записал. И подписал – оформил показания. Распорядилась ими, как пожелаете.
Он сунул руку в нагрудный карман рубашки и вытащил оттуда незапечатанный почтовый конверт, на котором в графе адресата стояла фамилия Скрябина.
– Я хотел отправить вам письмо, – сказал (бог Тот) Федор Великанов. – Еще до того, как всё закрутилось. Можете сами посмотреть дату в конце моих показаний. – И он передал конверт Николаю.
Миша хмыкнул:
– Ну, дату-то вы могли поставить любую – откуда нам знать, когда вы это на самом деле писали?
Но Скрябин даже не услышал, ответил ли что-то Великанов. Он вытащил из конверта свернутый вчетверо лист писчей бумаги, исписанный аккуратным убористым почерком, и стал читать.
6
История, случившаяся на почтовом тракте «Санкт-Петербург – Варшава» в феврале 1844 года, получила широкую огласку, – писал Федор Васильевич. – Так что белорусский поэт польского происхождения Владислав Сырокомля даже переложил её на стихи. Свое стихотворение он назвал «Почтальон». В нем он детально изложил, как некий ямщик, возивший почту на упомянутом тракте, невольно стал причиной смерти собственной невесты. «Ямщиком», впрочем, его назвал уже русский переводчик этого стихотворения – Леонид Трефолев. И это было не вполне верно с формальной точки зрения. Ямщиками в царской России именовали возниц на почтовых тройках, а на том тракте почту доставляли верховые почтальоны. Но в целом стихотворение и его перевод весьма точно воспроизводят суть произошедшего. Могу это утверждать достоверно, поскольку сверялся с архивными записями.
Правда, «народная» песня, в которую преобразовалось стихотворение Трефолева, отличается недосказанностью. Из неё не ясны причины, по которым замерзла невеста ямщика, поскольку изначальный текст стихотворения был для песни почти вдвое сокращен. В итоге слушателям непонятно, из-за чего ямщик винил себя в смерти невесты, тогда как баллада Сырокомли трактует это однозначно. Почтальон спешил доставить «эстафету», с которой его отправил почтмейстер. А потому проигнорировал зов замерзавшего в поле человека. И только на обратном пути понял, что позволил погибнуть своей возлюбленной. Имя ямщика было – Артемий Соловцов, имя его невесты – Ганна Василевская, фамилия почтмейстера – Уваров.
При этом Соловцов явился с повинной: признался в судебной палате, что оставил человека в смертельной опасности. Однако никакого наказания за причинение смерти по неосторожности не понес. Председатель судебной палаты, Платон Александрович Хомяков, по невыясненной мною причине отпустил Соловцова. И в дальнейшем никакое дознание относительно обстоятельств смерти Ганны Василевской не производилось.
– Платон Александрович Хомяков, – прошептал Скрябин, а потом быстро перевел взгляд на дату внизу листка: 17/VII.1939.
– Так точно, – кивнул Великанов. – И я почти не сомневаюсь в том, что ваш сосед, который замерз в собственной квартире – один из его дальних родственников.
– Вот, прочти! – Николай протянул листок Мише, а у Великанова спросил: – Почему вы не сообщили обо всем этом Андрею Валерьяновичу Назарьеву?
– А с чего вы взяли, что я не сообщил?
– В отчете о белорусском деле я такой информации не нашел.
– Ну, стало быть, Андрей Валерьянович не счел нужным внести её туда. История-то – столетней давности. Вот он и решил: интереса она не представляет.
А Миша, быстро просмотрев записи Великанова, вернул листок Николаю и спросил:
– Это что же получается: кто-то сто лет спустя решил свершить возмездие? Отомстить за Ганну Василевскую?
– Ну, сам-то Артемий Соловцов погиб намного раньше, – заметил Федор Великанов.
«Да и другие погибали раньше», – мысленно прибавил к этому Скрябин.
– Что же, Федор Васильевич, – сказал он, – если у вас появятся для меня еще какие-то истории – милости прошу в мой кабинет. А сейчас вы можете идти.
7
Когда Великанов ушел, Николай и Миша снова вышли на лестницу и поднялись вверх на один этаж. На двери библиотеки – архива «Ярополка» – стоял кодовый сейфовый замок. Но Скрябин его код знал: Валентин Сергеевич давно предоставил ему доступ без ограничений ко всей информации, касавшейся проекта.
– Кто же мог здесь бегать полчаса назад? – удивленно проговорил Миша, когда они с Николаем вошли в архив и включили свет.
Помещение выглядело совершенно безжизненно: папки стояли на стеллажах безукоризненно ровными рядами, стулья возле двух письменных столов были аккуратно задвинуты, черные фланелевые шторы на окнах – опущены. Но главное – здесь не ощущалось недавнего присутствия человека: воздух не был взбаламучен. Николай не знал, каким еще словом можно выразить то впечатление, которое производила на него аура мест, недавно посещенных людьми.
– Кто бы это ни был, – сказал Скрябин, – нас он дожидаться не стал.
И, едва он это произнес, сейфовая дверь архива отворилась наружу. И в дверном проеме возник человек, чью фотографию Николай видел вчера в личном деле: красивый грузин тридцати лет от роду. Ростом немногим ниже Скрябина, стройный, с осанкой, как у балетного танцора, с крупными и правильными чертами смугловатого лица.
– Здравствуйте, товарищ Скрябин, – проговорил он. – Я узнал, что вы с товарищем Кедровым пошли сюда, и решил не ждать, пока вы меня вызовете – сам пришел к вам. – Если в его речи и слышался грузинский акцент, но легчайший, едва уловимый.
– От кого вы узнали, что мы в архиве? – Николай никого об этом не информировал – просто не успел бы этого сделать.
– Федор Великанов предположил, что вы сюда поднялись.
По всему выходило: Федор Васильевич всё-таки слышал звуки, доносившиеся сверху, только виду не подал. И выводы сделал правильные.
Скрябин пожалел, что оставил тряпичный мячик в своем кабинете – запер в шкафу, где хранились артефакты. Но решил: он всё равно побеседует сейчас с последним из четырех участников белорусской следственной группы.
– Что же, давайте присядем и поговорим. – И Николай указал грузину на один из библиотечных письменных столов, к которому как раз были приставлены три стула.
Глава 7. Невеста ямщика
18 июля 1939 года. Вторник
1
Абашидзе уселся, держа спину всё так же прямо. Миша Кедров притулился к столу сбоку и положил перед собой блокнот. А вот сам Николай отодвинул свой стул от стола – сел от него метрах в полутора. И принялся разглядывать грузина.
Ничего особенного он в Отаре Абашидзе не наблюдал. Не замечал ничего такого, что могло бы способствовать его ускоренному забыванию всеми знакомцами – мнимой размытости облика, к примеру. Дар Абашидзе – способность отводить глаза – не был в действительности такой уж редкостью. Знахари исстари пользовались подобными приемчиками, чтобы упростить психологическое воздействие на объект. Но тут, похоже, имело место забывание самопроизвольное: воспоминания об Отаре Абашидзе начинали блекнуть, едва он выходил из поля зрения человека.
«Интересно, – подумал Николай, – а мы с Мишкой тоже его забудем?»
И он обратился к другу – официально и сухо:
– Товарищ Кедров, я прошу вас дословно протоколировать всё, о чем мы с товарищем Абашидзе будем говорить.
Михаил коротко кивнул и нацелил на страницу блокнота карандаш.
– Вот мой первый вопрос, – проговорил Николай. – Какое вы получили образование, Отар Тимурович?
– А какое это имеет отношение к делу? – удивился грузин, однако тут же спохватился: – Извините, я знаю, что должен ответить. Вплоть до 1922 года я обучался на дому, а потом экстерном сдал экзамен на аттестат зрелости. Никакого иного образования у меня нет.
– То есть, в тринадцать лет вы получили аттестат и не стали учиться дальше?
– Не имел такой возможности. Вы же, вероятно, догадываетесь о моем… скажем так: сложном социальном статусе.
Скрябин хмыкнул, но потом утвердительно кивнул.
– А о свойствах жидкого азота вы знаете что-нибудь? – спросил он.
– Не знаю ничего. Мой учитель не придавал химии особого значения. У меня и в аттестате выведено по ней «удовлетворительно».
Николай, впрочем, и сам не знал: открыли уже в 1922 году свойства жидкого азота или еще нет? И задал следующий вопрос:
– А что вам известно о формальной причине прекращения расследования по белорусскому делу?
– Ничего не известно. Товарищ Назарьев забыл поставить меня об этом в известность. И я не удивлюсь, если он вообще обо мне позабыл.
– Ну, а ваше личное мнение: имелись основания то дело закрывать? Вы ведь наверняка хотели мне что-то сообщить, когда шли сюда.
– У меня есть, что вам сообщить, – подтвердил Абашидзе. – Однако к белорусскому делу это, пожалуй, имеет лишь косвенное отношение.
– Будьте любезны, поясните.
– Видите ли, – сказал грузин, – инженер Хомяков, который проживал с вами в одном доме, был не первой, а второй замороженной жертвой здесь, в Москве.
Абашидзе выдержал паузу – ждал, вероятно, каких-то вопросов от Скрябина. Но тот лишь неотрывно глядел на него – ничего не говорил. И грузин продолжал – с едва заметным разочарованием в голосе:
– Первым замерз в ночь с 27 на 28 июня заведующий одного из крупных московских гастрономов: Уваров Константин Александрович, 1885 года рождения, беспартийный. Ночью он не пришел домой, а утром его тело, вмерзшее в глыбу льда, нашли прямо в подвале гастронома.
– И милиция, – сказал Николай, – пришла к заключению: завмаг ухитрился замерзнуть в холодильнике собственного магазина.
– Так вы уже всё знаете!.. – с еще большим разочарованием протянул Абашидзе.
– Я понятия не имел об этом инциденте, – сказал Скрябин. – И ваши сведения чрезвычайно важны – особенно с учетом того, какова фамилия жертвы.
Грузин воззрился на Николая с недоверием и непониманием – не мог решить, говорит ли тот на полном серьезе или просто хочет посмеяться над ним? Потом спросил:
– Как же вы тогда узнали о заключении следствия? Ведь это же надо было придумать такую нелепицу: указать, что Уваров захлопнулся в холодильнике в результате несчастного случая, а потом был извлечен оттуда неизвестным лицом, которое и вызвало милицию!
– А сами-то вы, Отар Тимурович, как узнали об Уварове? – спросил Николай. – Раз уж в деле не нашли состава преступления, к экспертам «Ярополка» оно никак не могло попасть.
Абашидзе опустил взгляд.
– Я узнал обо всем от жены. Ну, то есть – от моей бывшей жены Веры. Её подруга работает в том гастрономе продавщицей.
У Скрябина так и чесался язык спросить: «А жена-то ваша не забывает вас, когда вы выходите из дому?» Но это было бы грубо и неуместно – особенно с учетом того, что отношения Абашидзе с женой явно разладились. Возможно – как раз из-за того, что ответ на незаданный вопрос Николая был бы: «Да».
2
Через четыре часа после встречи в архиве Николай Скрябин помнил Отара Абашидзе по-прежнему ясно. И, пожалуй, только это и можно было отнести к более или менее сносным итогам всего дня. Миша Кедров спросил сегодня Николая, когда они покидали здание НКВД, кого он считает главным подозреваемым. И тот лишь пожал плечами. Хотя один-то подозреваемый у него, конечно, имелся – однако не из числа тех, кого можно вызвать на допрос или поместить в камеру предварительного заключения.
И вот теперь, в половине девятого вечера, Скрябин собирался обсудить дело о замораживании с Ларой Рязанцевой. Как они и договаривались, она пришла к нему на квартиру. И принесла с собой черную кожаную папку с содержимым, а заодно и целую кипу собственных записей. Девушка расположилась за столом в той комнате Скрябина, которая была наполовину гостиной, наполовину библиотекой, а на коленях у неё по-хозяйски устроился Вальмон. Лара гладила его и почесывала ему за ушами, так что комната оглашалась такими звуками, будто в ней урчал мотор крохотного трактора.
– Картина, по-моему, ясная, – говорила девушка. – В Белоруссии еще с прошлого века фиксировали трагические происшествия, связанные с необъяснимым замерзанием людей – обращением их в лед. И на карте, которую ты мне передал, снежинки обозначают как раз те места, где такое происходило. А там, где нарисованы кружочки, люди видели в воздухе блуждающее зеркальце.
– Это не зеркальце, это детский мячик.
– Да, конечно же! Судя по тому, что показал этот ваш Назарьев, у Ганны был ребенок – почти наверняка внебрачный. И кто-то – скорее всего, отец мальчика, – ребенка у неё отобрал. А потом еще и оставил её замерзать в поле – с мячиком её сына в руке. Бедная Ганна! Жалко, что ты не принес этот мячик сюда! Я хотела бы на него посмотреть.