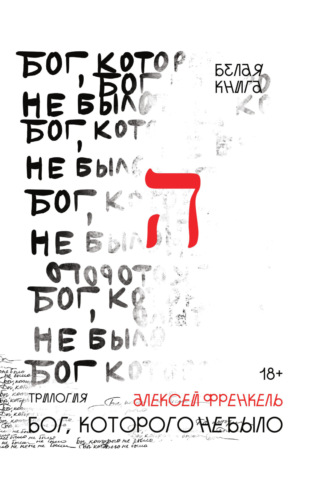
Полная версия
Бог, которого не было. Белая книга

Алексей Френкель
Бог, которого не было. Белая книга
© Френкель А. Р., текст, художественное оформление, 2022
© Иванов И., иллюстрации, 2023
© Петрова А., иллюстрации, 2023
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «Рипол классик», 2024
* * *
Oт редакции
Книги разговаривают со своими читателями. Некоторые тихо, шепотом; некоторые нежно, некоторые грубо. Какие-то книги утешают, какие-то соблазняют. Говорят, есть и такие, что вдохновляют. Это и от книги зависит, и от читателя.
Роман «Бог, которого не было» говорит многими голосами, и эти голоса можно не только услышать, но и увидеть. Если нажать на отпечаток пальца с QR-кодом, то вы можете увидеть, как текст, что вы только что прочитали, читают прекрасные актеры.


Вместо предисловия
Понедельник. 29 августа, 00:25. Ровно две стопки виски тому назад я закончил роман. А сейчас мы с моей собакой Белкой сидим на балконе, и мы немножко в ахуе. Ну, потому что ровно две стопки виски тому назад я закончил роман. Роман называется «Бог, которого не было», а виски – Macallan 18 years old Sherry oak 1997 года. Мне эту бутылку давно подарили, и этот виски ждал, когда я закончу роман. Ну, это я для своих будущих биографов сообщаю. Ну и выебываюсь, естественно. Кстати, мне нравится, как это звучит: «мои будущие биографы». Выпью-ка я за них еще стопочку. Наверное, сейчас самое неподходящее время для романа. Я не про понедельник и не про 00:25, а вообще про время. Но поделать с этим я ничего не могу. Роман – он сам выбрал, когда написаться.
Я очень долго писал этот роман. Лет семь. Или восемь. Не то чтобы я все эти семь или восемь лет сидел и писал этот роман. За это время я и виски много выпил, и сериалов пятнадцать по моим сценариям вышло, за некоторые из них даже не стыдно. С «Молью», которую я снял, мы треть мира объездили. Еще много чего. Я уж не говорю про программы на телике. Кстати, за некоторые из них тоже не стыдно. А, полные метры еще. И несколько пьес написал. А если говорить о спектакле с Розой Хайруллиной, то несколько пьес плюс еще десять пьес. Ну, с Розой вообще все по-особенному. Какие-то кусочки написанного для Розы вошли в роман. Да и вообще тот год или больше работы с великой актрисой мне очень много дал. Так что следующая стопка за тебя, Роза. Ну и Белка тебе привет передает.
Разумеется, все, чем я занимался, «мешало» роману, заставляло оставлять написание на месяцы, иногда на полгода. Но в любом случае все это время я писал этот роман. Или роман писал меня. Так даже точнее.
Ну, а три стопки виски тому назад я поставил последнюю точку. Вернее, уже четыре.
Мне просто очень страшно. За роман. Как он теперь. Даже когда дети рождались, так страшно не было. А за роман – страшно. Я в этой жизни вообще ничего не боюсь, кроме зубного врача, а за роман – боюсь. Он же теперь без меня. Сам. И чего с ним будет – непонятно. Раньше я думал, что нет более одинокого человека, чем режиссер перед премьерой. Ты уже ничего не можешь. Ну, морду умную можешь делать, а еще улыбаться. И все. Что ты мог, ты уже сделал. А какой будет премьера, какой будет жизнь твоего спектакля – от тебя уже не зависит. Это какое-то вселенское одиночество – у режиссера перед премьерой спектакля. А одиночество сейчас – еще больше. Хорошо, что со мной моя собака и виски.
Где-то год назад я давал читать написанное нескольким людям, мнению которых доверяю. Тогда была примерно половина написана. Даже меньше. Любимый продюсер сказала, что «кажется, она знакома с гением». Это даже обидно немного было. Что значит «кажется»? Мы же с ней несколько сериалов сделали. А после второго сезона «Швабры» нас вообще «в пример» ставить стали. Ну, знаете, каналы присылают свои хотелки, а там референсы хотелок. Раньше присылали: хотим «Сопрано» или там «Во все тяжкие». Только в профиль и очень дешево. Теперь некоторые пишут: хотим «Швабру». Только очень дешево и в профиль. Я не хвастаюсь, это все виски. Жаль, что написанный третий сезон «Швабры» останется буковками в моем ноуте. Он должен был быть самым крутым. Но роман – это, конечно, совсем другое. Хотя я давно и для телика пишу только то, что мне интересно. И кровью выгрыз привилегию, что редактора даже не касаются моих текстов. Ни редактора продакшенов, ни редактора каналов. Я снова не хвастаюсь. Вернее, хвастаюсь, еще точнее – выебываюсь, но это все виски.
Но роман – это совсем другое. Моя собака Белка запретила мне говорить, что этот роман больше чем я. Так что будем считать, что это не я, это все виски.
Один умный человек после прочтения первой половины романа сказал, что это похоже на медитацию. А еще один умный человек ничего не сказал, а просто приехал ко мне с бутылкой. Этот второй – он еще более умный человек, чем первый.
Одна из самых уважаемых литературных редакторов сказала мне, что я написал феноменальный текст. Она, правда, не уточнила: феноменально плохой или феноменально хороший, а я не спросил – из скромности. Скромность – это вообще мое второе имя. Но судя по многочасовым нашим разговорам после – все-таки не феноменально плохой.
Да и вообще много чего хорошего говорили. Видимо, я тщательно отбирал людей, которым давал читать. Ну, чтобы они не говорили плохого. Правда, они все равно говорили. Мол, надо бы сократить. Поэтому теперь роман в два раза больше. Ну, не только поэтому, конечно. Роман – он сам решал. Последние несколько месяцев я этот роман писал «по-настоящему». Как большой. Я ничем больше не занимался. Вставал с утра – и писал. Писал, пока сил хватало. А потом спать ложился – чтобы силы были, чтобы дальше роман писать. Ну, не ложился, а падал. И всю ночь роман мне снился. А когда я просыпался – я записывал. То, что приснилось. Думаю, что этот роман меня просто спас.
Ну, а теперь я поставил последнюю точку и сижу пью виски с моей собакой Белкой. Утром проснутся домашние, и Белка им расскажет, что я наконец-то дописал. Надеюсь, добавит, что ей понравилось. Кстати, жена первую половину читала. Ей даже понравилось. Она раз пять меня убить хотела за время чтения и раз восемь развестись. В общем, понравилось. Но без Натальи вообще бы ничего не было. Ни меня, ни романа. Так что за тебя, любимая.
В общем, вот. «Бог, которого не было». Я дописал. Пора умирать. В смысле еще выпить и лечь спать. А когда я проснусь, я позвоню маме. Ей 83, и она очень ждет этот роман. Ну, может и еще кто-то ждет. Хотелось бы.
P. S. Пост был написан 29 августа 2022 года. Тогда ни я, ни пост не знали, что он будет предисловием к роману. Даже моя собака Белка не знала. Хотя нет, Белка наверняка знала – она все знает – но мне не сказала об этом.
29.08.2023
Светлой памяти моего папы – Френкеля Рафаила Шаевича, лучшего человека на Земле
Привет.
Хотя какой тут, на хрен, привет – когда вы получите это сообщение, я буду уже мертв.
Не знаю, услышите ли вы меня вообще. Вы – это все, чей номер телефона есть в памяти моего айфона. Сто пять человек. Через четыре часа и сорок одну минуту я нажму на кнопку: разослать всем.
Бог знает, как я записан у вас в телефоне. И записан ли вообще. Так что, может быть, вы тупо получите голосовое сообщение от неизвестного абонента 8 925 170-73-10. Прослушайте его. Это не спам.
Мир – это кем-то рассказанная история. Я расскажу вам свою. Истории обладают магической силой. Услышанные – они начинают жить. Текст, который никто не прочитал, – его даже написанным считать нельзя. А Бог, в которого никто не верит, – его и Богом считать нельзя. Вот кто бы вообще узнал о тебе, если бы евреям не взбрело в голову написать Ветхий Завет? Ты – это Бог. Если ты, конечно, вообще есть.
Я пока есть, даже если я никак не записан в вашем телефоне. Но это ненадолго – я про себя, а не про список контактов.
Через четыре часа и сорок одну минуту меня убьют. Даже нет – уже через четыре часа и сорок минут.
Как вам начало? Похоже на паршивый голливудский триллер? Ну, во-первых, все это правда; а во-вторых, я очень хочу, чтобы вы дослушали мою историю до конца. Можете назвать это исповедью. Исповедь, записанная на диктофон.
Раз, два, три. Проверка. Всем привет. Это абонент номера 8 925 170-73-10, и сегодня мне исполнилось тридцать. Диктофон я включил в 19:19. Вы, может быть, подумаете, что я специально такое время выбрал, ну, симметричное. Но это не так. Это само так получилось. Сейчас на часах уже 19:20, через четыре часа и сорок минут мой день рождения закончится, и меня убьют. Ну а пока есть время – come on, перейдем эту реку вброд. Я расскажу вам о Боге, которого не было.
Интересно, как вы запишете меня в памяти своего телефона, когда прослушаете эту историю?
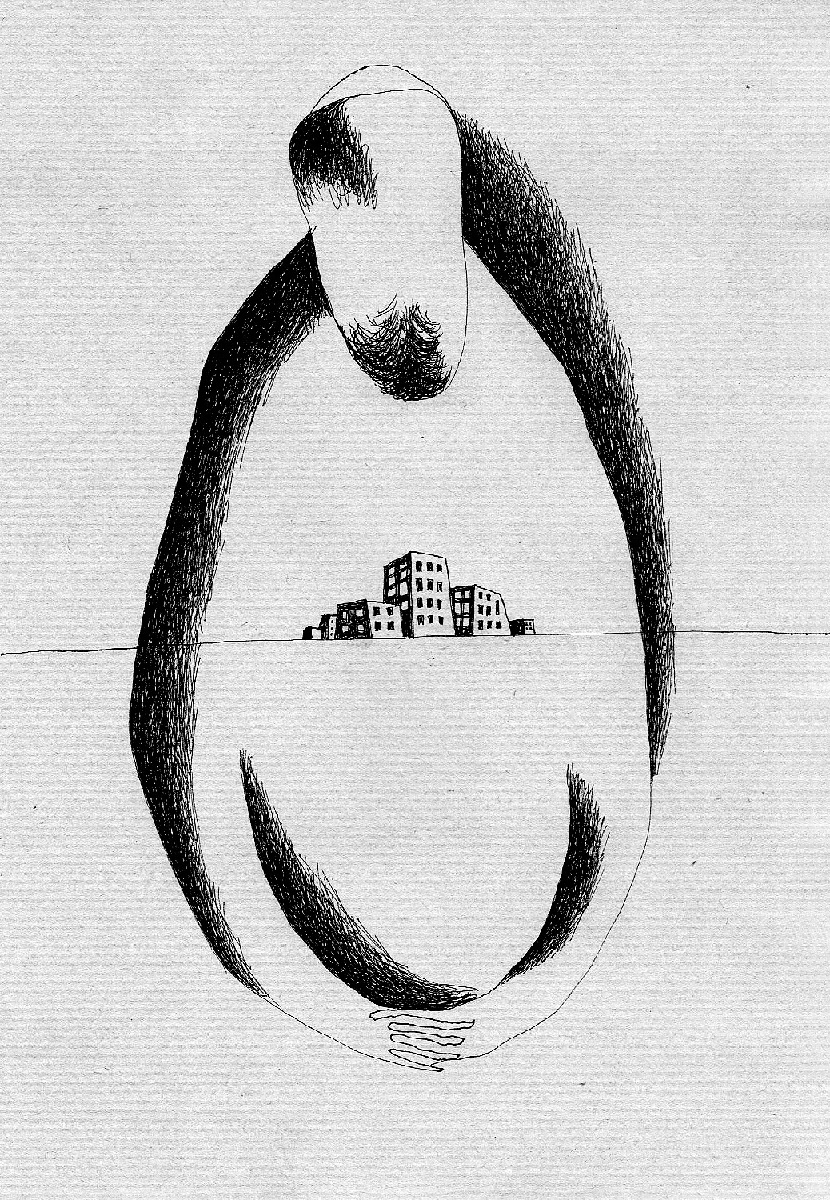
Любовь – хорошая причина, чтобы все испортить
Эта история началась, когда мне исполнилось двадцать и я был на десять лет счастливее, чем сейчас. А потом все пошло наперекосяк. Из-за любви. В конце концов, любовь – хорошая причина, чтобы все испортить. А может быть, это ты все испортил. Ты – это Бог. Ну, если ты, конечно, есть. А если ты есть, и ты, как нас уверяют, есть любовь, то один черт: все пошло наперекосяк из-за любви. Помнишь, у Янки? От вселенской любви только морды в крови. Это она про тебя. Ты – это Бог.
На часах 19:21, и стрелка с еврейским упорством продолжает наматывать круги по циферблату. Сотворенный тобой мир продолжает вращаться. Не бог весть какой мир, но вращаться он все-таки продолжает. Дюжина слонов со слоновьей грацией приплясывают на панцире гигантской черепахи; на плечах слонов лежит земная твердь, и все это нелепое сооружение продолжает вращаться. При этом и слоны и черепаха не обращают никакого внимания ни на меня, ни на часы, равнодушно отсчитывающие последние минуты моей жизни. Созданные тобой животные озабочены одним: как бы не сблевать. Вот уж действительно – не самый лучший из миров, если в основе основ его одно: не сблевать.
Интересно, а что будет через четыре часа и тридцать девять минут – когда меня убьют? Хотелось бы рок-н-ролла. Ну или твист – как в «Криминальном чтиве» у Тарантино. Ты, если ты, конечно, есть, объявишь: дамы и господа! Всемирно известный конкурс твиста, наш следующий участник – абонент номера 8 925 170-73-10.
И вот что еще важно. Я очень люблю своего папу. Но так ни разу не сказал ему об этом. Не успел. Говорю сейчас. Другой возможности у меня не будет. Осталось четыре часа и тридцать девять минут.
Падал теплый снег
Папа умер от сердечной недостаточности. Так сказал врач не успевшей к нему скорой помощи Костя Парфенов. И еще он сказал, что мы все когда-нибудь умрем. Врачи – они такие. Особенно врачи скорой помощи.
Но ведь это ты сделал так, что мы все когда-нибудь умрем. Ты – это Бог. Ты сотворил мир, где скорая помощь не успевает; а врач не успевшей скорой помощи должен что-то говорить детям, к чьим родителям в сотворенном тобой мире не успевает скорая помощь; а что может сказать врач не успевшей скорой помощи, кроме того, что мы все когда-нибудь умрем?
Сердечная недостаточность. Это у тебя недостаточность сердца. Если оно у тебя вообще есть.
Я смотрел на бабушку у гроба – ее лицо было еще более мертвым, чем лицо папы. Говорят, ты всевидящий – значит, ты это тоже видел. Но молчал. Молчала и бабушка. А через год у нее обнаружили рак.
Врач Костя Парфенов – мы с ним почти подружились после смерти папы и часто обменивались пластинками, – так вот, врач скорой помощи Костя Парфенов, который сказал, что все умрут; Костя Парфенов, истинной религией которого были Led Zeppelin, а во все остальное он не верил, – сказал мне, покачав головой: осталось только молиться. Молиться я не умел, но я молился – отчаянно, без всякой надежды, как молятся люди, точно знающие, что Бога нет.
Этому я как раз у бабушки научился. Не знаю, как это по-другому объяснить, но мы с бабушкой смотрели «Ромео и Джульетту» Дзеффирелли раз тридцать. В «Иллюзионе». Не потому, что фильм хороший. Нет. Ну то есть фильм, конечно, хороший, но смотрели мы его столько раз не из-за этого. Просто бабушка верила. Верила в то, что и Ромео, и Джульетта не могут умереть. Даже после того, как они умерли на ее глазах в двадцатый раз, она продолжала верить. И снова и снова шла смотреть. А Ромео и Джульетта снова и снова умирали. Как и говорил Костя Парфенов.
Бабушка, конечно же, знала, что это Шекспир, актеры, фильм, – но она верила. Может, это и есть истинная вера, не знаю. Может, ты скажешь, что так она верила в тебя. Но знаешь что? Ты лучше молчи, как тогда на похоронах папы.
Когда бабушка уже не могла вставать с кровати, я принес в ее комнату телевизор и видик. Ромео с Джульеттой умирали, бабушка верила, я молился.
Отче наш, я мертв, хоть жив и говорю об этом, иже еси на небеси, отпусти мне грехи, укол должен подействовать, ибо твое есть царство и сила, а губы нам для чтения молитв нужны, все мы когда-нибудь умрем, я не помню молитв, да святится имя твое, что имя? роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет; поешь хоть немного, да будет воля твоя, аминь, я не помню молитв, но, если хочешь, стихами грехи замолю, твои уста с моих весь грех снимают, да придет Царствие твое яко на небе и на земле смешалось время, смута в голове, не введи нас во искушение, а губы нам для чтения молитв нужны, все мы когда-нибудь умрем, аминь, я не помню молитв, объясни, я люблю, потому что болит, или это болит, потому что люблю? чума на оба ваших дома, верни мне мой грех, да святится имя твое, уснула, так и твердить бы век: спокойной ночи. Аминь.

В какой-то момент лекарства перестали ей помогать, и я отдал все свои пласты, включая нераспечатанный двойник Physical Graffiti цеппелинов Косте Парфенову; тот продал их на «туче» и достал более сильные болеутоляющие, и бабушка могла снова смотреть «Ромео и Джульетту» и снова верить.
А потом за дело взялась знакомая Кости – полудевочка-полуженщина с плечами Хатико. Она работала режиссером монтажа в «Останкино», и как-то раз мы встретились там втроем. Мы сидели в пельменной, «Наутилус» пел про Алена Делона – тогда «Наутилус» пел про Алена Делона даже в пельменных; я молчал; Костя молчал и ел; а она на протяжении двойной порции Костиных пельменей со сметаной рассказывала про своих бывших. Истории, в общем-то, были одинаковы: я ему всё, а он мне – хуй, и то в строго ограниченное время. Только имена мужиков были разные.
Потом Костя доел пельмени, а она заплакала и сказала: вы не подумайте, что я блядь. Просто так получается.
В общем, она знала о любви все. И при этом была классным режиссером монтажа – за две бутылки коньяка она собрала совсем другой фильм. Никто не умер. Ромео выпил не яд, а вино; Джульетта открыла глаза и увидела стоящего перед ней Ромео; они оказались в постели и любили друг друга до самых титров. Ни соловьи, ни жаворонки не мешали их любви – вместо них играл НАУ. Я же говорю: эта Костина знакомая знала о любви все.
Станцию «Телецентр» тогда еще не построили, ибо твое есть Царствие на земле и под землей, смешалось время, я бежал от «Останкино» до «ВДНХ»; падал теплый снег, пел Бутусов, и теплый снег действительно падал, падал на небе и на земле; не занимайте левую сторону эскалатора, да будет воля твоя, смута в голове, а губы нам для чтения молитв нужны; три остановки по Кольцевой, они жили здесь, они жили среди нас, уступайте места беременным женщинам и инвалидам; переход на станцию «Проспект Мира»; на другой стороне мешают ложечкой чай, да святится имя твое, их город был мал, они слышали, как осторожно двери закрываются; еще две остановки до «Белорусской», им было жарко вдвоем, не введи нас во искушение, я люблю потому, что падал теплый снег, или это болит потому, что падал теплый снег; иже еси на небеси, дети любви, не забывайте свои вещи, мы уснем в твоих мягких лапах, так и твердить бы век, спокойной ночи; переход на Замоскворецкую линию, твои уста с моих весь грех снимают, будьте взаимно вежливы, аминь; еще две остановки до «Сокола», они не были боги, откуда им знать о подозрительных вещах, про добро и зло сообщайте машинисту поезда; верни мне грех, просьба освободить вагоны, избавь нас от лукавого; они плыли по течению, падал теплый снег, они были живы, да будет воля твоя, они жили среди нас, двадцать шесть минут на небе и на земле, не считая пересадок, они жили среди нас, их город был мал, не введи нас во искушение, теплый снег, я не помню молитв.
Я опоздал. Бабушка умерла.
Дети любви, нас погубит твой мятный запах – так пел Слава Бутусов.
Все мы когда-то умрем – так говорил Костя Парфенов.
Падал теплый снег.
Придет женщина-вахтер и вырубит свет
Мы все когда-нибудь умрем, но мое «когда-нибудь» случится через четыре часа и тридцать восемь минут. Вернее, уже через четыре часа и тридцать семь с половиной минут.
История, начавшаяся десять лет назад и пошедшая наперекосяк из-за любви, закончится.
Всё, как на моем любимом концерте «Аквариума».
Москва. ГлавАПУ. Четвертое июня 1982 года. «Электрошок». Скрежет гитары Ляпина. Мистическое буйство Курёхина, Болучевского и Пономаревой. Вопли БГ[1]: «Мы никогда не станем старше». А потом пришла женщина-вахтер и отрубила свет.
Я не пошел на похороны бабушки. Не смог. Я даже на свои собственные похороны тогда не пошел бы. Сидел в нашей квартире на Соколе, которая с каждой секундой становилась все больше и больше не нашей, и смотрел на спасенных мною Ромео и Джульетту, которых бабушка уже никогда не увидит, потому что станцию «Телецентр» тогда еще не построили и мне пришлось бежать до «ВДНХ», а потом еще двадцать шесть минут на метро, не считая двух пересадок, до «Сокола». Титры.
Недалеко от «Останкино» в пельменной женщина с плечами Хатико смотрит на сидящего напротив Алена Делона. Он ест пельмени. Просит по-французски счет и уходит. Женщина плачет плечами. Всё, как у НАУ: она читала жизнь как роман, а он оказался повестью. Теплый снег перестает падать.
Я сидел в уже безнадежно не нашей квартире и смотрел рябь на экране. За окном была такая же рябь. Черно-белая рябь длиной в навсегда. Там, в навсегда, – очень холодно. Когда ты попадаешь в это навсегда – ты замерзаешь, съеживаешься, чтобы согреться, а когда это не помогает – а это не помогает, – ты деревенеешь. Одеревеневшие люди плачут черно-белой рябью. Вместе со мной в непонятно как сохранившемся на Ленинградке телефонном автомате плачет девочка с лицом Оливии Хасси – дзеффиреллевской Джульетты, – потом и она покрывается черно-белой рябью и превращается в бабушку. Бабушка не плачет, ее лицо, исцарапанное морщинами и губной помадой, улыбается сквозь рябь. Мы не боги, откуда нам знать про добро и зло? – говорит в телефон бабушка и вешает трубку. Рябь растворяется, навсегда – остается.
Хотя навсегда – слишком долгое слово. Мое навсегда закончится уже через четыре часа и тридцать семь минут. Даже меньше. Придет женщина-вахтер и вырубит свет.
В начале был Моцарт. Похмелье и Моцарт
На одном из пластов – тех, что я отдал Косте Парфенову, чтобы он достал болеутоляющее для бабушки, – была царапина. Том Уэйтс 76 года – Small Change, тот, где он впервые сменил гитару на фортепьяно. И фоно сразу набухалось. Но не я – как уверял Том. Врал наверняка. Хотя не суть. Царапина была как раз на этой вещи: The Piano Has Been Drinking (Not Me). «Мой галстук крепко спит, а ковру пора бы подстричься», – успевал пробурчать Уэйтс голосом ямщика, замерзающего в глухой степи, звукосниматель отбрасывало назад, и все начиналось сначала.
Так и меня отбрасывает к началу – когда все пошло наперекосяк. Десять лет назад я спал – крепко, как галстук Тома Уэйтса с поцарапанного Small Change. И вдруг почувствовал дрожь и скрежет. Дрожь была странная, болезненная, словно дрожал мир, но не так, как при землетрясении, а от озноба. Скрежет же был похож на голос Уэйтса, замерзающего в глухой степи. А потом зазвучал Моцарт. А может, сразу был Моцарт, а только потом дрожь и скрежет; просто вчера, которое было десять лет назад, мне исполнилось двадцать; и сегодня, в то сегодня, которое было десять лет назад, я был с похмелья, ну то есть был бы, если б я не спал; потому что, чтобы быть с похмелья, надо проснуться, а я спал и пропустил первые такты похмелья и Моцарта.
В общем, в начале – ну то есть десять лет назад – было вовсе не слово. Был Моцарт. Точнее, похмелье и Моцарт. А еще скрежет. И дрожь – как при простуде или ознобе.
Мне снилось тогда, что на черепахе – ну, на той, на которой слоны, держащие мир, пытаются не сблевать, – случился ремонт: может, плановый, профилактический; а может, наоборот – неожиданный, срочный, в мире же по-разному бывает: трещина на потолке, трещина в отношениях; морщины на обоях в углу, морщины в уголках глаз или плесень какая-то в ванной или в легких; или фоно набухалось, а ковер давно пора постричь; в общем, приехали строители в желтых касках и с двухкассетником Sharp 777, отогнали слонов в сторонку, включили кассету с Моцартом и отбойными молотками принялись долбить панцирь несчастной черепахи. Черепаха дрожит, слоны и строители матерятся, но слов не разобрать – орет Моцарт.
Пришлось проснуться: Моцартом дрожал и скрежетал мобильник, валявшийся на полу рядом с кроватью, где я лежал, свернувшись в монаду, потому что вчера десять лет назад мне исполнилось двадцать, и я был на десять лет счастливее и на тысячи сигарет лучше, чем сейчас.
Следом за мной проснулось похмелье, и мы со слонами чуть не сблевали, пытаясь понять: полдень сейчас или полночь, апрель или уже август. Потом дошло – май. Восьмое. Вчера был мой день рождения.
Я с трудом собрал свою голову в единый пазл: айфон, я, день рождения, Моцарт. Соната № 11, часть третья, Rondo alla turca. Я посмотрел сквозь похмелье и Моцарта на экран. Семь утра. Вот тогда все и началось.
Ковер давно пора подстричь
Моцарт, исторгаемый механической дрянью в семь утра, – это не Моцарт. В десять, в одиннадцать – это Моцарт, даже в девять, но в семь – нет. У меня вообще сложные отношения с этим классиком: он и бабушкина мечта сделать из меня великого пианиста основательно испортили мое детство. Звукосниматель отбрасывает меня назад: пианино набухалось. Нет, Том, было не совсем так. Вернее, совсем не так. Пианино расстроено. Бабушка тоже. Бабушка расстроена, потому что старинный «Беккер», купленный по случаю, забыл все ноты. А «Беккер» – потому что простоял на чьей-то даче больше года и забыл все ноты. Расстроенная бабушка вызвала к расстроенному «Беккеру» настройщика – Николая Иосифовича. Как ни странно, тоже Беккера.
Оба Беккера были старенькими: у Беккера-пианино отсутствовали канделябры, у Беккера-настройщика – волосы.
– Ля-бемоль мажор, блядь, – сказал Николай Иосифович, познакомившись со своим однофамильцем, а меня попросил выключить лампу дневного света над Беккером-пианино.
– Гудит си-бемолем, и этот си-бемоль сводит меня с ума, – это он уже бабушке пояснил, показывая на лампу.
А потом спросил, кивая на меня:
– Надеюсь, у деточки не абсолютный слух – с ним такая тяжелая жизнь.
Бабушка промолчала, а деточка сделал вид, что не услышал. В общем, Беккер-настройщик несколько дней колдовал над пианино и все-таки спас. Канделябры, конечно, не отросли, но звучал «Беккер» отлично. Это было первое в моей жизни фоно, я звал его «Николай Иосифович» и разучивал на нем The Piano Has Been Drinking (Not Me). Ну, это когда бабушки не было дома. А при бабушке – Моцарта. Соната № 11, часть третья, Rondo alla turca. Любимый бабушкой марш у меня никогда не получался, точнее, не получалась его фа-минорная часть. Пианино набухалось – оправдывал меня Уэйтс перед бабушкой и Моцартом.
Звукосниматель отбрасывает меня назад: мой галстук крепко спит, сплю и я, крепко, как галстук Тома Уэйтса с поцарапанного Small Change, похмелье, Моцарт, новый айфон, вчера десять лет назад был мой день рождения, и я был на десять лет счастливее, чем сейчас; пианино набухалось, я тоже, Соната № 11, часть третья, Rondo alla turca, сегодня мне исполнилось тридцать. День рождения скоро закончится, и меня убьют. За окном ночь, си-бемоль лампы дневного света сводит меня с ума, ковер давно пора подстричь, но нет времени – на часах 19:24. Осталось четыре часа и тридцать шесть минут.







