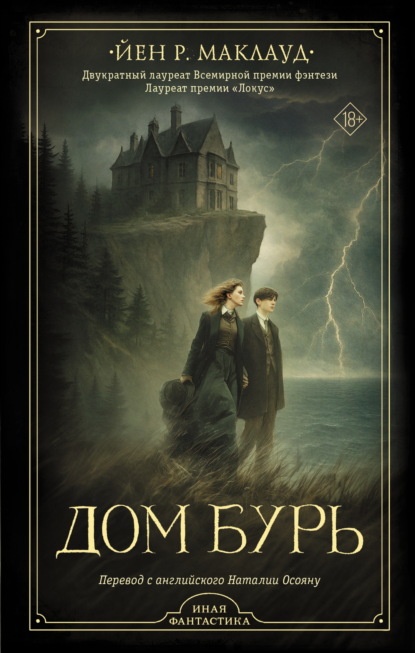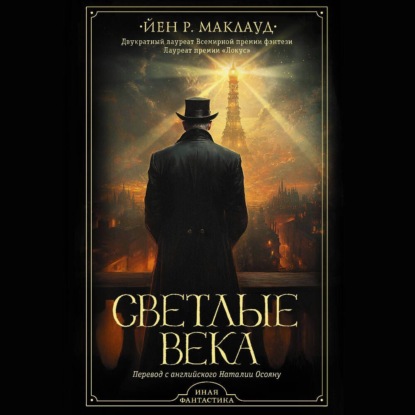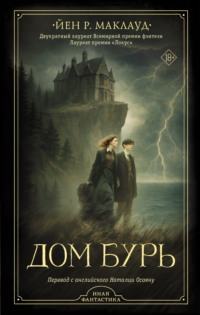Полная версия
Светлые века
Высокий силуэт колыхался, словно дым, и уворачивался от всего, что пыталось его окружить. Я перестал что-либо понимать; раздался грохот – то ли ветер разбушевался, то ли по-настоящему зарокотал гром, то ли затрещала деревянная рама подъемного окна, начав выпирать от некоего давления изнутри. Затем стекла разлетелись вдребезги. Я сидел на дереве почти вровень с окном, и на миг показалось, будто нечто в кружении осколков и белых простыней летит прямо на меня. Я мельком узрел ее – не преображенного эфиром монстра, а мою маму, ее улыбку и распростертые руки, ведь она летела, чтобы меня обнять. Затем видение сгинуло, и тело со спутанными конечностями упало, волоча за собой блистающие простыни, рухнуло на каменные ступени крыльца с отчетливым треском.
ШШШ… БУМ! ШШШ… БУМ!
Дождь перешел в ливень. Кто-то кричал. Кто-то пытался открыть входную дверь. Полицейские так мельтешили, что мастер Татлоу на их фоне казался спокойным. Бледно-розовые ручейки змеились по тропинке, устремляясь в сточную канаву. Тело на крыльце осторожно потыкали и подняли. Соседи наблюдали, сложив руки: кто со слезами или с любопытством, кто бесстрастно. Измененные конечности моей мамы падали с самодельных носилок, волочились по земле, из ее плоти торчали шипы. Я все это видел и не видел, пока неуклюже спускался с дерева и продирался через густой кустарник. Вот и обрыв – передо мною раскинулся сверкающий от дождя нижний город, над которым высился Рейнхарроу, чьи камни на вершине каким-то образом высветил солнечный луч-насмешник. Снова поднялся ветер, серый на сером; пенная кромка весеннего прибоя, бьющегося о зимние утесы. Потом из долины донесся новый звук – мучительный вой, к которому присоединялись один за другим новые голоса. Поскольку это был полусменник, фабричные гудки включились в полдень.
– Роберт! – Грандмастер Харрат воздвигся на пороге своего дома, как обычно в халате, шейном платке и с мундштуком. Я стоял под дождем. – Входи! Входи скорее! Погода сегодня мерзкая, и я подумал, ты не придешь…
В передней с меня натекла лужа. Калильные сетки источали цветочный запах, который смешивался с благоуханием одеколона, средства для полировки паркета, ароматической смеси.
– Вот, держи! – На меня надвинулось большое белое полотенце, вслед за которым семенил грандмастер Харрат. – Тебе надо обсушиться… – Я как будто погрузился в теплую перину. – Ты промок до нитки. О да, тебе абсолютно необходимо все это снять. Не сомневаюсь, мы что-то подыщем…
Но выражение моего лица заставило его умолкнуть, и в гостиной, по-прежнему истекая дождевой водой, я дождался, пока хозяин принесет многоярусные подносы с кексами, приготовленными вечно отсутствующими горничными. Затем грандмастер Харрат сел в свое любимое кресло, а я – на самый краешек своего. Потрескивал огонь в камине. Я краем глаза видел в запотевших окнах свое отражение: закутанный в белое полотенце, сижу посреди блеска дерева и латуни. Самому себе удивляясь, я хватал сладкие, нелепо изукрашенные кексы один за другим и запихивал в рот, пока не заболели щеки. Потом настало время зажечь лампы, и с поскрипыванием очередного краника с изящной резьбой усиливалось шипение и запах газа, похожий на запах увядающих цветов.
Пока мы шли по дому, за нами как будто тянулись другие грандмастера Харраты и Роберты – заблудшие тени прошлых полусменников, – а свет в лаборатории был тусклым и тяжелым, словно мокрая шерсть. Однако хозяин, гремя подносами и катушками с проволокой, не стал зажигать лампы, и я понял, что в помещении чего-то не хватает. Столы, на которых обычно проводились эксперименты, опустели. Куда подевались провода и кислоты, колыбели электрических светлячков?
– О, Роберт, пока что с этим покончено, – сказал грандмастер Харрат с наигранной веселостью. – Вчера весь день и ночь был здесь, трудился. Но все без толку… – Он немного помолчал. – Меня внезапно осадили странные мысли, странные проблемы – а еще я столкнулся с реальностью, ибо впервые осознал некоторые препятствия. Моя теория оказалась несостоятельна, и я наконец-то понял, в чем дело, – причина оказалась самой очевидной из всех, какие только можно вообразить.
Гримаса, лишь отдаленно напоминающая улыбку, исказила его лицо.
– Видишь ли, Роберт, идея сама по себе невозможная. Электрическому свету не суждено быть открытым – по крайней мере, не в Англии… Таков итог эксперимента, который мы провели в прошлый полусменник. У нас нет ничего, кроме эфира…
Грандмастер Харрат замолчал, по-прежнему глядя на меня. Его кадык двигался, шевелились желваки на скулах – в нем происходила внутренняя борьба. Наконец он задал вопрос, который не задавал уже много сменниц, хотя я нередко чувствовал, что он был на грани.
– А как нынче поживает твоя мама?
– Она умерла сегодня утром. Выбросилась из окна, когда приехал тролльщик.
Тишина накрыла нас вместе с шелестом дождя.
– Ну что за бардак! – грандмастер Харрат начал переставлять вещи с места на место, что-то откладывая в сторону. Пробки и кувшины звякали, наполняя воздух разнообразными ароматами. – Но, возможно, кое-что пригодится моей гильдии. В самом деле, негоже оставлять все это пылиться здесь…
Он повернул ручку сейфа на стене и достал позвякивающие флаконы с эфиром.
– А что делать с этим, м-м, Роберт? С этой мерзостью, которая верховодит всей нашей жизнью. – Он поставил поднос на пустой верстак. Его тень стала огромной, лицо побелело. – Эфир – это все, Роберт. Эфир – это ничто…
Всхлипнув и взмахнув рукой, грандмастер Харрат швырнул поднос на пол. Драгоценные флаконы разлетелись вдребезги, их потревоженное содержимое расплескалось по осколкам густым сиропом, растянулось по пыльному полу блестящими пальцами. Сколько двигателей можно было бы зачаровать и снабдить мощью с его помощью, гадал я, пока грандмастер Харрат стоял с нелепым видом, в тапочках посреди сияющей лужи, с брызгами вещества на брюках, каплями на лице и руках. Он окинул комнату взглядом, и его лицо, озаренное отблесками разлитого эфира, исказилось от внезапного отвращения. Он с рычанием накинулся на одну из стоявших неподалеку оплетенных бутылей с кислотой. Она недолго раскачивалась взад-вперед, словно раздумывая, упасть ли. Затем и впрямь упала, и дымящаяся струйка потекла из горлышка, смешиваясь с эфиром. События приобрели еще более поразительный оборот, когда гранмастер Харрат принялся выливать и высыпать прочие драгоценные химикаты, пока они не превратились в бурлящее пенистое месиво, над которым вились струи дыма и газа.
– Мне поручили это дело…
Он начал с места в карьер, расхаживая по разгромленной лаборатории и оставляя за собой цепочку следов, излучающих дивоблеск.
– Ты пойми, Роберт – мне поручили это дело, когда я только занял руководящий пост в «Модингли и Клотсон». Ко мне пришел некий гильдмастер. Однажды вечером выяснилось, что он ждет меня в этом самом доме – стоит в передней, даром что служанки не хотели его впускать. Я сразу понял, что это непростой человек. Как будто еще до того, как сотворили заклинание, сила той штуковины перешла к нему. Его лицо походило на… Роберт, я почему-то не могу вспомнить его лица, хотя он стоял рядом и я чувствовал запах дождя от дорогого плаща. Он произнес гильдейские слова, Роберт, он отдал секретный приказ – и я понял, что это один из тех, кто управляет мной столь же необоримо, как луна управляет приливами. И, конечно, испытал нервную дрожь, трепет. Ну да, разумеется… Неужели кто-то другой на моем месте ощутил бы нечто иное? И пусть я не смог как следует запомнить лицо, его плащ был черным, и я почувствовал запах дождя, словно этого человека принесла в мой дом сама гроза…
Мы сидели и разговаривали, Роберт, и он спокойным голосом объяснил, в чем проблема и что от меня нужно, он достал рисунки и фотографии, в которые я с трудом мог поверить, разложил на моем столе, и мы придавили их фарфоровыми собачками. Мы зажгли лампы и поговорили, он был вежлив и порядочен, как неизменно ведут себя люди, наделенные подобной властью. И я радовался, что мне доверяют.
Вокруг грандмастера Харрата клубился едкий дым. Под подошвами его тапочек хрустели осколки стекла. Он был негативом из плоти и крови, тьмой и светом одновременно.
– Конечно, я понимал, что ему не нужно было представляться или даже упоминать, из какой он гильдии. Но правда в том, что меня чересчур увлекли детали того, как можно использовать силу халцедона, чтобы тревожиться из-за правильности наших действий. Я еще не открыл ящик, а мне уже все открылось очень отчетливо – и его замысел, и то, как светящийся камень мог бы изменить Брейсбридж и, возможно, всю Англию. Мои руки прям-таки плясали над чертежами. Эти чертежи, можно сказать, рисовали сами себя, и все-таки я гордился своим вкладом. Ну что плохого в улучшении способа добычи эфира? В том, чтобы проявить себя наилучшим образом? Разве мы, гильдейцы, не обязаны действовать именно так, ради акционеров «Модингли и Клотсон»? Откуда мне было знать, что двигатели остановятся и эта штука отреагирует?
Слова грандмастера Харрата утонули в рыданиях. Его лицо блестело от слез и эфира.
– Но в глубине души, Роберт, я всегда знал, что это неправильно. Часть меня знала, а остальное – нет. Я утаил правду от самого себя. Полагаю, я мог бы спросить, бросить вызов, пожаловаться. Но кому? И зачем? В этом никогда не было подлинной необходимости – и я понятия не имел, что все произойдет так, как произошло, а потом мы столь долго будем сражаться с последствиями… Ты должен понять, Роберт. Ты должен простить меня…
Грандмастер Харрат издал сдавленный всхлип и направился ко мне, спотыкаясь. Он выглядел как силуэт ослепительной белизны. Я отшатнулся. Я почувствовал прикосновение его рук к своей груди и плечам и увернулся. Но он продолжил неуклюже двигаться вперед, натыкаясь на полки. На мгновение замер посреди тумана в центре лаборатории, покачиваясь, как человек на краю пропасти, а потом обутые в тапочки ноги подкосились и он упал на четвереньки. Ладони грандмастера Харрата заскользили по полу, и он рухнул лицом и животом в сверкающие лужи эфира и кислоты.
Он издал булькающий звук и попытался подняться. Но ладони уже дымились, лицо плавилось. Потолочные окна заливал дождь, лаборатория сияла от дивосвета, и грандмастер Харрат выл и корчился в пене. Я увидел культю, утыканную блестящими осколками эфирированного стекла. Я увидел обнаженные мышцы груди, похожие на анатомический рисунок. Он тонул, умирал. Его белоснежные кости продолжали шевелиться и дергаться, пока окружавшая их плоть распадалась.
Я кое-как добрался до стены лаборатории, двигаясь практически на ощупь, поскольку мало что видел. Над полом медленно клубились завитки светящегося тумана. К моим подошвам прилипли осколки эфирированного стекла. Моя рука, мои глаза горели. Гроза не унималась. Скользкими окровавленными пальцами я выкрутил до упора краники газовых ламп с калильными сетками. Вломился на кухню, пробежал по всем лестницам, ворвался в комнаты; я сдергивал простыни, разбрасывал украшения, снова и снова выкручивал газовые краники. Я всхлипывал, силы почти покинули мое отчасти отравленное тело, но казалось, темнота велит мне продолжать. В конце концов, запыхавшись, я увидел в передней грязные следы собственных башмаков, которые оставил, когда явился в этот дом. Я поплелся к выходу, и стоило мне выйти в ночь, спотыкаясь, как чья-та огромная, незримая рука захлопнула дверь за моей спиной.
Погруженная в дождь и тьму Улместер-стрит была пуста, и зашторенные окна не проявили любопытства к силуэту, ковылявшему в сторону нижнего города в светящейся и испорченной кислотой одежде. Потом позади меня раздался низкий, гулкий рокот, как будто гроза усилилась. Я остановился, бросил взгляд вверх по склону холма – и в тот же миг над крышами полыхнуло, вынудив клубящиеся тучи оцепенеть. Все, чем так дорожил грандмастер Харрат – шипящие газовые лампы, отблески пламени в изысканных зеркалах, дивоблеск эфира, хилые личинки электричества, – обожгло мои глаза, обернувшись мощной вспышкой, за которой последовали треск и рев, а потом каменные стены рухнули.
XI
Гроб моей матери сиял. Хорошее дерево, оплаченное гильдией – и она же оплатила каменное надгробие со свежей резьбой, занявшее свое место среди прочих в части кладбища Брейсбриджа, предназначенной для Малой гильдии инструментальщиков. Отец Фрэнсис провел свои гильдейские ритуалы, пока гроб опускали во влажную землю, и пробормотал о приеме, которого моя мать уже удостоилась на небесах, где ее ждала свобода от всех трудов и бремени обязанностей гильдейки – свобода предаваться среди прекрасных домов и пшеничных полей всем неопределенно-радостным занятиям, которые, как я не сомневался, в отсутствие привычной повседневной рутины она сочла бы пустыми и бессмысленными.
Преисполнившись ребяческой скуки по поводу затянутого мероприятия, я надул щеки и взглянул сперва на пасмурное небо, потом – на ряды домов. Церковное вино, которое я сегодня попробовал, было несвежим и кислым. Принесенные им грезы были холодными, влажными и заплесневелыми страницами непрочитанных Библий. И ничего не изменилось. В Брейсбридже никогда ничего не менялось. Покосившиеся фабричные трубы продолжали дымить. По Уитибрук-роуд прогрохотала телега, груженная пустыми бочками. Земля продолжала грохотать. Бет сражалась с порывистым ветром, грозившим сорвать с нее взятую взаймы черную шляпу. Несколько женщин, в основном соседки, плакали, хотя лица мужчин казались высеченными из камня; даже сейчас они предпочитали не выказывать эмоций. Стайка детей наблюдала за нами через низкую стену, как и я когда-то наблюдал за чужими похоронами, гадая, каково стоять перед ямой в земле. Я все еще не знал ответа на этот вопрос.
Рабочие уже расчищали фундамент дома грандмастера Харрата на Улместер-стрит по ту сторону холма, в престижной части города. Каким бы прочным ни был особняк, взрыв газа уничтожил его без надежды на восстановление. Судя по слухам, смерть грандмастера вызвала едва ли большее удивление, чем смерть моей матери, и никто не упоминал о связи между ними. Бытовое газовое освещение было редкостью в домах жителей Брейсбриджа и обычно считалось настолько ненадежным, что, знай об этом грандмастер Харрат, он наверняка отчаялся бы когда-либо убедить местных жителей в преимуществах столь странного и нового явления, как электричество. Он был не из Йоркшира. Он приехал из Лондона, так и не женился, и – хоть я сомневаюсь, что в Брейсбридже многие знали это слово – ему была свойственна некоторая манерность, как въевшийся запах одеколона или аккумуляторной кислоты. На подобном фоне тот факт, что он приглашал мальчиков к себе домой после обеда в полусменник, показался бы тривиальным, знай о нем хоть кто-нибудь. Он умер, вот и все дела. Возможно, в этот самый момент его хоронили в отдаленном склепе какой-нибудь часовни, принадлежащей великой гильдии. Поди знай. Мне было, в общем-то, плевать.
Отец Фрэнсис закончил проповедь, и люди начали расходиться, направляясь в похожий на длинный сарай зал собраний на Гроув-стрит, где их должны были угостить холодными мясными закусками и выпивкой: детям предназначалось имбирное пиво, женщинам – сладкий херес, мужчинам – крепкий коричневый эль. Я остался стоять с последними скорбящими, не желая, чтобы этот момент опустошенности заканчивался. На дальней стороне кладбища высились темные тисы, словно бдительные наблюдатели. Внезапно дерево, на котором задержался мой взгляд, изменилось и… превратилось в маленький силуэт в широкополой шляпе и мешковатом пальто. Гостья приблизилась, пробираясь между памятниками.
– Я чувствовала, что должна прийти, – сказала мистрис Саммертон, – но я знала, особенно после случившегося, что мне не следует никому показываться на глаза.
– Они, наверное, уже забыли, – ответил я. – Или забудут к тому времени, как выпьют пару стаканчиков в зале собраний.
– Тебе не следует быть таким циничным, Роберт.
Мы поглядели, как последние присутствовавшие на похоронах покидают кладбище через церковные ворота. Похоже, никто из них не обратил внимания на мистрис Саммертон и меня. Мне пришло в голову, что сейчас мы оба похожи на тисы. Мы повернули в противоположную сторону, в нижний город, где на главной площади, как и положено в шестисменник, раскинулся рынок. Мы долго молчали и просто бродили между прилавками, среди хлопающих навесов под торопливыми тучами. На мистрис Саммертон было тяжелое пальто и изящные туфли, едва ли прочнее тапочек грандмастера Харрата, но при этом куда менее грязные, чем окружающее нас изобилие башмаков и сабо. Еще на ней были красивые длинные перчатки из телячьей кожи, а очки сверкали в лучах солнца. В такой серый день, при виде старушки в подобном наряде, никто бы не усомнился, что она всего-навсего еще одна гильдейка. Эфир может работать в обе стороны; я это осознал, наблюдая за тем, как мистрис Саммертон нюхает лук-порей и щупает хлеб, проверяя на свежесть. Как и дивоблеск, он может быть ярким или темным. С его помощью можно создавать прекрасные двигатели, передавать сообщения по телеграфу и строить по всей Англии мосты, которые не рухнут. Или же он породит драконью вошь; жгучее, вонючее растение-кукушку… а также ужасного тролля, который поселится в спальне моей матери. Эфир может обернуться чем угодно. Мистрис Саммертон взяла меня за руку и повела мимо ведер с пуговицами из Дадли, гор сахара, привезенных с самих Блаженных островов, и груд пятнистых водяблок из Харманторпа, что неподалеку. Мы полюбовались засушенными ветками ивы и фонарницы в закоулке, где продавец совершил неслыханный поступок – подарил моей спутнице букетик, чтобы она приколола его к лацкану. После всего, что случилось, я с трепетом ловил каждый подобный момент.
Мы подошли к реке, мистрис Саммертон облокотилась на грубые перила моста, давшего название городу, и ветер, задувая со стороны Рейнхарроу и Пеннинских гор, пробуждал гулкое эхо под его арками, покрывал рябью бегущую воду, принося с собой опавшие листья и ветки, запах угля и грязи. Сухие лепестки букетика шевелились и шуршали.
– Хотела бы я подыскать слово получше, – проговорила она, – чем «соболезную».
– Плевать. Это бессмысленно. Все бессмысленно.
– Говори, что хочешь, Роберт, но не навреди самому себе, поверив в это.
Я сглотнул. Глаза слезились от ветра. Затем мистрис Саммертон повернулась и обняла меня. Она показалась большой, когда я зарылся лицом в кожаный запах ее пальто. Я почувствовал тепло и защиту, и на мгновение реальность растаяла. Я парил, исцеленный, в иной Англии, где была полуденная тишь, и чудеса за чудесами, и белые башни… Я отступил, изумленный тем, что по-прежнему здесь, на этом самом мосту, где ветер и река.
– Роберт, если бы мы могли сделать эту землю лучше, чем она есть, – сказала мистрис Саммертон с улыбкой, – по-твоему, за столько веков мы бы этого не сделали?
Старушка достала из кармана глиняную трубку, и я некоторое время наблюдал, как она пытается ее раскурить, повернувшись спиной к ветру, – мне часто доводилось видеть, как мужчины, возвращаясь с фабрик, делали то же самое, тратя спичку за спичкой, пока, наконец, в чаше не вспыхивал огонек. Сам вид того, как мистрис Саммертон силилась справиться с этой задачей, вызвал у меня приступ разочарования. Что же она за существо, если ей не по силам такой пустяк? Неудивительно, что она не сумела спасти мою мать.
Мы перешли мост и двинулись в путь по противоположному берегу реки, вдоль полузатопленного луга. Белые птицы, которых в Брейсбридже называли сушчайками, кружили над бурлящими водами Уити.
– Знаете, – сказал я, – в таких, как вы, я всегда верил. Зато сомневался в существовании Норталлертона. Моя мать действительно была подменышем?
– Мне не нравится это слово, Роберт. В следующий раз ты и меня так назовешь. Или ведьмой, троллем, фейри.
– Но фейри не существуют… а вы здесь.
Она улыбнулась, а затем нахмурилась под сверкающими стеклами очков, и коричневые морщины, проступая из теней, рассекли ее лицо.
– Знаешь, я даже это иной раз подвергаю сомнению. Взгляни, как здания в Брейсбридже поднимаются и опускаются, как преображаются вспаханные поля в ожидании смены времен года – и почувствуй этот пульс! Всю эту страсть, энергию и усердие! Моя жизнь расплывчата, Роберт. Я постоянно ощущаю хрупкость реальности. Она пронизывает мою плоть. В Редхаусе я чувствую себя старой собакой в пустом доме, которая рычит и лает на тени…
– Наверное, это ужасно.
– Быть может, время от времени. Но, поверь мне, несмотря ни на что, этот век лучше многих других с точки зрения того, когда стоило бы жить. Меня не закидали камнями и не сожгли – во всяком случае, пока, – и у меня есть мои маленькие развлечения…
Пока мы шли под колыхающимися деревьями по берегу быстротечной Уити, мистрис Саммертон рассказала мне о своей жизни. Она родилась, насколько могла припомнить, почти сто лет назад, в начале Нынешнего века, хотя точные обстоятельства ей были неведомы. Когда мы остановились рядом со старым деревом, она сняла очки. В сумерках займищ ее глаза казались ярче, чем когда-либо. Мягкие карие радужки пылали, а зрачки были дырами, за которыми простиралась бездонная тьма. Она даже позволила мне прикоснуться к лицу и рукам. На ощупь они были как пергамент или сухая бумага.
– Возможно, теперь, когда я стара, мой облик уже не кажется таким странным. Когда люди меня замечают, они думают, что я просто усохла от прожитых лет. Но в молодости я выглядела почти так же. На самом деле, насколько мне известно, я всегда выглядела именно так. Значит, все случилось до моего рождения или вскоре после него. У Гильдии собирателей есть для моего недуга – как и для любого другого – латинское название, и, похоже, случившаяся со мной перемена наиболее распространена – хоть слово и кажется неуместным – среди снабжающих печи Дадли углежогов из лесов, что лежат в направлении Уэльса. Не правда ли, такое ремесло не кажется связанным с эфиром? Да и с гильдиями тоже? Но факт есть факт, и любое заклинание может обернуться против заклинателя.
– Вы были всего-навсего ребенком.
– Так что, возможно, дело в моей матери. – Она помолчала. – В те дни гильдии платили хорошие деньги за таких, как я, – новых и достаточно молодых, чтобы их можно было обучить и использовать. Я слыхала, что некоторые семьи, оказавшись в отчаянном положении… устраивали несчастные случаи. Но не знаю наверняка. По крайней мере, меня не сожгли в печке и не выкинули в снег. Вероятно, стоит сказать спасибо…
Место семьи и родного очага в воспоминаниях мистрис Саммертон занимал странный дом, в котором она провела детство. По сути, он был тюрьмой, однако редкие прохожие, забредавшие в глушь, где располагалось заведение, вряд ли что-то понимали. Как ей в конце концов предстояло выяснить, дом находился на лесистой окраине великого Оксфорда и был построен в предыдущем веке специально для изучения подменышей. Особняк с решетками на окнах и засовами на дверях, потайными ходами, люками и просверленными в стенах смотровыми отверстиями к моменту прибытия мистрис Саммертон давно пустовал, и ее первыми воспоминаниями были запах сырости и приглушенное бормотание, доносившееся непонятно откуда.
– Не знаю, слышал ли ты такие теории, Роберт. Дескать, маленький подменыш, каким была я, начнет говорить на истинном эфирном языке, если останется в полном одиночестве.
В том доме за ней ухаживали надзирательницы в накрахмаленных платьях, перчатках и даже масках – из опасения, что она причинит им какой-то не поддающийся описанию вред, – но по мере того, как мистрис Саммертон взрослела, случались целые сменницы, на протяжении которых она не видела ни души. Каждое утро на ее столе появлялась еда. Загадочным образом менялось постельное белье. Как ни странно, ей казалось, что именно обычные люди владеют магией.
– Однако я и впрямь была странной и опасной, – продолжила она, – ибо моя малая сила похожа на своеобразное безумие. Меня вечно обдувают ветры невозможного – мысли, идеи, ощущения. Мелочи завораживают до одержимости, а обычные жизненные вопросы часто кажутся туманными, как дым… – Мистрис Саммертон выдержала паузу: вытряхнула пепел из погасшей трубки, погладила пальцами-прутиками испятнанную слоновую кость. Она по-прежнему была без очков, и ее глаза, когда она вновь посмотрела на меня, походили на отблески солнечного света на зимних полях. – Как же мне все это объяснить, чтобы ты понял, Роберт?
Но я понял. Я ощутил. Пока мы шли вдоль Уити, я слышал приглушенные голоса в том оксфордском узилище – они были громче, чем шум реки. По ночам мистрис Саммертон грызла остов кровати, раскачивалась, сидя на корточках, стонала и выла. Она ела пальцами, даже когда ей неоднократно приказывали так не делать, предпочитала все сырое и окровавленное и выучила непристойности, которые надзирательницы бормотали под масками.
Это была странная, невыносимая жизнь. Пока гильдейцы изучали ее через смотровые отверстия, она ощущала их воспоминания и мысли, а также слышала колокольный звон и суету города со шпилями в долине за лесом. Иногда слышала поезда, несущиеся на север, и крики извозчиков, и грохот повозок, хотя почти не понимала, что все это значит – не считая того, что это была реальная жизнь, которой ее по какой-то диковинной причине лишили. Некоторое время, даже после того, как узница научилась говорить, тюремщики хранили молчание в надежде, что она все еще может произнести какое-нибудь новое для них заклинание. Но если мистрис Саммертон озвучивала невысказанные мысли людей, ее избивали. Если она двигала что-то, не прикасаясь, ее пальцы обжигали о стекло лампы. А еще ее постоянно ощупывали и подвергали процедурам. Один мужчина все время мурлыкал что-то себе под нос, когда пускал ей кровь с помощью пиявок. Были и те, которые вручали ей карточки в конвертах, просили прочитать содержимое; привязывали ремнями к стулу перед накрытыми стеклянными колпаками перьями и гирями, веля их двигать, пока сами обсуждали, можно ли усилить дар, лишив ее зрения. Подвергаясь жестокому обращению за аналогичные спонтанные действия, она понятия не имела, чего на самом деле хотят эти люди.