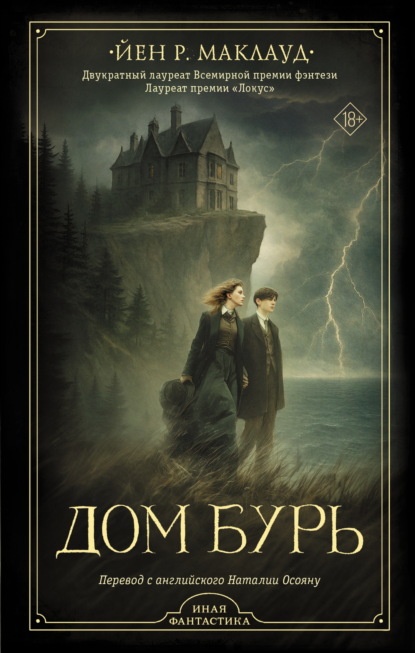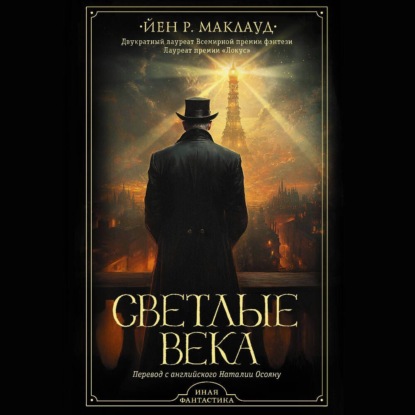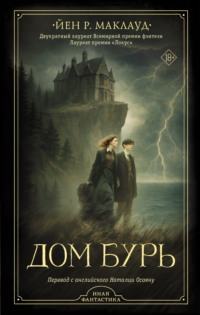Полная версия
Светлые века
– Да ладно. Все нормально.
– А еще от тебя пахнет теплыми комнатами, Роберт. – Ее ноздри затрепетали. – И вкусной едой, фруктами, камином, хорошей компанией… Почти как летом. Иди сюда.
Я медленно обошел кровать, борясь с подступающей паникой.
– Ты заглядываешь ко мне не так часто, как раньше…
Ее бледные руки взметнулись по-змеиному, и я почувствовал, как когтистые пальцы ласкают мой затылок. Их нажим был непреодолимым. Я наклонился, и меня как будто окутали слои грязного дыма.
– Ты стал чужим, Роберт. – Она притянула меня ближе, и ее голос сделался тише любого шепота. «Не позволяй всему закончиться вот так…» От нее пахло одеялами, пропитанными застарелым потом, и немытыми волосами, а еще она была очень горячей.
Разжав объятия и жестом предложив мне сесть на матрас, мама начала расспрашивать о том, что теперь называла «жизнью внизу»: справляется ли отец, ведет ли Бет хозяйство так хорошо, как утверждает. Я уставился на крупную пульсирующую вену – она выступала на мамином виске, не сближаясь с изменившимися глазами; мы пытались друг друга успокоить, и разговор складывался простым и предсказуемым образом. Я мог бы произнести все реплики мамы вместо нее. Она не нуждалась в моих ответах.
Я подергал за ниточку, торчавшую из шва на простыне. Когда-то это была хорошая ткань – наверное, свадебный подарок, – но после стольких стирок в оцинкованном тазу протерлась почти насквозь. Беспомощно взглянув на мамины пальцы, я заметил, что они испачканы в чем-то черном. Перевел взгляд на ведерко, которое Бет наполнила дешевым мелким углем – мы пользовались им, как и многие обитатели Кони-Маунда. Несколько кусочков побольше обнаружились возле камина, а на тряпичном коврике рядом с кроватью лежали россыпью крошки. Я услышал, как что-то скребется в углу, и бросил туда взгляд, рассчитывая увидеть крысу или мышь. Но тварь, исчезнувшая в щели под деревянной стенной панелью, была многоногой и с гладкой, блестящей спинкой. Драконья вошь, откормленная безумием эфира до размеров, посрамляющих любое заурядное насекомое.
– В тот день, когда… – услышал я собственный голос со стороны.
– Какой день? – мама подняла руку, чтобы тыльной стороной ладони стереть с лица воображаемое пятно. – Ты про праздник Середины лета? Помнишь, было очень жарко, и мы отправились на займища, чтобы перед открытием ярмарки посмотреть на бедного старого дракона. Ты был таким…
– Я про день в этом году, когда мы ездили на поезде, мама! Это был четырехсменник, и я увидел, как из гильдейского дома вышел какой-то мужчина. Ты на него посмотрела, и… В общем, в тот полусменник, когда я побывал в «Модингли и Клотсоне», мы с ним познакомились. Его имя грандмастер Харрат, и он состоит в одной из великих гильдий. Он все время… ну, спрашивает, как у тебя дела. Кажется, он тебя знает.
Мама на некоторое время зажмурилась, после чего покачала головой.
– Нет, Роберт. Я понятия не имею, о ком ты говоришь.
Огонь сердито плюнул искрами. Поплыл дым. У меня защипало глаза.
– Но разве мы не могли бы…
– Не могли бы что, Роберт? – это прозвучало отстраненно и зло; мама внезапно сделалась совсем не похожей на человека, которого я как будто бы знал. – Вызвать тролльщика, чтобы он увел меня в тот жуткий приют? Продать меня какой-нибудь гильдии в качестве подопытной?
– Что бы ни случилось, – сказал я, – в чем бы ни была причина, она как-то связана с тем местом. С «Модингли и Клотсон». Они должны заплатить. Или ты могла бы сбежать с мистрис Саммертон и той девочкой, Аннализой, чтобы жить с ними. Ведь все не обязательно должно идти так, как сейчас? Ты же…
Мама вздохнула. Я понял, что эту тропинку истоптали так, что земля омертвела, став каменистой и бесплодной.
– А как насчет твоего отца, Роберт? Тебе не кажется, что в нынешних обстоятельствах, если мы начнем брыкаться и возмущаться, кое-кто попросту воспользуется любым предлогом, чтобы от него избавиться? Его вышвырнут, я застряла здесь, Бет связана по рукам и ногам, а ты, Роберт, будем честны, слишком молод, чтобы от тебя был какой-нибудь толк, не считая дурацких идей. По-твоему, чем все это обернется? Что с нами в конце концов случится? Лучше бы я не брала тебя с собой в Редхаус, к Аннализе и Мисси.
Я пожал плечами, задетый ее внезапным гневом.
– Ничего нельзя изменить, – продолжила она. – Что есть, то есть. Мне жаль, Роберт. Я думала о том же, что и ты. Мы все об этом думали. Мы бы хотели, чтобы все сложилось иначе. А еще я бы хотела никогда не видеть те проклятые тенёта и камень… Но, пожалуйста, не делай глупостей – ради меня.
Голос звучал хрипло, хотя она старалась смягчить тон. Как будто мерзкий воздух ее доконал.
– Все стало таким странным… Я ненавижу себя. Ненавижу эту комнату. Ненавижу лежать здесь, на этом матрасе, в этой кровати. Да, я знаю, что ты чувствуешь ко мне, Роберт. Это…
Мама покачала головой, не в силах подобрать нужное слово, и я услышал хруст костей. Как будто она – как и все, что нас окружало, – была плодом поспешной, дешевой магии. Ритмичные движения продолжились. Задолго до того, как она угомонилась, я начал скрипеть зубами, стискивать кулаки, сжимать сфинктер, страстно желая, чтобы все закончилось.
– И я вспоминаю свои юные годы, Роберт. Как же я любила свою кровать и сны, которые она мне приносила! Иногда я вижу, какой была эта долина до того, как магию украли из камней. Возможно, глупцы из Флинтона все-таки правы. Возможно, Айнфель располагался не так уж далеко отсюда. Роберт, я теперь их почти вижу – сказочных принцев, которые проходят через эти самые стены, улыбаются и танцуют. Белозлату со свитой из единорогов и хрупких порхающих существ. Я слышу, как звенят среди деревьев отголоски ее грозного смеха…
Она склонила голову набок, как диковинная птица. Сделала медленный вдох, от которого в груди что-то захрипело и забулькало.
– Как будто другой мир окружает меня со всех сторон, Роберт. И от него отделяет лишь тончайшая завеса вредоносного воздуха. Я чувствую запах солнечного света, почти осязаю…
Ее пальцы сжались на покрывале. Разжались, снова напряглись, разжались, напряглись в знакомом ритме. Я увидел, как сухожилия скользят под почти прозрачной плотью, словно веревки.
– Да, я любила свою кровать, Роберт, когда была ребенком, – сказала мама в конце концов. – И свои сны. Моим единственным желанием было оставаться в постели вечно. Ты можешь в это поверить? Я никогда по-настоящему не хотела жить как все. Но я вечно была чем-то занята, Роберт, мне постоянно не хватало времени – то коровы, то куры. В детстве я любила свою кровать, потому что у меня не было возможности лежать в ней так долго, как я хотела. Кровать была старая, большая, из хорошей, настоящей древесины – моя собственная страна с белыми долинами и горными вершинами. Я говорила себе: вот вырасту и сделаюсь достаточно высокой, чтобы коснуться затылком изголовья, а кончиками пальцев ног дотянуться до другого конца; и тогда все это станет моим целиком и полностью. Самое смешное, что теперь я способна на такой трюк. Но уже здесь, в этой постели, и лишь с недавних пор. Хочешь посмотреть, Роберт? Хочешь увидеть, как сильно я могу растянуться?
Я попятился, чуть не упал, а мама начала отодвигать подушки и одеяла, которые аккуратно разложила Бет. Что-то треснуло, щелкнуло – кости вышли из суставов, сдвинулись, – и мамино тело удлинилось, а простыни стекли с ее плоти, как молоко с грифельной доски.
VIII
Начался отсчет дней; целый новый год маячил впереди. Было решено попытаться расчистить рельсы, огибающие Рейнхарроу и ведущие на юг, с помощью ямозверей, и мы, дети в шапочках с помпонами, собравшиеся поглазеть на то, как огромных животных с лоснящимися серыми боками и глазками, полными мерцающей древней тьмы, вытаскивают со двора на деревянных санях и волочат вверх по склону долины, покуда возовики не выбьются из сил, улюлюкали и вопили. Дневной свет медленно потускнел, и железнодорожные пути, как это часто случалось в Брейсбридже во время зимних сменниц, остались непроходимыми из-за снежных завалов. Но гильдейцы выглядели довольными – что касается детей, то мы, не чувствуя ног, уставшие, неприкаянные и замерзшие, скатились по склонам вечерних холмов, как снежки. Наступило то время суток, когда сумеречный и эфирный свет достигали некоего равновесия: только-только зажглись фонари, и весь Брейсбридж, погрузившись в их шипение и мерцание, утратил плотность и как будто завис посреди нарастающей пустоты.
В последующие дни и сменницы снега выпало еще больше, хотя он уже не был таким голубовато-белым, но испортился и потемнел от трудовой копоти нашего городка, отрезанного от мира. В школе, как только трубы разморозили, последствия наводнений устранили, а немногие имевшиеся книги развесили сушиться, словно усталых летучих мышей, я начал приобретать репутацию крутого парня по меркам учеников. «У него мамаша – тролль…» «Его мать – подменыш…» Но я научился драться с такой свирепой яростью, которая отпугивала всех, кроме самых больших и тупых.
Итак, преисполненный агрессивного упрямства, я отправился в гости к грандмастеру Харрату – ступил на чужую территорию, в обитель высшего общества, средоточие маленьких парков, статуй и местечек с видом на реку, – цапнул медный дверной молоток и без колебаний ударил им по своему темному отражению на лакированной двери, хотя отчетливо понимал, что вести себя таким образом рискованно. Однако грандмастер Харрат казался здесь в большей степени самим собой, чем в «Модингли и Клотсон» или даже в своем гильдейском доме. Он перестал играть роль, хорошо знакомую тем, кто недоволен своей работой. Он хихикал, поджимал и причмокивал губами, двигался быстро – да еще и одет был в халат, – его вышитые тапочки лихорадочно скрипели по полированному полу. Сам дом, несмотря на свою очевидную добротность и солидность, оказался безжизненным местом с некрасивыми украшениями и чучелами животных под стеклянными колпаками, которые вытирали от пыли горничные – я их ни разу не видел, они всегда уходили, поскольку в полусменник после полудня у них начинался выходной. Но самое сильное впечатление произвел запах. Он коснулся меня, когда я вошел в переднюю, и витал рядом, пока я насыпал в чай неприличное количество сахара и объедался марципановым кексом в гостиной. Отчасти это был теплый запах лоснящейся меди, отчасти – сладковатая вонь увядающих цветов. Сначала я подумал, что он исходит от газовых светильников с калильными сетками, которыми был оборудован дом, какими бы странными они мне тогда ни казались. Однако в нем чувствовалось нечто более загадочное, как далекие очертания тяжелых грозовых облаков.
– Электричество! – воскликнул мастер Харрат, вставая, оставив свой кекс недоеденным, а чай недопитым. – Оно определит наше будущее, Роберт. Позволь я тебе покажу…
В задней части дома, за огромной пустой кухней, он устроил мастерскую в длинном помещении, освещенном несколькими замшелыми потолочными окнами. Повсюду вокруг нас сверкали флаконы, баночки и линзы.
– Электричество, конечно, невидимо – и совершенно безвредно… При условии, конечно, что с ним обращаются как с летучим химическим веществом… Хотя оно, разумеется, не вещество… – Он замер, оглядывая свои многочисленные приборы, как будто сам им удивился. – Газовое освещение останется в прошлом, Роберт. Оно никогда не было безопасным, идеальным, а требования представителей высших гильдейских сословий постоянно растут. Да, это будущее, Роберт. Будущее!..
Следующая часть нашего ритуала в этот и другие послеполуденные полусменники выглядела следующим образом: грандмастер Харрат расчищал место на одном из своих верстаков, а затем, пообещав, что это займет всего несколько минут, часами бормотал и восклицал, связывал и скручивал медные провода, вытаскивал наполненные кислотой резервуары, возился с устройствами, которые казались вариациями маминого приспособления для отжима белья, только с медной обмоткой, пока запах его трудов не смешивался со всеми остальными ароматами, наполнявшими длинную комнату. В конце концов грандмастер Харрат заставлял два металлических стержня соприкоснуться.
– Электричество, Роберт, – произносил он с присвистом.
Кусочек нити накала на верстаке, зажатый в устройстве, похожем на челюсти ящерицы, ненадолго становился бледно-оранжевым и угасал, как беспокойная, почти эфирная искорка. Я, разумеется, достаточно привык к периодическим вспышкам отцовского энтузиазма, чтобы выказывать должное восхищение. Однако грандмастеру Харрату виделись дома, улицы, поселки, целые города, освещенные этим тусклым свечением.
– Представь, Роберт, если бы трамваи в Лондоне приводились в движение электричеством! Представь, если бы поезда, курсирующие между нашими городами, и двигатели, приводящие в движение наши фабрики, работали благодаря ему! Подумай, каким чистым был бы воздух! Подумай о чистоте наших рек!
Я покорно кивал.
– Мы застряли, Роберт, в эпохе пара и промышленности на целых триста лет. Где же новые достижения?
Грандмастер Харрат был в ударе. Хватало пожатия плечами, чтобы поддержать беседу.
– Я скажу тебе, где они, Роберт – вот здесь… – он постучал себя по черепу, – …и в таких мастерских, как эта, которые гильдии не осмеливаются спонсировать. Ты спросишь почему? Я отвечу! Потому что гильдии не видят ничего, кроме эфира. Он слишком упрощает жизнь. К чему прогресс, когда власть имущие и так чувствуют себя прекрасно? Однако будущее ждет нас, Роберт, за руинами растраченного прошлого. Растраченного на газ, Роберт. Растраченного на уголь и пар. Растраченного, прежде всего, на капризы и неэффективность эфира…
Подумай о нашей стране – подумай о том, как она существовала большую часть последних трехсот лет с тех пор, как грандмастер Пейнсвика сделал свое открытие. Да, мы познали прогресс, если понимать это слово именно таким образом. Мы научились использовать энергию угля, газа и пара, мы научились выпускать десять тысяч версий одной и той же жалкой штуковины на отдельно взятой фабрике. Конечно – и это самое важное, – мы научились использовать эфир. Голодают только нищие, и я слыхал, что нынче в работные дома попадают исключительно самые слабые, беспутные и невезучие. Да, у большинства есть пресная вода, а в лучших домах немногих – внутренняя канализация, и страшнейшие эпидемии почти всегда ограничиваются наиболее мрачными кварталами наших великих городов. Я мог бы сесть на поезд и через несколько часов оказаться в Дадли или Бристоле. Я мог бы отправить туда сообщение по телеграфу, и оно дойдет почти мгновенно. Но я мог сказать почти то же самое сто лет назад! Никакой это не прогресс, Роберт! Да, появились новые продукты, новые увлечения, новые стили и мода – даже иной раз новые идеи, если кто-то осмелится их опубликовать, – но все это на самом деле очередное повторение пройденного. Мы в Англии и в других так называемых развитых странах Европы окаменели, как причудливые морские существа, которых иногда находят в кусках угля, и со стойкостью камня сопротивляемся переменам. И я скажу тебе почему, Роберт – это из-за эфира. Из-за того, что мы ленивые инженеры. Если можно заставить какую-нибудь штуковину работать с помощью покрытия с дивоблеском и заклинания, к чему утруждаться усовершенствованиями, мм?..
Монологи грандмастера Харрата всегда проходили в таком ключе. Мне казалось, что он разрывался между надеждой и разочарованием – причем разочарование, как правило, побеждало. Но за всем этим я ощущал притаившуюся печаль. Я чувствовал, что однажды случилось нечто непоправимое. Какая-то рана все еще ныла, какой-то червь продолжал его терзать. И это было как-то связано со мной, Брейсбриджем, эфиром и моей матерью.
Всю ту зиму и сырую раннюю весну восемьдесят пятого года Третьего индустриального века мои блуждания по Брейсбриджу неизменно затягивались. Я как будто хотел изучить это место как следует, составить карту, прежде чем покину его. Я перелезал через покрытые заклинаниями, грязные перила моста, перекинутого через железнодорожные пути, уходившие от фабрик и сворачивающие на юг. Внизу бушевал сернистый жар локомотивов, и я размышлял, пока мимо с ритмичным лязгом проезжали вагоны-платформы – особенно предназначенные для эфира, с соломенной подстилкой, которая выглядела достаточно мягкой, чтобы смягчить падение, – когда лучше всего было бы совершить прыжок и в какие места этот прыжок мог бы меня привести.
К тому времени я часто пропускал занятия в школе; учителя смирились, поскольку все знали об ухудшающемся состоянии моей матери, и им, вероятно, было радостно, что в классе стало на одну угрюмую физиономию меньше. «Мамаша – тролль…» «Мать отправят в этот, как его, Нор-ти-тон…» Хватать яблоки и банки с политурой с прилавков на рынке в шестисменник и просто так швырять их за какую-нибудь стену, терпеть клубы горячего пара на содрогающемся мосту, курить украденные сигареты, смотреть в глаза злопсам, когда они бросались на заборы, беззаботно продираться сквозь кукушечью крапиву и обливаться потом от мучительных ночных кошмаров – моя жизнь состояла из преодоления множества маленьких, невидимых барьеров. На каждом перекрестке я взглядом искал тролльщика; не мастера Татлоу, а кого-то ужасного, высокого, в широком темном плаще, с окутанным непроглядной тьмой лицом. Я начал носить нож, но он был тупой, дешевый, неэфирированный, и вскоре сломался прямо в кармане. Я был подобен одной из нитей накала грандмастера Харрата; заряженный, готовый вспыхнуть.
IX
Грандмастер Харрат в своей длинной мастерской поднял шторы на потолочных окнах.
– Примеси, Роберт! – заявил он. – Неаккуратность! Вот с чем следует бороться… Представь себе молнию, Роберт! Я часто смотрел поверх крыш Норт-Сентрала из своей детской во время грозы и желал, чтобы молния ударила в Халлам-тауэр. И я восторгался, Роберт… да, восторгался. Я ничего не выдумываю, не сомневайся. Уже тогда я видел начало иного, Нового века. Возможно, однажды я сумею объяснить…
Я наблюдал, как он склонился над одной из больших оплетенных бутылей с кислотой, и капелька пота скатилась с его подбородка. Сегодня не было никаких результатов, как бы он ни возился с проволочками, какие бы усилия ни прилагал, сколько бы кислоты ни пролил. Впрочем, мне было все равно. Сменница за сменницей эти визиты приобретали убаюкивающую предсказуемость, и его неудачи были такой же неотъемлемой ее частью, как вкус марципана. К этому моменту я уже научился в критические моменты держаться подальше от искр, горящей резины и огромных банок с химикатами. Электричество казалось опасным и изменчивым, и если эксперименты грандмастера Харрата меня в чем-то и убедили, так это в том, что успеха ему не видать. Ну кто же захочет рисковать подобной заряженной субстанцией в своем доме, когда можно положиться на безопасность светильного газа, фонарей или свечей? В целом, однако, я с нетерпением ждал этих послеполуденных полусменников как единственной возможности сбежать от мира в обитель спокойствия.
В тот самый момент – да и в любой другой – я мог себе представить, что происходит дома. В эти последние сменницы моя мать впала в лихорадочную кому, металась и корчилась, вытаращив побелевшие глаза, ее худые конечности вытягивались и изгибались дугой, и дышала она с огромным трудом, разинув рот. Бет наверняка сейчас хлопотала над ней, чем занималась денно и нощно. Моя сестра отважно входила в комнату, полную тревожной тьмы и копошения по углам. Бет вытирала маме лицо и руки, наполняла грелки кипятком, следила за огнем в камине и разглаживала смятые простыни, сжимала эти немыслимо длинные руки, к которым никто другой не мог даже прикоснуться. Несколько ночей назад, когда я в последний раз осмелился заглянуть в спальню, мать царапала исчезающую Отметину на левом запястье. Стена над кроватью покрылась тонкими кровавыми штрихами, которые складывались в иероглифы, и Бет не удалось их полностью смыть.
– Роберт, я правда был убежден, что на этот раз мы добрались до сути, – до меня донесся голос мастера Харрата и звон склянок. – Я правда думал, что нам это удалось… Иной раз я почти задаюсь вопросом, случится ли такое когда-нибудь.
Он посмотрел на меня. В кои-то веки, похоже, ждал ответа. Его блестящая нижняя губа на мгновение задрожала, а глаза стали серьезными. Иногда он смотрел на меня вот так. К этому времени я уже догадался, что был не первым парнишкой, которого он привел к себе домой, чтобы накормить кексами и позволить наблюдать за тем, как копошится в своей лаборатории. Но было еще что-то.
Затем грандмастер Харрат кивнул, как будто пришел к какому-то окончательному выводу. Не говоря ни слова, подошел к маленькой тяжелой дверце в стене между газовыми лампами и повернул круглый градуированный переключатель. Его молчание само по себе было необычным, и я понятия не имел, чего ожидать; дверца повернулась на смазанных петлях, и комнату озарило сияние. Тени удлинились, когда он понес позвякивающий поднос к столу. Стоявшие на нем флаконы были похожи на уменьшенные версии баночек, которые я видел у женщин в покрасочном цехе «Модингли и Клотсон», но их дивоблеск был намного резче; строго говоря, не свет, а ослепительное сияние, воздействующее и на другие органы чувств. Длинная комната вспыхнула и потемнела, когда он поставил свою ношу на стол. Выглядывая из-за его локтя, я увидел на каждом флаконе маленькую печать.
– Эфир, Роберт! Конечно, мне приходится работать с ним каждый день, чтобы оплачивать этот уютный дом. Приходится врать акционерам, что я знаю достаточно о его поведении, чтобы поддерживать непревзойденную репутацию «Модингли и Клотсон» как производителя эфира высочайшей чародейской мощности. Но… я не знаю, Роберт. И не я использую его – он использует меня. Электрический свет – совсем другое дело, он основан на чистейшей, нехитрой математике. Но мы вынуждены терпеть эфир. Эта земля им пропитана. Мы все пляшем под его дудку… Возможно, такова вековечная истина, пусть я и потратил годы, пытаясь воплотить в жизнь простую и ничем не ограниченную логику физики и инженерии…
Он продолжал в том же духе еще долго и даже запыхался, вопреки своему обыкновению. Для меня, рожденного в Брейсбридже под грохот эфирных двигателей, проведенное им различие между предполагаемой логикой электричества и алогичностью эфира, было до крайности непонятным. Я-то думал, все наоборот. Эфир позволил нам укротить стихии: сделать железо тверже, сталь более упругой, а медь более податливой, строить мосты все длиннее и шире, даже передавать сообщения на большие расстояния из разума одного телеграфиста в другой. Без эфира мы и поныне оставались такими же, как воинственные, раскрашенные дикари Фулы. Однако я понимал, что сделался свидетелем кульминационного момента многочисленных битв грандмастера Харрата со стихией, которая одновременно влекла его и издевалась над ним, – свидетелем эксперимента с эфиром и с электричеством одновременно, который он так часто проводил в своих мыслях, что нынешнее фактическое выполнение смахивало на хорошо отрепетированный спектакль, как бывает с процессами, над которыми долго размышляли, и вот они воплощаются в жизнь шаг за шагом. Что до меня, то я просто смотрел на блестящие флаконы, которые он явно старался не использовать в своих экспериментах. ШШШ… БУМ! ШШШ… БУМ! Мое сердце бешено колотилось. Я никогда раньше не был близок к эфиру подобной чистоты, даже в День испытания.
– В конечном счете, Роберт, эфир прост, как самая бесхитростная сказка. Мы загадываем желание, и эфир дает нам то, что мы хотим, – но, совсем как в сказке, не всегда в том виде, который нам нужен. И все же более мощный двигатель, более острый инструмент, дешевый котел, способный выдерживать давление намного выше положенного, неоспоримое экономическое процветание, полумифические существа вроде злопсов и ямозверей, послушные нашим приказам. Он нам все это дает. А теперь… посмотрим, получится ли?
Затем он вновь занялся делом, обрезая проволоку, пинцетом закручивая новую нить накала и закрепляя ее на положенном месте между соединительными элементами. Не считая последнего моста между так называемыми «анодами» в чанах с химикатами – приподнятого медного затвора, который он не раз на моих глазах закрывал театральным жестом, но частенько без каких-либо последствий, – схема была завершена. Пробормотав что-то неразборчивое, грандмастер Харрат вскрыл один из флаконов с эфиром и сжал грушу пипетки так, чтобы по трубке поднялась светящаяся линия. Затем пипетка зависла над той частью воздушного пространства, где парила нить накала. На кончике образовалась ослепительная бусинка, дрожащая частица, которая оторвалась и упала неторопливо и легко, пренебрегая силой тяжести. Казалось, отрезки пути, а с ними и времени, увеличивались, пока фрагменты не соединились. Эфир коснулся поверхности нити накала и как будто исчез.
– Конечно, он уже знает, чего я от него хочу. Идеальной схемы… – Грандмастер Харрат невесело усмехнулся. Снова запечатал флакон, снял кожаную перчатку. Его рука дрожала, двигаясь к последнему переключателю. Я и сам трепетал. Я никогда не испытывал подобного предвкушения… И эфир подобной силы, чистоты, чародейской мощности – он и мои желания знал, даже те, которые были неведомы мне самому. Я не сомневался, что вот-вот стану свидетелем чего-то захватывающего и невиданного прежде; и вот с долгим заключительным вздохом, свидетельствующим скорее о неизбежном поражении, чем о победе, грандмастер Харрат замкнул последний мост на созданной им схеме.