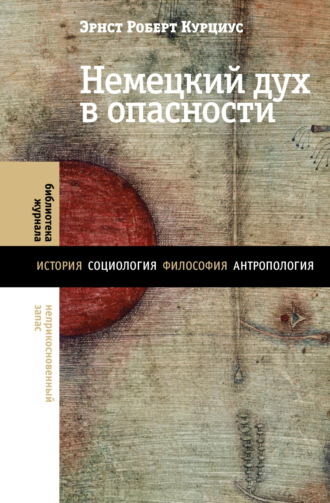
Полная версия
Немецкий дух в опасности
108
Речь идет о реконструированной системе взглядов на вопросы национального духа; систему эту Курциус – отчасти даже намеренно – не излагал в последовательном виде, поэтому опираться в какой-то степени приходится на отдельные формулы, оговорки, уточнения от разных лет. Тем не менее основные позиции, которые мы здесь изложили, сомнений не вызывают и чаще всего проговорены в текстах Курциуса многократно. Идея о духовном единстве Западной Европы вообще является центральной и ключевой во всем творчестве нашего автора.
109
В послесловии к «Немецкому духу в опасности» Курциус, говоря о незыблемой вере в дух, ссылается на средневековый гимн «Veni creator spiritus» и фактически отождествляет творческий культурно-исторический дух с духом творца, с Духом Святым. Этот теологический аспект развит в кн.: Curtius E. R. Elemente der Bildung. S. 90, 91.
110
Как мы увидим далее, название к этому времени уже было придумано; почему Курциус здесь его не упоминает – сказать сложно.
111
Цит. по: Wieckenberg E.‑P. Nachwort. S. 300.
112
Ильза Курциус (в девичестве – Гзотшнайдер; 1907–2002) – супруга Курциуса с 15 февраля 1930 года; познакомились они в Гейдельбергском университете, где Ильза Гзотшнайдер училась, а Курциус (с 1925 года, благодаря содействую Гундольфа) преподавал.
113
Рудольф Кайзер (1889–1964) – ответственный редактор литературного журнала Die neue Rundschau; с 1935 года эмигрировал в Соединенные Штаты и преподавал в Брандейском университете.
114
Густав Клиппер (1879–1963) – тогдашний генеральный директор штутгартского издательства Deutsche Verlags-Anstalt, в котором вышло несколько книг Курциуса, включая «Французский дух в новой Европе» и «Немецкий дух в опасности»; после прихода нацистов к власти Клиппер (а он издавал многих откровенных антифашистов, включая Томаса Манна) был отстранен от управления издательством и даже попал в заключение, а сама Deutsche Verlags-Anstalt вошла в состав официального партийного издательства Franz-Eher-Verlag.
115
Wieckenberg E.‑P. Nachwort. S. 300.
116
Ibid. S. 427.
117
См. изд.: Ernst Robert Curtius et l’idée d’Europe: actes du Colloque de Mulhouse et Thann des 29, 30 et 31 janvier 1992. Éd. par J. Bem, A. Guyaux. Paris: H. Champion, 1995. P. 329–392.
118
Письмо составлено на французском, название книги дается по-немецки; судя по вопросу Курциуса, название уже существовало и до этого письма.
119
Ernst Robert Curtius et l’idée d’Europe. P. 380.
120
Что тоже не вполне справедливо, поскольку на практике речь шла о непосредственном воплощении той духовно-политической программы, которую Курциус провозгласил в «Гуманизме как инициативе».
121
Thönnissen K. Ethos und Methode: zur Bestimmung von Beruf und Wesen der Metaliteratur nach Ernst Robert Curtius: [Dissertation]. Paderborn, 2000. S. 24.
122
Un état de fécondité intérieure; в терминах, связанных с плодовитостью, плодородием, плодотворностью, Курциус в немецких текстах очень часто описывает деятельность и функции духа как такового.
123
Здесь, в словах о la sécheresse, Курциус отсылает к мистическому богословию Иоанна Креста; «сухостью» в «Темной ночи» (кн. I, гл. 9, см.: Де ла Крус Х. Темная ночь / пер. Л. Винаровой. М.: Общедоступный православный университет, 2006. С. 54, 55) называется тяжелое, усердное служение своему делу, связанное с преодолением разного рода страданий; Курциус, соответственно, имеет в виду, что у него, наоборот, работа идет легко и свободно. Интерес к мистике Иоанна Креста у Курциуса можно привязать ко взаимообогащающему знакомству с Томасом Элиотом, тоже глубоко интересовавшимся этой темой; в 1949 году Курциус писал о некоторых мотивах из «Четырех квартетов», в которых также прослеживается тематика «Темной ночи» (Curtius E. R. Kritische Essays zur europäischen Literatur. S. 341).
124
Deutsch-französische Gespräche 1920–1950: la correspondance de Ernst Robert Curtius avec André Gide, Charles Du Bos et Válery Larbaud. Hrsg. von H. & J. M. Dieckmann. Frankfurt: Klostermann, 1980. S. 127.
125
Deutsch-französische Gespräche 1920–1950. S. 129.
126
Lange W.‑D. «Permets-moi de recourir une fois de plus à ta science». Ernst Robert Curtius und Jean de Menasce // «In Ihnen begegnet sich das Abendland». Bonner Vorträge zur Erinnerung an Ernst Robert Curtius / Hrsg. von W. D. Lange. Bonn: Bouvier Verlag, 1990. S. 211.
127
Позднее этот текст (с незначительными изменениями) вошел в качестве приложения в книгу «Критические эссе по европейской литературе» (Curtius E. R. Kritische Essays zur europäischen Literatur. S. 438–443). Предисловие это стало первой послевоенной публикацией Курциуса и во многом отмечено программным характером: Курциус суммирует свою критическую деятельность, обосновывает свое «историческое алиби» и поясняет переход к медиевистике.
128
Curtius E. R. Kritische Essays zur europäischen Literatur. S. 440.
129
Такая формулировка в публикации из Die Wandlung.
130
Речь идет о концепции «императорских добродетелей» (каждый правитель из римского канона «хороших императоров» и вообще прославленных viri illustres в целом увязывался с одной из сторон нравственного совершенства), которая пришла в народноязычную романскую литературу напрямую из римской традиции.
131
Curtius E. R. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. S. 9; Курциус Э. Р. Европейская литература и латинское Средневековье. Т. I. С. 76.
132
Curtius E. R. Französischer Geist im zwanzigsten Jahrhundert. Bern: Francke Verlag, 1952. S. 527.
133
Lebensbewegtheit – это понятие в более поздние годы популяризовалось через работы Мартина Хайдеггера, но встречается оно еще у Георга Зиммеля, и, скорее всего, именно через него попало в лексикон Курциуса. Контекст самого понятия Курциус поясняет так: литературной критике, чтобы стать критикой жизненной, необходимо отойти от положения пассивного читательства и высказываться с точки зрения «живого и активного человека, изъявляющего свою волю», осознающего себя как единую совокупность разнообразных сил, умеющего направлять эти силы и самому принимать их направление в «творческой подвижности жизни» (Curtius E. R. Die literarischen Wegbereiter des neuen Frankreich. S. 184).
134
Curtius E. R. Die literarischen Wegbereiter des neuen Frankreich. S. 183.
135
Curtius E. R. Die literarischen Wegbereiter des neuen Frankreich. S. 184.
136
Ср. с тем, как дух прорывается от своего национально-ограниченного состояния к божественным сферам, обобщаясь вплоть до своего метафизического первоисточника.
137
См.: Бергсон А. Творческая эволюция / пер. В. Флеровой. М.: Терра – Книжный клуб, 2001. С. 79–82.
138
См., например, суждения об élan vital из «Европейской литературы и латинского Средневековья»: Curtius E. R. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. S. 16; Курциус Э. Р. Европейская литература и латинское Средневековье. Т. I. С. 82, 83.
139
Curtius E. R. Die literarischen Wegbereiter des neuen Frankreich. S. 184.
140
Curtius E. R. Kritische Essays zur europäischen Literatur. S. 258.
141
См.: Ibid. S. 258.
142
С «Немецким духом в опасности», между прочим, их объединяет еще и крайне небольшой объем: по сути, все три работы (Шелера, Ортеги и Курциуса) представляют собой 100–170-страничные брошюры, но при этом они охватывают целые исторические эпохи, диагностируют проблемы современности и предлагают выход из сложившихся тупиков. Очевидно, компактность изложения тоже является неотъемлемой чертой «жизненной критики».
143
Эрнст Трёльч, как мы отмечали, называл понятие мировой истории пустым конструктом, скорее вредящим исторической науке. Шелер, со своей стороны, утверждает, что это понятие действительно было – изначально – искусственным обобщением национальных историй: но в Первой мировой войне оно вдруг овеществилось и осуществилось, поскольку с ее началом был запущен первый по-настоящему «мировой» процесс.
144
Scheler M. Die Ursachen des Deutschenhasses. Leipzig: Kurt Wolff, 1917. S. 8.
145
В данном случае мы выделяем именно этот аспект книги Шелера – главный для Курциуса, для понимания «Немецкого духа в опасности» – и оставляем за пределами обзора «причины ненависти» как таковые (среди которых: идеалистическая рабочая этика, см. также книгу Шелера «Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik», 1913; резкий отказ от подражания английскому образу жизни; мнимая милитаризация общества, см. также статью Шелера «Über Gesinnungs- und Zweckmilitarismus», 1913; отождествление немецких торговых представителей с немцами в целом и т. д.), поскольку в данном случае это выходит за пределы нашей темы. Отметим, впрочем, что специальную главу (Scheler M. Die Ursachen des Deutschenhasses. S. 173–187) Шелер посвящает внутригерманской реакции на внешнюю ненависть; он выделяет четыре типа реакций, каждый из которых считает разрушительным и непродуктивным: так, например, какая-то часть немецкого общества, говорит Шелер, воспринимает чужую ненависть как повод для гордости и гордыни, как свидетельство собственного величия, доказательство могущества и признание своих заслуг (здесь Шелер призывает пореже вспоминать о древнегерманском героическом идеале и почаще – о христианском: «Сердце христианского героя даже в бою и в страдании преисполнено кротостью, добротой и тайной нежностью» (Scheler M. Die Ursachen des Deutschenhasses. S. 180); еще один тип вредоносной реакции на ненависть – самобичевание: злоба, направленная извне, как будто укореняется в самом немецком духе и заставляет отдельных представителей интеллигенции провозглашать собственную нацию корнем мирового зла (здесь Шелер ссылается в качестве примера на книгу Гуго Пройса «Die Deutschen und die Politik», 1915 года); кроме того, в Швейцарии, говорит Шелер, возвысился и еще один тип реакции – попытки негерманских немцев «просвещать» и «приближать к цивилизованному миру» немцев внутри Германии: в этом Шелер усматривает, скорее, самодовольство и ложный элитаризм, чем искреннее желание вывести нацию из отверженного состояния; наконец, наиболее разрушительный и чаще всего встречающийся тип реакции – это ответная ненависть; здесь, по Шелеру, потенциально коренится главная опасность для будущего, поскольку сторонники ответной ненависти «не просто отказываются подавлять злые импульсы», но даже «сознательно прилагают волю и разум, чтобы только как можно сильнее разжечь это пламя в себе и в окружающих» (Scheler M. Die Ursachen des Deutschenhasses. S. 175) – разумеется, в какой-то момент это станет фактором одновременно разлагающим и взрывным: «Итак, давайте же отходить от четырех этих установок, и отходить как можно дальше! Нам нужно вести себя совершенно иначе, и внутри страны, и во внешних сношениях: нужно владеть собой и сдерживать аффективную ненависть; нужно, безусловно, держаться тех неисчерпаемых благ, что таит в себе немецкое существо, нужно верить – твердо, радостно, с гордостью, но без высокомерия – в высокую бесконечность того же немецкого существа; при этом не забывать о трезвой и хладнокровной самокритике, которая может и должна касаться всего немецкого во всех областях за все последние мирные годы» (Scheler M. Die Ursachen des Deutschenhasses. S. 184, 185). Если сопоставить эту программу с идейными принципами, на которых выстроен «Немецкий дух в опасности», то, как представляется, методологическая взаимосвязь веймарских работ Курциуса с социально-философскими обобщениями Шелера становится очевидной.
146
Scheler M. Die Ursachen des Deutschenhasses. S. 80–120.
147
Этим чувством, по Шелеру, проникнуты у немцев и философия, и литература, и изобразительное искусство, и сама «жизненная практика»; все конечное, оформленное, устроенное (что в бытии, что в изображении) воспринимается и проживается как случайное или вынужденное ограничение какого-то непостижимого, бесконечного движения, как своего рода «тягость», объясняющаяся недостатком, узостью человеческого восприятия. Ср. с тем, что Курциус пишет в первой редакции своей статьи «Abbau der Bildung» о соотношении «формы» французского духа с «содержанием» немецкого: Curtius E. R. Abbau der Bildung // Curtius E. R. L’abbandono della cultura / A cura di A. Genovesi. Torino: Aragno, 2010. S. 25.
148
Scheler M. Die Ursachen des Deutschenhasses. S. 97.
149
Scheler M. Die Ursachen des Deutschenhasses. S. 98.
150
См.: Scheler M. Schriften zur Soziologie und Weltanschauungslehre. S. 147–174. Курциус нигде на эту статью не ссылается, однако ее можно считать прямым дополнением к трактату о ненависти к немцам, и в этом смысле она в любом случае входит в тематический круг, тесно соприкасающийся с «Немецким духом в опасности».
151
Scheler M. Schriften zur Soziologie und Weltanschauungslehre. S. 148, 149.
152
Curtius E. R. Deutscher Geist in Gefahr. S. 35, 36.
153
Саму эту форму Шелер характеризует как «одно из наиболее отвратительных и невыносимых новонемецких словообразований» (Scheler M. Schriften zur Soziologie und Weltanschauungslehre. S. 154); раздражение у него вызывает привычка тогдашних авторов прилагать само это понятие к высшим и благороднейшим явлениям немецкого духа; die Innerlichkeit в этом смысле означает необыкновенную нравственную, эмоциональную, мистическую глубину мысли и переживания. Особое лицемерие, говорит Шелер, заключается в том, что слово Innerlichkeit не встречается у поэтов или классиков-идеалистов: оно неожиданно прорывается только в позднейшие времена, когда Германия целиком перешла к «материализму и идеям внешней выгоды» (Scheler M. Schriften zur Soziologie und Weltanschauungslehre. S. 156).
154
Ibid. S. 155.
155
Ibid. S. 155, 156.
156
Ibid. S. 156, 157.
157
Ibid. S. 155.
158
Ibid. S. 157, 158.
159
Здесь можно вспомнить еще и о знаковой статье Юлиуса Штенцеля, филолога-антифашиста, пытавшегося в конце 1920‑х – начале 1930‑х годов бороться с засильем нацистской пропаганды в немецких университетах, – «Гуманизм и опасности современного мышления» (1928) (Stenzel J. Die Gefahren modernen Denkens und der Humanismus // Die Antike. Zeitschrift für Kunst und Kultur des klassischen Altertums. 1928. Bd. IV. S. 42–65). Штенцель тоже указывает на проблему безмерного индивидуализма «внутренней жизни» и называет гуманистическое образование единственным ответом на это «современное зло».
160
Scheler M. Schriften zur Soziologie und Weltanschauungslehre. S. 159.
161
Такое понятие встречается у него в «Причинах ненависти к немцам»; там же сказано, что «чувство внутреннего гетто» составляет первейшую опасность для всей немецкой духовной жизни (Scheler M. Die Ursachen des Deutschenhasses. S. 117).
162
Термином Innerlichkeit Курциус в «Немецком духе» не пользуется, зато он неоднократно говорит об изоляционизме и партикуляризме немецкого духа, а также об обратной стороне его глубины и непостижимости – иррационализме и накоплении «досознательного». Кроме того, Курциус подробно рассуждает о молодежи и ее решительном отходе от классико-гуманистических идеалов в пользу политизации и революционизма; очевидно, что это явление также следует рассматривать как реакцию на абсолютную инертность целого сословия псевдогуманитариев, перешедших ко «внутренней жизни» с ее забвением и безразличием; в 1924 году Курциус называет причиной немецкого гуманитарного упадка «…бурно у нас произросший индивидуализм, равно как и разные виды партикуляризма: региональный, конфессиональный, классово-культурный, мировоззренческий» (Curtius E. R. Kritische Essays zur europäischen Literatur. S. 258). Ср. также с уже процитированным фрагментом из статьи «Духовная миссия Гофмансталя»: главными негативными тенденциями немецкой мысли Курциус называет «бегство от мира, бегство от реальности, бегство от общества, стремление к одиночеству и погружению в себя»; оборот «Einsamkeit des eigenen Innern», опять же, возвращает к шелеровскому понятийному кругу.
163
Curtius E. R. Deutscher Geist in Gefahr. S. 93, 94.
164
Называя погружение в себя «ложным» (eine falsche Innerlichkeit), Курциус как бы примиряет две точки зрения на само это понятие: с одной стороны, как следует заключить, существует «подлинная» Innerlichkeit (о ней говорят в связи с Майстером Экхартом и другими столпами общенемецкой духовности), а с другой – «ложная», искаженная (именно от нее исходят те духовные опасности, о которых говорил Шелер).
165
Curtius E. R. Kritische Essays zur europäischen Literatur. S. 258.
166
Этот фрагмент касается уже не только «Бесхребетной Испании», но и еще одной небольшой ортеговской книги – «El tema de nuestro tiempo» (1923); в 1928 году вышел немецкий перевод этой книги, и в это издание вошла в качестве предисловия вторая часть «Испанских перспектив» Курциуса; представление о «местонахождении» истины тоже можно в какой-то степени возвести к немецкой школе историзма, тем более что Курциус отдельно подчеркивает глубокие познания Ортеги в том, что касается немецкой мысли того времени: «Мало кто из иностранцев столь же хорошо знаком с достижениями наших историков и философов, мало кто следит за ними столь же пристально, как Ортега» (Curtius E. R. Kritische Essays zur europäischen Literatur. S. 249, 250).
167
Curtius E. R. Kritische Essays zur europäischen Literatur. S. 263, 264.
168
См. об этом подробнее: Колчигин Д. Фигура и действительность. Книга в поиске своего предмета: предисл. пер. // Ауэрбах Э. Историческая топология. М.: ЯСК, 2022. С. 20–62.
169
Кроме того, в поисках «хронических» и «топических» истин можно, наверное, усмотреть историческую перекличку с будущей теорией хронотопа у Михаила Бахтина; о параллелях между тремя представлениями об устойчивых литературных схемах (исторической топикой у Курциуса, теорией реализма у Ауэрбаха и теорией хронотопа у Бахтина) см. работу Кристофа Бека: Beck C. Geschichtsphilosophie als Provokation: Curtius, Auerbach, Bachtin: [Dissertation]. Potsdam, 2016.
170
Подробно об этом см.: Wieckenberg E.‑P. Nachwort. S. 221–235, 387–400.
171
См.: Wieckenberg E.‑P. Nachwort. S. 402.
172
Это не помешало некоторым библиографам указать на «третье издание» курциусовского «Немецкого духа», относящееся к 1933 году (см., например: Reiss H. Ernst Robert Curtius (1886–1956): Some Reflections on the Occasion of the Fortieth Anniversary of His Death // The Modern Language Review. 1996. Vol. 91. № 3. P. 651).
173
Приведенные в ст.: Wieckenberg E.‑P. Nachwort. S. 224, 301.
174
Wieckenberg E.‑P. Nachwort. S. 301.
175
Схожим образом в «Европейской литературе и латинском Средневековье» Курциус выносит в начало книги сразу десять эпиграфов и называет этот раздел «руководящими принципами» для всей работы. Об их значении см.: Колчигин Д. Комментарии. С. 289–296.
176
Как отмечается в ст.: Wieckenberg E.‑P. Nachwort. S. 427.
177
Вергилиевское слово imperium к Германии XX века подходит, может быть, больше, чем к Трое как городу-государству.
178
То же касается и эпиграфа к IV главе; в некоторых вариантах, впрочем, этот вопросительный знак фигурирует и в тексте самой эклоги – в том оксфордском издании, однако же, которое Курциус очень любил, о котором писал и на которое ссылался, слова о варваре, завладевшем посевами, не имеют вопросительной интонации (см.: P. Vergili Maronis Opera. Virgil, with an introduction and notes / Ed. by T. K. Papillon, A. E. Haigh. Vol. I. Oxford: Clarendon Press, 1892. P. 3). Эпиграф к третьей главе – лишь часть вергилиевской фразы (далее сказано еще, что Юпитер, сделавший земледельчество тяжелой работой, заставил человеческий род вспахивать угодья, понуждая их голодом; Курциус, со своей стороны, говорит о том, что интеллектуального голода у тогдашнего немецкого студента заметно поубавилось, так что, соответственно, эту часть аналогии уже можно не проводить), однако у Курциуса эпиграф завершается твердо, одной точкой. В таком виде, пожалуй, стих Вергилия превращается в «жизненное правило», гному, ср.: Curtius E. R. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern: Francke Verlag, 1948. S. 65, 66; Курциус Э. Р. Европейская литература и латинское Средневековье. Т. I. С. 143.
179
Curtius E. R. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. S. 195; Курциус Э. Р. Европейская литература и латинское Средневековье. Т. I. С. 305.
180
См. также: Козлов С. Эрнст Роберт Курциус и его opus magnum. С. 35.
181
Именно на нее Курциус ссылается в неопубликованном предисловии к неосуществленному послевоенному изданию «Немецкого духа в опасности»: с нее начинается итоговый сборник «Критических эссе» 1950 года; стоит отметить, что во вступительном слове к этому сборнику (оно датировано Пасхой 1950 года) Курциус говорит, что статью о Вергилии он написал по настоянию Макса Рихнера и добавляет к этому: «Сегодня о Вергилии я сказал бы уже не так, как в 1930‑м»; в нашем случае это замечание тем более ценно, поскольку на его примере можно подтвердить факт постепенной перемены методики Курциуса, самого способа высказывания о проблеме (о Вергилии в поздние годы Курциус сказал бы «не так», но не «не то») – кроме того, хронологическая близость этой работы к «Немецкому духу в опасности» позволяет в этом свете напрямую сопоставлять две этих работы. Заметим, что в предисловии к послевоенному изданию «Немецкого духа» Курциус прямо ссылается на статью «Вергилий», несмотря даже на произошедшие к тому времени идейные перемены.
182
Curtius E. R. Kritische Essays zur europäischen Literatur. S. 14.
183
Ibid.
184
Ibid.
185
Курциус всегда с иронией относился к юбилейному чествованию и, вероятно, именно поэтому специально оговаривает, что эту статью для Neue Schweizer Rundschau его настоятельно убедил написать Рихнер.






