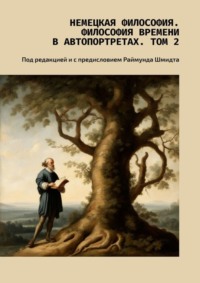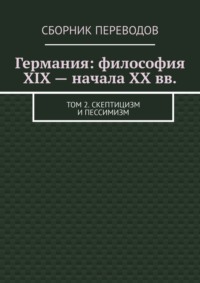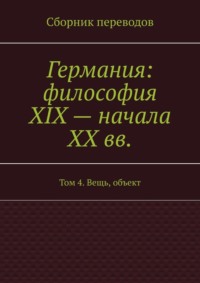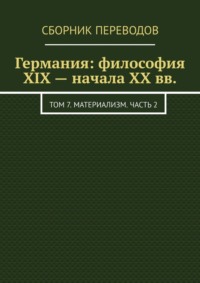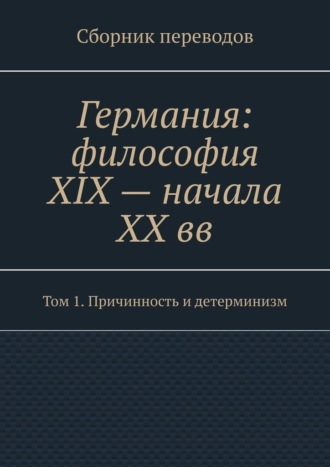
Полная версия
Германия: философия XIX – начала XX вв. Сборник переводов. Том 1. Причинность и детерминизм
Юлиус Кафтан оказал на мое мышление еще большее влияние, чем Шюте, своим трудом «Сущность христианской религии». Только благодаря этой работе я пришел к правильному пониманию значения исторической жизни и особенностей морального и религиозного знания. Поэтому соответствующие рассуждения в моем заключении ссылаются на него и могут претендовать на самостоятельность лишь в ограниченной степени. Именно Кафтан впервые обратил мое внимание на работу Шюте. Как только работа появилась, в «Schärersche Theologische Literaturzeitung» (1-й год, 1877, стр. 596f) была опубликована очень теплая рекомендация книги из его рук. Что касается отношения его собственной, более крупной и несравненно более важной работы к работе Шюте, то можно, пожалуй, кратко сказать, что Шюте расчистил путь для кафтанского взгляда на историческую жизнь и устранил препятствия, стоявшие на пути его принятия и признания.
Введение
Факты и мысли – вот два компонента, из которых складывается наука. Сегодня мы согласны с тем, что мысли должны руководствоваться фактами и соответствовать им, что они ни в коем случае не должны совершать насилия над фактами. Но мы все еще далеки от понимания того, что мыслям можно приписать ценность, которая не зависит от фактов и выходит за их пределы. Именно это понимание мы и попытаемся донести до вас в нижеследующем анализе. Факт – это самое высокое, чего мы можем достичь при любых обстоятельствах. Это высказывание Бауманна лаконично и точно выражает квинтэссенцию данной работы.
Вопрос в том, что мы понимаем под фактами. Вкратце можно сказать так: факты – это опыт, который мы сами или другие люди пережили. Когда мы слышим слово «опыт», мы обычно думаем о восприятии, которое мы производим с помощью наших органов чувств. Но есть и такой опыт, в котором наши органы чувств не участвуют. Это опыт определенной деятельности нашего разума. Они так же важны, как и восприятия, потому что на них основаны понятия и законы числа. Мы используем слова, чтобы передать пережитый опыт, и, если необходимо, объясняем слова другими словами. Чтобы это не привело к процессу in infinitum, должны существовать слова, значение которых мы можем прояснить без помощи других слов. Такие слова действительно есть. Это слова для обозначения восприятий, на объекты которых мы можем указать, для обозначения чувств, которые выражаются в нашей мимике определенным образом, для обозначения действий, которые мы можем имитировать. Есть лишь несколько слов, которые можно объяснить подобным образом, особенно мало слов, обозначающих чувства или процессы нашей внутренней жизни, которые «составляют полную и, безусловно, самую ценную половину нашего языка». Тем не менее, в конечном счете, мы должны каким-то образом привести все остальные слова к этим нескольким словам, если мы хотим общаться о них. Конечно, понимание процессов нашей внутренней жизни, достигнутое таким образом, является крайне неадекватным, поскольку для их объяснения мы просто зависим от обычно весьма неопределенных выражений, которые их сопровождают, или от сравнений с процессами из внешнего мира. Тем не менее, комбинируя эти слова, мы можем прийти к примерно корректной передаче нашего опыта.
Первой инстанцией против нашего утверждения о том, что мыслям нельзя приписать никакой самостоятельной ценности помимо фактов, являются общие понятия. Общие понятия суммируют несколько отдельных вещей, которые мы воспринимаем, в один класс. Существование таких общих понятий никто не отрицает. Но логики ошибаются, когда утверждают, что только классы, соответствующие общим понятиям, а не отдельные вещи, которые мы воспринимаем, могут быть определены.
Под определением мы понимаем совокупность идей, которые название вещи вызывает у человека, который ее знает. Не имеет значения, известна ли эта вещь, как и отдельные вещи, нескольким людям или, как и классы, многим. Мы должны различать естественные и искусственные классы. О последних мы можем составить мысленное представление; они являются species infimae [низшим видом классификации – wp] логиков. Общие понятия, соответствующие этим классам, содержат общие характеристики отдельных вещей, обобщенных в них ясно и определенно, подклассы же этих классов неясны и размыты. Поэтому они дают не больше, а меньше, чем представления об отдельных вещах. Искусственные классы обобщают несколько естественных классов на основе признака, общего для этих классов. Слово «животное» обозначает такой класс. Мы можем составить представление об отдельном животном, например, о ньюфаундленде, но не о животном вообще. Слово «животное» означает дышащее существо. Но мы не можем представить себе дыхание без какого-либо отдельного существа, которое дышит. Таким образом, общий термин «животное» отсылает нас к отдельным вещам, которые он охватывает, и именно в этом отнесении к отдельным вещам, а не в провозглашении атрибута, присущего им всем, заключается его действительная функция. Поэтому мы часто забываем об атрибуте, о котором сообщает нам имя, и произвольно распространяем его на классы, которые этим атрибутом не обладают. Именно так мы поступаем, например, с именем «животное». В любом случае, мы не можем представить себе общий признак без отдельных вещей, которые, как предполагается, обладают этим признаком, и только представляя себе эти отдельные вещи, образующие искусственный класс, общее понятие последнего приобретает для нас смысл. Несомненно, общие понятия, по крайней мере, искусственных классов, обязаны своим происхождением деятельности мышления, но они не имеют никакого значения вне фактов или опыта, который мы или другие имели. Мы называем эту деятельность мышления по отношению к фактам или опыту разумом.
Одним из продуктов этого разума, безусловно, является понятие вещи или субстанции. Шюте определяет вещь или субстанцию как сумму зрительных представлений, которые впервые возникают в нас при каждом восприятии вещи и сохраняются в течение этого восприятия. По его словам, понятие атрибута, входящего в понятие вещи, обозначает представление, которое мы имеем о вещи только при определенных обстоятельствах. Очевидно, что эти объяснения призваны указать нам на происхождение этих понятий. Но как бы ни объяснять эти понятия и их происхождение, они не могут быть использованы против нашего утверждения, что мыслям нельзя приписывать никакого значения помимо фактов. Для этого они вызывают слишком много возражений и слишком много трудностей.
Иначе обстоит дело с понятием причинно-следственной связи, которое также, несомненно, является продуктом разума. Это понятие, в частности, будет использовано как оружие против нашего утверждения, и, похоже, с полным основанием. Возможно, однако, нам не будут противоречить, если мы скажем: «Нигде связь между причиной и следствием на самом деле не стоит того, чтобы ее знать. Это лишь форма, в которую мы облекаем наш опыт, чтобы иметь возможность использовать его в будущем. Действительная реализация процесса, знание, которое стоит знать, всегда заключается в конкретных фактах, которые облекаются в эту форму». 11
Наше понятие причины изначально является составным понятием, взятым из нашей внутренней жизни, которое объединяет в единое целое три момента: волю, усилие и изменение. В применении к вещам это понятие с течением времени претерпевает различные трансформации в соответствии с природой вещей. Но нас больше не касается это популярное в логической науке понятие причины. Это не что иное, как весьма изменчивая, часто неясная и расплывчатая, и в любом случае научно необоснованная метафора. Научно обоснованной является только следующая концепция причины: причина – это возникновение или, что то же самое, восприятие, которое разум устанавливает на основе опыта как признак возникновения другого возникновения. Подобно тому, как мы различаем естественные и искусственные классы, мы также различаем естественные и искусственные причины. Под естественной причиной мы понимаем явление, которое действительно предшествует другому явлению, причиной которого оно должно быть; под искусственной причиной мы понимаем атрибут, который связывает между собой множество действительно предшествующих явлений и может таким образом служить сокращенным выражением и средством запоминания отдельных предшествующих явлений. Таким образом, функция искусственных причин та же, что и у искусственных классов. 12
Понятия вещи и атрибута, как и понятия причины и следствия, – это всегда факты или переживания, которые были у нас или у других людей, но эти факты или переживания связаны мыслью или разумом как вещи и атрибуты или как причины и следствия. Эта связь осуществляется посредством атрибутивных и каузальных суждений. Поскольку эти суждения не просто выражают опыт, принадлежащий прошлому как таковому, будь то в форме прошлого (Я нашел мальчика больным) или в форме настоящего (Я вижу летящую птицу), но выражают факт без этой вторичной связи (Мальчик болен, Птица летит), они связаны с ожиданием аналогичного опыта в будущем.
Чтобы жить в этом мире, мы должны подготовиться к предстоящим событиям. Мы делаем это, устанавливая одно восприятие как признак наступления другого, независимо от того, является ли это другое атрибутом или эффектом первого, и ожидая второе каждый раз, когда происходит первое восприятие. Таким образом, мы должны питать такие ожидания на основе имеющегося у нас опыта. Но правы ли мы в своих ожиданиях на следующий момент – об этом мы, строго говоря, ничего не знаем. Закон Милля о равномерности хода природы, согласно которому одни и те же предшествующие явления должны порождать одни и те же последующие, не имеет смысла просто потому, что в мире, как он есть, полностью идентичные явления никогда не повторяются. Определенной гарантией правильности наших ожиданий служит тот факт, что человечество существует на нашей планете уже давно, а значит, смогло подготовиться к грядущим событиям и действительно оказалось право в своих ожиданиях. Но это не мешает в следующее мгновение произойти полному перевороту всех условий нашей планеты, который обманет все ожидания человека и сделает его неспособным к дальнейшему существованию; в целом же его ожидания, несмотря на их неопределенность, должны быть достаточными и адекватными для жизни; это ни в коем случае не доказывает, что мы обладаем неким знанием, выходящим за рамки фактов или опыта, который был у нас или у других. Наши ожидания, несомненно, выходят за рамки этого опыта. Они простираются в будущее, тогда как наш опыт относится к прошлому. Мы должны дорожить этими ожиданиями, и они также достаточны для человеческой жизни, пока она длится. Но они не дают никакого определенного знания.
Строго говоря, ожидания – это даже не убеждения, а лишь склонности к убеждениям, которые становятся настоящими убеждениями только тогда, когда мы снова видим вещь или причину, атрибут или эффект которой мы ожидаем. Путем индукции мы получаем суждения, с которыми связаны ожидания; они образуют верхние пропозиции наших силлогизмов, нижние пропозиции которых представляют нам случай, к которому мы применяем эти суждения в заключительной пропозиции и превращаем связанную с ними тенденцию к убеждению в реальное убеждение. Согласно нашему представлению об отношении фактов и мыслей, индукции, восходящие к общему, конечно, не могут дать нового знания, помимо того, которое уже было получено. В силлогизме или дедукции мы исходим из суждений, полученных путем индукции, и применяем их к конкретным случаям. Мышление общего здесь поступает на службу частному и индивидуальному. Оно не имеет значения, которое каким-то образом выходит за пределы последнего, а скорее подчинено ему, как средство достижения цели. Поэтому мы можем получить новые знания с помощью силлогизма и дедукции. Это особенно относится к Миллю и его последователям, которые ошибочно боготворят индукцию и возвышают ее за счет дедукции.
Итак, попытавшись обосновать наше утверждение о том, что мысли не имеют значения вне фактов, рассмотрев наши общие понятия, понятия вещи и атрибута, причины и следствия, атрибутивных и причинных суждений, индукции и дедукции, нам остается опровергнуть самое важное возражение, которое могут выдвинуть против него оппоненты. Они спросят: разве не существует необходимых истин, разве законы рассуждения и законы математики не являются такими необходимыми истинами, и разве необходимые истины не имеют значения за пределами фактов и опыта, которые мы имеем? Мы должны ответить на этот вопрос, отрицая существование необходимых истин.
Во-первых, что касается законов мышления, то мы уже говорили о законе причинности, законе Милля о равномерности хода природы, что он не может найти применения в мире, как он есть. Закон тождества, к которому легко восходят законы противоречия и исключенного третьего, строго говоря, совершенно немыслим. Если мы каким-то образом не различаем понятия, которые соединяем в суждении (A есть A), то мы вообще не можем мыслить их вместе в суждении. Конечно, можно сказать, что в суждении мы мыслим и тождества, и различия. Так происходит, например, когда мы утверждаем: собака, которую я видел вчера, такая же, как и та, которую я вижу сейчас. Но это утверждение – простое выражение имеющегося у нас опыта, и если бы мы хотели выразить себя в соответствии с законом тождества, то должны были бы сказать: собака, которую я вижу, – это та собака, которую я вижу. И на самом деле ни один человек так не говорит. Никто не будет сомневаться, что такое предложение истинно, но оно совершенно бессмысленно. В определениях и так называемых аналитических суждениях в предикате выражается либо только одна характеристика, либо сумма характеристик субъекта. В последнем случае также не может быть и речи о тождестве, поскольку в воображении субъекта характеристики образуют целое, отличное от суммы. Шюте однажды предполагает, что в случае с определениями мы можем, конечно, говорить о применении закона тождества в более мягком смысле. Таким образом, закон тождества в строгом смысле слова совершенно немыслим и, как и закон причинности, даже если он верен, не имеет смысла. Но с законами математики дело обстоит иначе: они не являются ни ложными, ни бессмысленными. Что касается геометрических аксиом, то они подтверждают себя на наших глазах (пусть даже приблизительно, поскольку мы никогда не видим идеально прямых линий и т. д.) в таком огромном количестве случаев, что опыт должен был бы убедить нас в их правильности, если бы мы не были в них убеждены. Поэтому было бы неразумно, если бы мы не рассматривали опыт как источник этих убеждений, а искали бы какое-то другое их происхождение. Если геометрические аксиомы берут свое начало в сенсорном опыте, то числа и законы чисел берут свое начало в опыте, который мы имеем от деятельности нашего разума. Понятие числа предполагает сознание различий, которые мы делаем в целом, а число есть не что иное, как представление о целом в соответствии с теми различиями, которые мы в нем сделали. Опыт того, что мы разными способами приходим к одному и тому же результату, что, например, разделение целого на четыре части и две части снова приходит к одному и тому же, дает законы числа». Шюте считает вероятным, что все люди, достигшие в своем развитии определенных понятий числа, согласны и с законами числа, соответствующими этим понятиям. Но это согласие он выводит из того факта, что все люди имеют одинаковую организацию. Трудность представить себе изменение этих законов заключается, по его мнению, в том, что они являются именно законами нашей собственной деятельности.
Попытавшись опровергнуть предположение о необходимых истинах, мы проложили путь к точному определению термина «истина». Под истиной в обычном и естественном смысле этого слова мы понимаем двойное соответствие, сначала между словами и мыслями говорящего, а затем между его мыслями и опытом, который он сам или кто-то другой пережил. Мы можем игнорировать первое соответствие в понятии истины и рассматривать только второе. Сама суть истины всегда заключается в выражении опыта, который был у нас или у других, независимо от того, является ли это выражение просто ментальным или языковым. Таким образом, в этом понятии все зависит от опыта. Конечно, мы не можем сказать, что опыт всех людей одинаков. Даже восприятие через органы чувств у разных людей очень отличается. Внутренний опыт разных людей отличается еще больше. Тем не менее, мы можем общаться друг с другом о наших переживаниях с помощью языка, как это уже было описано. И результатом этого общения является то, что все люди хотя бы в общих чертах согласны с тем, что они пережили. Помимо различных переживаний отдельных людей, существует базовый набор переживаний, который мы можем описать как общее достояние всех людей, насколько мы их знаем.
Но даже если между людьми существует приблизительное согласие относительно их опыта, мы не можем сделать опыт всех людей стандартом мира. Поэтому опыт не может быть последним, что мы рассматриваем в концепции истины, поскольку истинность самого опыта все еще остается под вопросом. Это возражение против нашей концепции истины подводит нас к самой сути нашего основного взгляда на отношения между мыслями и фактами. Мы никак не можем выйти мыслями за пределы фактов, или, что то же самое, разум никак не может оправдать опыт. Мир, которым мы занимаемся, – это именно наш мир; мы не можем ничего знать о мире самом по себе в соответствии с его понятием. Речь всегда идет о мире наших переживаний, и эти переживания несут в себе свою определенность и несомненность, свою так называемую необходимость. Если же мы ссылаемся на иллюзии чувств, то забываем, что это, в конце концов, опыт, в котором ошибка может быть только распознана и исправлена. В частности, мы не имеем права выходить за пределы мира опыта и противопоставлять этот мир причин миру опыта. С помощью терминов «причина» и «следствие» мы, конечно, можем связать два пережитых нами опыта, но мы никогда не сможем прийти к тому, что вообще не может быть пережито, независимо от того, называется ли это нечто вещью-в-себе, душой или Богом. Как мы видели, причина может быть понята только как появление, то есть переживание, которое мы распознаем как признак появления другого появления. И если мы все же выходим за пределы нашего опыта и противопоставляем наш опыт такому миру вещей-в-себе (естественно, воображая и мысля их и тем самым лишая их бытия-в-себе), то это – и это кажется мне прежде всего решающим – нисколько не изменяет нашего инстинкта познания и знания; решающими для человека являются только факты или опыт, который мы сами или другие имели. Все рассуждения о мире вещей сами по себе не имеют отношения к научной деятельности человечества, пока оно придерживается фактов и опыта, т. е. остается подлинно научным. Эти спекуляции – всего лишь попытки обосновать и объяснить опыт и, следовательно, выходят за его пределы. До тех пор пока они хотят быть таковыми и не собираются каким-либо образом переделывать факты и опыт, мы можем оставаться совершенно нейтральными по отношению к ним. Мы можем, руководствуясь обыденным сознанием, противопоставить мир причин нашему миру опыта, или, как Лейбниц, установить заранее стабилизированную гармонию между двумя мирами и отрицать все причины, кроме одной, а именно Бога, или, как идеалисты, отрицать все различия между двумя мирами и рассматривать внутренний и внешний миры как две стороны одной и той же вещи. Пока наш взгляд на вещи не оказывает никакого влияния на факты и опыт и оставляет их нетронутыми, против него нечего сказать; но он остается вечно недоказуемым и недоказуемым по той простой причине, что является изобретением разума, который выходит за пределы своего естественного предела – опыта.
Но не является ли наш взгляд на отношения между мыслью и фактами, между разумом и опытом способом взгляда на вещи, который оставляет факты и опыт нетронутыми, но который, будучи изобретением разума, выходящим за пределы своего естественного предела – опыта, должен оставаться вечно недоказанным и недоказуемым? Мы так не считаем. Напротив, такой взгляд представляется нам с необходимостью вытекающим из вполне определенного и твердо установленного факта. Этим фактом является изменчивость человеческого разума, чему история человечества предлагает самые разнообразные доказательства на всех своих страницах. Общим для всех людей является определенный базовый запас опыта и фактов, а также то, что они познают одинаковым образом, а именно через чувственное восприятие, свое или чужое, и через внутренний опыт. Понимание этого легко достигается, или, скорее, оно присутствует с самого начала, как только что-то признается как опыт или факт. То, что выходит за рамки этого, – продукты мысли, которые в разное время и у разных народов различны и часто носят характер произвола. Это относится прежде всего к общим понятиям искусственных классов и, возможно, в еще большей степени к искусственным причинам, полученным путем индукции. Однако особенно ярко проявляется изменчивость понятия причины и произвольность понятия вещи. Познавательная ценность всех этих образований равна нулю и не может быть больше в силу их изменчивости и произвольности.
Но совсем иначе, чем познавательная ценность, выглядит их значение для практических целей человеческой жизни. И здесь становится совершенно ясно, что подлинная цель всех этих образований – вовсе не познание, а именно содействие собственному благополучию и благополучию вида, или, как можно кратко сказать, жизни. Человек должен приспосабливать себя к своему опыту, к своим условиям и обстоятельствам, приводить себя в гармонию с ними, он должен приспосабливаться к своему миру, чтобы сохранять и развивать свою жизнь и жизнь своего вида. Поэтому он устанавливает одно переживание как знак наступления другого и таким образом готовится к предстоящим явлениям; поэтому он рассматривает составное восприятие или группу восприятий иногда как единую вещь, иногда как множество вещей; поэтому он объединяет свои переживания, по мере того как они становятся все более многочисленными и разнообразными, в искусственные классы с помощью общих понятий и в искусственные причины с помощью индукций. Разум, таким образом, во всех этих образованиях находится на службе и под властью целей жизни. Его цель не в том, чтобы расширять и увеличивать знания, а в том, чтобы сделать жизнь как можно более безопасной и приятной.
Поэтому мы повторяем, что все эти продукты мысли не имеют познавательной ценности. На самом деле это должно быть понятно. Ибо как общие понятия искусственных классов и понятия искусственных причин имеют для нас смысл и значение лишь постольку, поскольку они относятся к тому конкретному, что они обобщают, и постольку, поскольку мы используем это конкретное для них, так и понятия «вещь» и «атрибут», «причина и следствие» являются лишь формами, в которые мы облекаем наш опыт, и ничего не добавляют к содержанию нашего познания. Именно переживания имеют значение, они составляют все содержание нашего познания.
Но где же тогда честь хваленого прагматизма историка, который ставит своей задачей исследование причинно-следственных связей? Мы узнаем эти причинно-следственные связи либо непосредственно из опыта других людей по их сообщениям, либо косвенно, путем умозаключений. Неудивительно, что мы считаем связи, которые мы кропотливо умозаключили путем размышлений, более ценными, чем те, которые мы узнаем непосредственно из сообщений, но не поэтому эти умозаключенные связи по своей сути более ценны, чем те, которые мы узнаем непосредственно. Шюте убедительно показывает, что и почему при установлении причинно-следственных связей мы предпочитаем сделать причиной скрытый и труднодоступный атрибут, а не очевидный и легко узнаваемый, и что нас никоим образом не побуждает к этому предпочтению сам вопрос. Поэтому объективно скрытые и трудноуловимые причины никак не могут быть более ценными, чем очевидные и легко узнаваемые. Прагматизм объединяет ряд сходных явлений, в которых он предполагает действительно общий признак, и таким образом создает искусственный класс или искусственную причину. Отдельные явления составляют не только необходимое условие, но и единственное мерило ценности этих искусственных классов и причин. В истории также нельзя приписывать мыслям никакой самостоятельной ценности, помимо фактов.
Мы подошли к концу наших вступительных замечаний. Они призваны обозначить цель последующих исследований. Разумеется, они не могут составлять нечто большее, чем программа этих исследований; и, по мнению редактора, последующие исследования не могут быть чем-то большим, чем программой для последующей работы над всеобъемлющей темой, которой они посвящены. О том, что некоторые слабые стороны этих исследований не остались незамеченными, свидетельствуют приведенные во введении рассуждения о понятии вещи, о законе тождества, о законах числа. Доказательство изменчивости человеческого разума, которое здесь пытаются доказать в связи с отдельными данными последующих исследований, было бы лучше дать на основе фактов сравнительной лингвистики. Основное внимание во введении уделено строгому разделению опыта и разума, которое часто упускается в последующих исследованиях. Цель этих исследований – опровергнуть философский рационализм. Для того чтобы полностью достичь этой цели, необходимо детальное рассмотрение логики в тесном соответствии с системой индуктивной и дедуктивной логики Милля. Милль должен быть усовершенствован в соответствии с язвительной и меткой критикой, которую дает ему Шюте, но в то же время он должен быть дополнен за пределами Шюте. Помимо признания фактов и далеко не только их, для людей важно еще кое-что. Это другое – ценностное суждение. Моральное и религиозное знание формируется в связи с ценностным суждением; оно основано на ценностном суждении. Всю свою жизнь человек руководствуется идеей высшего блага, каким бы оно ни было. Эта идея является главной движущей силой его действий, сознательно или бессознательно; ценность действия оценивается в соответствии с ней; оценка ценности в соответствии с идеей высшего блага становится мотивом действия. Таким образом, ценностное суждение приобретает значение, превосходящее все остальное. Чтобы узнать ценностные суждения людей, мы должны изучить историческую жизнь человечества. Там мы узнаем, что отдельные люди и целые народы считали желанной целью или высшим благом. Только историческая жизнь может научить нас тому, насколько ценностные суждения обоснованы или нет. История – это место происхождения ценностных суждений; история также предлагает доказательство истинности того или иного ценностного суждения. Но эта истина совсем иного рода, чем та, которую мы имеем в виду, признавая факты. Кроме того, историческая жизнь человечества очень разнообразна и многогранна, совсем не похожа на более или менее однообразные события природы. Теперь наши общие понятия и суждения приспособлены к однородным явлениям природы именно в силу их общности. Поэтому при их применении к исторической жизни необходимы определенные оговорки, чтобы не нанести ущерба фактам. Мы видим, что ценностные суждения открывают совершенно новую и своеобразную область познания истины. Поэтому целостная логика должна втянуть в круг своего рассмотрения и ценностные суждения, посвятив им подробное обсуждение.