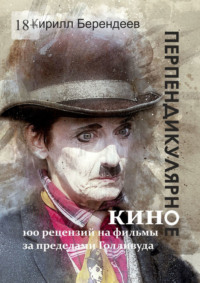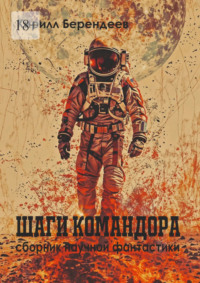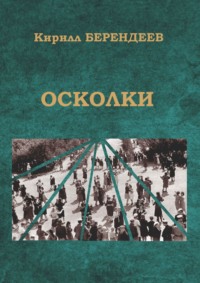Полная версия
Не судьба
Все случилось так быстро, как это и обычно происходило в последние годы. Впрочем, большинство подобной ротации не заметило, директору в прошлом году стукнуло шестьдесят три, давно пора на пенсию. Ковальчук на его фоне и вовсе выглядел пацаном, ему недавно исполнилось сорок восемь.
О нем с Олей я смог поговорить только вечером восьмого, когда еще о перестановке знали только в руководстве «Асбеста». Да и разговор вышел какой-то не такой, она устала, сперва только отмахивалась и лишь когда я спросил насчет шахт, несколько удивилась. Треп директора солнышко не слышала, на все майские поехала к родным, снова без меня. Почему-то не рискнула представить своего жениха. Не хотела сглазить или боялась их мнения? Даже не могу сказать определенно – в самом деле, Олина душа для меня по-прежнему оставалась под завесой мрака.
Я еще сказал, мол, негоже столько времени не знакомить, она отшутилась, извиняясь за свою внезапную робость, мол, время не пришло, в отпуск встретимся как следует, я тогда всех соберу, а пока пусть лучше проверим друг друга – в недолгой разлуке.
– Новые шахты? – Оля удивилась, – Нет, не слышала. Странно, у нас пласт вширь заканчивается, разведка говорит: недра вокруг опустели, один слабый уголь, будем больше порожняка вырабатывать, себестоимость вырастет. Вроде все пробурили, все изведали, пласты истончаются, только вглубь идти. Ничего не понимаю.
– Я думал, ты в курсе. Ты же говорила…
– Я про один наш разрез говорила, вот там можно еще долго ковыряться, но только уголь станет дороже. Зачем директору это ляпать, я не понимаю, любая проверка выведет на чистую воду эту хитрость.
– Может, они и копать ничего не будут, просто заявление на будущее. Тут же московские власти.
– Вот тем более глупость. Не знаю, кто это придумал, но если что – надо все разузнать, – ее глаза снова загорелись, знакомым огнем полыхнув. – Любопытная история, вот только непонятно, кому она на руку.
– А если будут копать?
– Значит, данные ложны или ошибочны, хотя как можно ошибиться, если даже со спутника видно…. Вот тем паче надо копать.
– Оль, погоди копать. Мы ж договорились про Ковальчука, ты его сперва добей.
– Не буду его добивать, меня посадят и надолго. Но может главный инженер со всем этим связан, он же генератор идей всех махинаций на нашем предприятии. И кстати, все равно его зацеплю, он ведь должен был подписывать постановление о результатах разведки. Интересно, что получил.
– А мне интересно…
– Зая, я всем занимаюсь, поверь мне. И не надо переживать, тут приходится не одну шахту закладывать, чтоб разузнать, что там, под поверхностью и как глубоко ушли. Все, как в рудном деле.
– Из тебя знатный рудознатец выходит.
– Льстец, – улыбнулась она. – Я еще почти ничего толком не раскопала. Вот только, что к предприятию очень тесно примазался Абызов, начальник сортировочной, если ты не в курсе. Я еще пока не разузнала, каким он боком и за что навар получает, но конечно, дознаюсь.
– Даже не думаю сомневаться, – кивнул я. Хотя, если честно, рассчитывал совсем на иное. Но Ольгу не переубедить, по опыту, пусть и недолгому, знал. Теперь будет идти к Ковальчуку и его заемным делишкам кружными путями, долго, трудно, и не факт, что до конца года доберется. Но я уже знал, хватка у нее титановая, не отпустит.
Глава 10
День Победы встретили вместе, тихо, по-семейному. Да и то, у нас с Михалычем давно уже установились эдакие приятельские отношения, какие редко в какой коммуналке случаются. Друг от друга ничего не таили, не скрывались, под одеялом дефицит не жрали, прям как в армии. Это его тогдашняя шутка. Я все думал, интересно, как бы у нас сложились отношения с прежней жиличкой, но Михалыч о ней всегда отзывался тепло, правда, до крайности неохотно. Будто в тягость ему подобные разговоры. Что только подтачивало мое любопытство. Впрочем, много чего от дворника я не узнал, и со временем начал успокаиваться, а когда комната вновь открылась, впуская новую постоялицу, и вовсе запамятовал о Пелагее Силовне, чудное ее имя у меня даже как-то из головы выветрилось. Спохватился, лишь когда Михалыч сам помянул ее, разлив по пять капель водки каждому из своего заказа. Сказав едва слышно, каким хорошим человеком она была, как помогала всем и каждому – и тогда, в годы оккупации, и вот, до последнего. И замолчал. Будто ожидал чего-то. Мы тоже молчали. Наконец, Михалыч не выдержал.
– Все жду, когда вы самое главное спросите.
– Ты о чем?
– Будто не понимаешь. В самом деле, моя мать с фрицем встречалась или сказки. Ну должен же я в святой праздник покаяться, сказать, мол так и так, действительно с фрицем, Вальтером Ляйе, лейтенантом вермахта, как раз, когда город перешел в руки немецко-фашистских оккупантов. Я ведь декабрьский, семимесячный родился, все знают.
За столом установилось молчание. Я не знал, что и ответить на такую откровенность. Наконец, Ольга коснулась его руки, крепко сжимающей граненый стакан, из тех, что в просторечии называют «аршинами» за их удивительную способность делить пузырь на троих.
– Не надо, Михалыч, не говори ничего. Ведь не было, мы знаем, все знают. Просто…
– Непросто это, детонька, – холодно ответил тот. – Непросто, когда из года в год одно и тоже слышу. Когда уж вроде успокоились, а вот в день Победы обязательно надо кольнуть. Будто враг какой. Я не помню этого, я ведь тогда младенцем еще был, до пяти лет вообще ничего, никакой памяти, так что иной раз сомневаешься, а вдруг матушка и впрямь согрешила с Вальтером Ляйе, молодым лейтенантом, остановившимся в нашем доме на постой перед марш-броском на восток. Всем тогда страшно было, все хотели избежать смерти, все пытались выжить, все по-разному. Кто-то, как Пелагея Силовна, сразу ушла в партизаны, ну у нее другого пути не осталось, она сама… неважно, – перебил он себя. – Все пытались, на то и оккупация. Я ж не говорю, что Чистяков кормился на фрицев и помогал им коммунистов да помощников партизан в городе выискивать, – потому как не знаю, и не видел. А если и видел, что я младенец, помню? А молчат. И что тот же Чистяков после войны – он ведь энкавэдэшник – в состав следственной группы по поиску предателей родины первый вошел. Сколько у нас тут чистили частым гребнем…. – и вздохнул коротко.
– У меня оба дедушки погибли на фронте, – немедленно перевела разговор в другую плоскость Ольга. – Один здесь на окраине города, как раз как повестку получил, в первом же бою. Восемнадцать только исполнилось и сразу призвали. Конечно не пошел, побежал, вместе со своими однокашниками, рад был, еще бы, вроде очкарик, вроде худой после голода тридцатых, его тогда еле откачали, а раз прислали, значит, достоин.
– А другой? – спросил Михалыч, поглядывая на меня. Я молчал.
– Другой, по папе, на Зееловских высотах погиб. Три недели до победы не дожил. Три недели. Бабушке похоронка вместе с салютом пришла. Так с тех пор и поминаем.
Она не договорила. Снова пауза. Все смотрели на меня. А я…
– У Артура дед тоже служил, правда, в СМЕРШе. В Первом Белорусском. Его при взятии Минска подстрелили…
– Зая! Ну какое это отношение имеет. Я могла бы сказать, что вот у Ковальчука, нашего главного, отец в штрафбате оказался, его как в тридцать восьмом взяли, впаяли пятнашку и потом, отправили под Сталинград живым щитом. Твой шеф при чем здесь, про тебя хотим узнать. Про твоих родных.
– У меня… про маму я ничего сказать не могу, она умерла рано и разговоров не заводила. Я и не спрашивал, не знаю, почему. Нет, знаю, просто у отца… у него родители в тыловом обеспечении в Казахстане работали. Их туда перевезли вместе с частями, они там сперва солдат комплектовали, которые Москву защищать ехали, потом…, а потом просто депортированных размещали. Так и познакомились.
– Не понял, – произнес Михалыч.
– Отец майор РККА, мать работала по снабжению, по хлопку. Познакомились в Стерлитамаке, туда часть перевезли, когда начали депортированных чеченцев и ингушей размещать, – я помолчал, поглядел на сидевших за одним столом. – Знаю, не то это. Но вот так и было. Сбежали от фронта, оба, дед, говорят, только в пятьдесят седьмом вернулся. А то все охранял. Нечем гордиться, – я развел руками. – Нечем.
– А другие родичи.
– Дядья отцовы? Да я не знаю о них ничего. Как с отцом разругался, как отрезало. Знаю, что кто-то на лесоповале работал, мальчишкой еще, но кто и когда – не помню.
– Можно ж спросить?
– Можно. Только не ответит. Мы с техникума друг другу строчки не написали. Хотя почему строчки, он же на Шишкаревской живет, в самом центре. В нашей старой квартире. Не съехал, поди, никуда.
– Что же ты так, с отцом-то, зая?
Я только головой помотал. Снова вязкая тишина. Только где-то на улице заиграла гармонь. Тихо так, на пределе слышимости. Что-то военное, никак мотив уловить не мог.
Оля спохватилась.
– Ну что же мы сидим, давайте хоть музыку какую включим. Может, по телевизору что?
– Нет, оставь, – дворник сидел ближе всех к старенькому «Шилялису». – Не люблю парады и все такое… официальное. Натерпелся. Лучше патефон мой достаньте, у меня пластинки есть.
– Я сама спеть могу, – вдруг вызвалась Оля. – Михалыч, ты можешь инструмент достать. У тебя вроде…
– Она расстроенная, гитара-то. И семиструнка.
– Я попробую.
Никогда не спрашивал, никогда не говорила, что умеет не только петь, пусть и немного не попадая в ноты, пусть слабым, ломавшимся голосом, но играть на гитаре, тихонько перебирая струны, чуть слышно побрякивавшие о гриф, когда ее пальцы прижимали металл не там, где следует. Оля спела «Темную ночь», старательно подражая Бернесу, потом «Десятый наш десантный батальон», потом начала «Ночь коротка», но сбилась, после чего ее немедля перебил и Михалыч.
– Давайте лучше еще по пять, за всех, кто не дожил. За родных, друзей и защитников наших.
Он наплескал в граненые шкалики и поставил опустевшую чекушку под стол. Выпили, закусили шпротами. Все же странный заказ выдали ему: четверть «Столичной», пачку гречки, шпроты, круг ливера, две банки тушенки, банку сгущенки и жестяной кругляш леденцов – наверное, для детей, коих у Михалыча так и не случилось. И карточку с изображением политрука, поднимающего роту в атаку – кажется, самая известная фотография военных лет. Что в ней написал ЖЭК или горком, он так и не показал, сразу, по получении от письмоносицы коробки, убрал в карман рубашки, да так и не доставал.
Посидели еще, повспоминали. Я себя чувствовал не в своей тарелке: и ляпнул не то, и не так, и зачем-то шефа вспомнил, будто нарочно пытался помешать молчаливому празднику. Потом еще про своих… но и вправду не выбирал, а лгать не хотелось. Хотя про отца мог бы смолчать, ни к чему это сейчас, совсем напрасно.
Михалыч предложил почать портвейн, Ольга решила, что пора бы перейти к чаю. Торта достать не удалось, но ей в заказе дали пакетик трюфелей, с ними и пили. Удивительно, но в этот раз, на этой работе, и я получил свой паек, пусть небольшой, но добротный: палку сырокопченой «Московской» колбасы, безвкусный азербайджанский коньяк о трех звездах, коробку бабаевской помадки, соленые огурчики и от щедрот полкруга «Гауды» с пластиковыми циферками, впечатавшимися в мякоть. Сейчас, когда их было так много, я сообразил, что они означают дату изготовления и наверное, номер партии, просто раньше никогда не получал такой отрез.
Ольга все равно меня переплюнула – одним только балыком и запеченным карбонадом, не говоря уже о забытых в далеком детстве конфетах московской фабрики, у нас их с начала восьмидесятых не видели. Впрочем, показывать все, принесенное с работы вчера, она не стала, раз сама собирала на стол, показала только то, что сочла нужным. А сейчас, когда чай допит и конфетница опустела, снова решила спеть. На этот раз Михалыч спорить не стал, молча выслушал «Бери шинель, пошли домой». Но до конца не выдержал, когда она выводила строки «Вставай, вставай, однополчанин», поднялся и молча ушел к себе. Оля повернулась ко мне:
– Ты сегодня какой-то не такой. Неужели нельзя было…
– Прости. Я сам знаю, что не то ляпал…
– Я не об этом. Не о твоих родичах. Неужели не мог поддержать Михалыча, он вот сейчас пошел к себе и наверное, опять пить будет. Бутылку взял… ну да, прихватил. А ты мог бы мне помочь.
– Как?
– Да как угодно. Знаю, праздник непростой, все равно приходится пить, но ты же видишь, знаешь, я не умею утешать, да, вот не умею, не знаю, как лучше и что сказать. А у тебя получается. Сходи к нему. Договорились?
Я кивнул. Она поцеловала в щеку, прижалась. Лишь чуть мы посидели, обнявшись, потом Оля отстранилась, стала убирать посуду, кивнула мне: сходи. Я подошел к ней, стал напрашиваться на другое, но она оказалась непреклонной. Пришлось выйти и поскрестись к Михалычу. Тот открыл.
Бутылка стояла непочатой на столе, кажется, он просто лежал на кровати, а сейчас поднялся, встречая гостя – с красным лицом, смятыми, растрепанными волосами. Парадную рубашку с синими цветочками он снял, остался в майке-алкоголичке и молча смотрел на меня. Потом спросил:
– Не дала, выходит?
Я кивнул. И тут же, во избежание новых вопросов, опережая их, спросил сам:
– А кто такой этот Вальтер Ляйе? Ты его поминал час назад.
Михалыч пристально посмотрел на меня. Потом сел на кровать и хлопнул по продавленному креслу напротив стола.
– Садись, – вздохнул. – Просто хороший человек. Или еще что-то надо сказать? Выпьешь?
– Нет. Просто расскажи.
Он посмотрел на меня, потом в окно, снова на меня и на дверь.
– Странно мы с тобой жили. Да, конечно, соседи по коммуналке, привет-привет, куда еще. А вроде и делились чем-то, вместе отмечали праздники. Друг про друга ничего не знаем, только то, что есть. Никогда не рассказывали, ни ты, ни я. Вот только она появилась, порядки поменяла, – «она», это, понятно, Ольга. – И то не до конца. Вы с ней тоже в бирюльки все играетесь. Уж давно расписались бы. А как будто боитесь. Не знаю, чего.
Я молчал. Михалыч долго смотрел в сторону двери, потом продолжил с новой строки:
– Ладно, ваше право. Сходитесь, расходитесь.
– Честно, не понимаю, почему тебя это так волнует, – не выдержал я. Хотел говорить о другом, но новая порция попреков дворника не дала. – Как будто новые соседи тебе милее будут. Будто уже знаешь, кто наши комнаты займет.
– Да мне все равно, что за соседи. О вас подумал, ведь, подходите друг дружке, сами понимаете, а сойтись… как будто ждете чего. Ладно. Лучше я про другое говорить буду. Это вам в зубах навязло.
– Это точно.
– Я заметил. Скоро год как живете…
– Михалыч…
– Про Вальтера, помню. У мамы его фотография была, а вот мне не досталась, не то потерялась, не то уничтожили. Во избежание. Сам знаешь и про те времена и про эти, – он помолчал, затем продолжил, коротко вздохнув: – Вальтер Ляйе был военврачом, который должен был сразу после захвата города распределять жителей. Кого оставить здесь, на работах по восстановлению, кого на шахты, их только водой залили, взорвать не успели, кого в трудовые лагеря в Германию. Он и проверял. Мужчин осматривал его коллега, забыл фамилию, дотошный распорядитель, а ему женщины достались. Он многим ставил диагноз – туберкулез, немцы его жуть как боялись. Он знал, видел, потому и… да, этим жизни спасал. Все одно всех отправляли город восстанавливать. Хоть паек давали. И им еще надо с родными делиться, с теми, кого укрывали в подвалах. Мама говорила, если б не огородик под окнами, вообще загнулись. Меня ж еще кормить надо. А я здоровый родился, почти четыре кило, а… молоко у нее пропало. Она ходила по соседям, искала подработки какой. Менялась, все что было в доме, все отдала на одеяла и козье молоко. Зимой, говорят, очень тяжко было, когда мороз пришел, какого давно не случалось, жизнь замерла. Случалось на улице лошадь немецкая дохла, так ее начисто разбирали, даже кости варили. Как пережили зиму – лучше не говорить. Фрицы тоже не жировали, отнимали последнее. Партизаны приходили, забирали все у фрицев. Те мстили горожанам, просто мстили, чтоб не так боязно было. Чтоб может, партизан сами бы выгоняли. А тем ведь тоже не одними шишками питаться, – помолчав, продолжил: – Пелагея Силовна в отряд ушла как раз, когда город взяли. Ее на фронт не пустили в начале войны, она все инстанции обегала, но без толку. И только когда в город танки вошли, а начальство сбежало, она с сокурсниками ушла в лес. Вернее, какой у нас лес. В колки…
– Михалыч, ты про врача не договорил, – никогда не слышал, как он рассказывает, наверное и сам сосед не привык к обстоятельным беседам. Потому и бегал с одного на другое.
– Разве? А что еще сказать, спас он маму. Отца вот не смог, не его юрисдикция, отец на шахту отправился. Он инженером был, но когда начальство сбежало, остался вроде как за главного. Правда, через три недели выяснилось, что он коммунист, ну и расстреляли тут же. А может потому, что так не спешил воду откачивать, понимал, как закончит, его все одно в расход. Да и что врагу уголь давать…. Ему даже деньги за работу платили.
– Какие?
– Рубли, кажется. Но немного, хоть он сразу высокий пост занял. Пробыл три недели за главного и все.
– А доктор?
– Мама все его отблагодарить хотела. Ходила потом к нему, шарф подарила, кажется. Ведь, туберкулезных… наверное, так его карточка у нас и осталась. А может потому, что его взяли вот так среди ночи и самого в лагерь отправили. Когда поняли, что он делает. Квартира долго открытой оставалась, грабить несколько дней не осмеливались. Да и что у него брать… кроме еды и того, что можно на нее сменять. Мебель на растопку, теплые вещи…. Не знаю, может, мама как раз тогда и взяла карточку. Не знаю, – повторил он, замолчав надолго.
И я не знал, что еще сказать. Михалыч поднялся, завел электрофон, который на время праздников взял обратно у Ольги, но тут же выключил. Не нашел подходящей мелодии, как неохотно пояснил мне.
– Хорошо она под гитару поет, я заслушался. Больно только – сразу вспоминаешь, правда, не то что пережил, а то, что тебе рассказывали, что ты сам пережил. Вот это и страшно.
Он расстегнул карман рубашки, куда замял поздравительную карточку и сунул ее мне.
«Уважаемая жертва оккупации! Поздравляем Вас…», – я посмотрел на соседа, тот скривился.
– Как в насмешку. Будто не в этой стране родились, будто с луны прибыли. Чужие, совсем чужие, не то слов не понимают, не то нарочно посмеяться хотят. Нет, наверное, просто чужие. Молодые, глупые еще, слава богу, не знают, что это за война.
– Знают, Михалыч. Афганистан-то еще не кончился.
Он помолчал.
– Да, ты прав. Не кончился. То вводят, то выводят, бросают как штрафников под пули, трещат про интернациональный долг, а потом тех, кто молил о помощи, режут, ставят новых, снова режут, снова ставят, – тряхнул кудрями, – Дурная война. Все войны дурные. Кто развязывает, тому плевать, а кто платит по счетам, тот даже не понимает, за что, – и тут же: – Вот Пелагея Силовна. Она маму весной, когда уж сил у нее ходить не было, вытащила из города, спасла от зачисток, от кошмара, приволокла в отряд. Вот ведь, у партизан жить выходило лучше, чем просто в оккупации. А когда осенью наши стали подходить, так что эсэсовцы делали… а что я, ты знаешь. Сорок тысяч во рвах на Поселенском кладбище, полгорода полегло. Немногие спаслись. Вывозили составами, всех, кого успевали схватить. Оставшихся в лагере заминировали. Лютовали как звери и ушли как звери, в леса. А потом наши звери пришли, стали доискиваться… вот тогда Пелагея Силовна еще раз нас с мамой спасла. Надела все ордена и пришла к майору НКВД, который делами города занимался. Доносы читал и выяснял, кто на кого работал. Партизаны тогда ведь предупредили войска фронта, что город вот-вот на воздух взлетит, что нужно совместно ударить. Так и сделали. Иначе бы ничего не осталось. А все равно партизан проверяли, тем ли занимались, не имели сношений с гестапо, не сдавали своих. Некоторые да, сдавали своих, имели сношения, факт. Но единицы, а их всех скопом. Тем более, маму мою мало кто и знал и видел… кажется, видели у Ляйе. Потому и донесли. Пелагея Силовна ее и спасла. Суровая женщина, жестокая. Но по-своему справедливая. Наверное.
– Почему жестокая.
– Никого не щадила, ни своих, ни чужих. Мерила своей меркой и… вот как пример. Подорвали они поезд, а потом выяснилось, что он с угнанными в концлагеря. Или намеренно так сделали, или просто не рассчитали время. Сейчас не скажешь. Пелагея Силовна только и сказала: «Им лучше здесь умереть, чем там подохнуть». Как отрезала. Про тот поезд много чего говорили, ведь сколько сот человек погибло разом. Своих же. А она… ей поверили, что так и надо.
– Так и надо? – вздрогнул я.
– Наверное, так и правильно тогда было – и говорить, и думать. Я же сказал, время другое было, люди не такие, что их нынешней меркой мерить. Я сам уже не тот, а ты и подавно. А твои дети и вовсе будут слушать сказки про войну и верить им. Или не верить вообще ни во что, что уж точно вернее. Сказки нам сейчас говорят. Даже не знаем, сколько всего потеряли, не то десять, не то двадцать миллионов. А все пишут: «Никто не забыт, ничто не забыто». Сразу все забыли. Самый день Победы и тот начали отмечать в шестьдесят пятом и то только потому, что Брежнев не был холуем у вождя. Другой человек, вот и вернул праздник. Вот и празднуем, радуемся, что дали, скорбим, пока можем, пока помним, – он замолчал коротко, а потом произнес коротко: – Ладно, разговорился я, горло запершило. Выпью. А ты иди к своей, с ней теперь поговори.
Выпер меня из комнаты, захлопнул дверь. С порога наткнулся на Ольгу, пристально смотрела на меня, но ничего не говорила. Наконец, когда услышала щелчок задвижки, произнесла негромко.
– Пойдем ко мне.
– Мы поговорили. Наверное, ему надо было всего-то выговориться, я…
– Я знаю, пойдем, – глаза заблестели. Странно, что я еще десяток минут назад желавший ее, вдруг ухватил руку и сжав, пробормотал:
– У меня к тебе просьба.
– Ты о чем? – насторожилась. Но блеск не пропал.
– Сыграй мне еще. Я никогда не слышал.
– Ты никогда и не спрашивал, – опустила голову, больше глаз я не видел. Повела за собой. Закрыла дверь, едва впустив, положила ладонь между лопаток и подвела к низкому журнальному столику, где лежали журналы – «Огонек» и «Новый мир». – Никогда не спрашивал, – повторила, остановившись за моей спиной.
– Прости…
– Нет, я, верно, сама виновата. Тоже ничего не говорила. Мы как… как вы с Михалычем. Вроде соседей. Вместе во всем, кроме главного, – долгая пауза, которую никто не решался нарушить.
– Что тебе сыграть?
– Может, романс? Что тебе самой больше нравится.
Она кивнула. Выдохнула.
– Я только сейчас. За гитарой.
И вышла в кухню.
Глава 11
Дни после праздников понеслись безудержно, неделя мелькала за неделей. Оля будто прикипела к работе, все раньше уходила, все позже возвращалась. Мы по настоящему бывали друг с другом только на выходные, этого всегда казалось и мало, и как ни странно, излишне, ибо наговорившись и наласкавшись, вдруг ощущали пустоту, препятствующую даже простому общению. Хотелось и молчать, но молчание давило. Тогда Оля старалась рассказывать о рабочих делах, да и я тоже сообщал ей новости, как постепенно втягивался в рабочую среду, как раскраивал, придумывал, переменял образцы одежды, которые с превеликим удовольствием на меня взвалил директор. Ему хотелось много чего поменять, но только из того, что имелось, – выкройки классических образчиков дизайна времен еще семидесятых, которые он почему-то считал золотым временем моды. Возможно, в чем-то был прав, но я старался перекроить выглядящие смешными брюки-клеш в дудочки и широченные пиджаки с подплечниками в нечто более пристойное, либо со спадающими плечами, либо в притык к фигуре. Директор хотел многого и сразу – магазин детской одежды приносил не только существенный доход, но и возможности для реализации его идей. А посему мне приходилось только поворачиваться, чтоб успевать за всеми его бросками мыслей.
Я не спорил, ведь во многом он давал мне нужную свободу творчества, а от добра добра не ищут.
Где-то в середине июня, когда чуть стало полегче с перекройкой, я постарался сам заняться делом Ковальчука. Во всяком случае, так, как мог и умел. Стал обходить старых знакомых шефа, его родичей и друзей – иных знал мало, с иными и вовсе не был знаком, однако, везде встречал более или менее сдержанное понимание и получал ответы на свои, порой, странные вопросы. Меня не гнали хотя бы потому, что я работал на Артура, а еще поскольку его уважали. Потому и терпели бывшего подчиненного, пытавшегося для себя уже пролить хоть какой свет на гибель замечательного человека – в этом мнения наши совпадали.
Я побывал у его сестры, прекрасно понимая, что Елена знает мало, если вообще в курсе дел брата, – ведь уже то, что Артура убили не на празднике, говорило о полной ее непричастности к делам с кредитом. Но кое-что мне удалось узнать. Например, то, что шеф не один и не два раза искал человека, могущего предоставить ему подобный кредит, что да, не раз и не два обмолвился ей, насколько и как срочно нужны ему деньги. Но у кого он взял, да и кто в принципе мог быть причастен к убийству брата – она сказать не могла. Лишь предполагала, но предположения эти никак не совпадали с моими. Елена грешила на конкурентов, тех, что отбили у Артура хоккейных болельщиков «Асбеста» и покушались на «варенку». «Шальные деньги делают с людьми страшные вещи, – говорила она. – Брат тоже, он пришел ко мне за неделю до смерти, очень просил хотя бы сорок тысяч. Я смогла собрать лишь семнадцать, откуда у нас такая дикая сумма. И я думала, что это не так срочно. А ведь из-за денег убили».