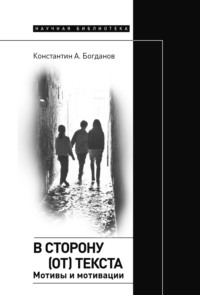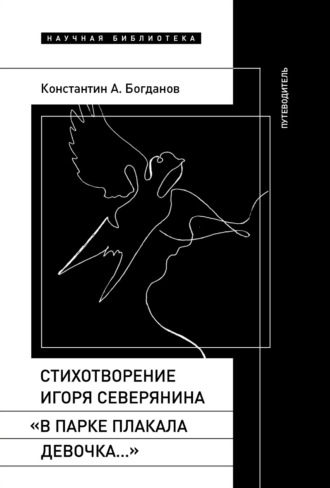
Полная версия
Стихотворение Игоря Северянина «В парке плакала девочка…». Путеводитель
128
Северянин И. Соч.: В 5 т. СПб: Logos, 1995. Т. 2. С. 236.
129
«Безупречно красивый, стройный, элегантный, всегда во фраке, с белой хризантемой в петлице, он декламировал, как бы гордясь горловыми обертонами своего звучного голоса, который казался нам картонажным и не вязался с излюбленными им стихами о деревенских мальчишках. Но иногда он выступал в костюме маркиза, в белом парике, читал под музыку Люлли и Рамо изысканные пасторали о любви пастушков и пастушек, о фижмах и кринолинах, о пудре и мушках. Максимов имел головокружительный успех, подогретый к тому же его феноменальной карьерой в кино, однако нас оставлял равнодушными. Что-то общее было у Максимова с поэтом Игорем Северянином» (Глумов А. Нестертые строки. М.: Всерос. театральное общество, 1977. С. 39).
130
Louis seize. Мелодекламация К. Я. Голейзовского. Музыка Боккерини. М.: Нотный магазин А. Гун. [б. г.] [б. п.]. Год издания восстанавливается по воспоминаниям К. Я. Голейзовского: «В 1915 году вышла книга стихов и ряд мелодекламаций, изданных Гуном» (Голейзовский К. Я. Жизнь и творчество. Статьи, воспоминания, документы. М.: Всерос. театральное общество, 1984. С. 32).
131
Тошович Б. Экспрессивный синтаксис глагола русского и сербского/хорватского языков. М., 2006. С. 255.
132
Еще один пример употребления Северянином глагола с частицей -ка – стихотворение «Июневый набросок» (1910): «Взгляни-ка, девочка, взгляни-ка! – / В лесу поспела земляника» (Северянин И. Громокипящий кубок… С. 68). Стоит заметить, что исторически частица -ка является сравнительно недавней. В отличие от других частиц русского языка, ее не было в древнерусском языке (три примера с энклитикой ка, которые приводит А. А. Зализняк по материалу новгородских берестяных грамот, не ясны по функциональному статусу и не связаны напрямую с глаголами: Зализняк А. А. Древнерусские энклитики. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 46). Между тем употребление этой частицы в русском языке последних трех столетий облигаторно: -ка присоединяется не к любым формам глагола, а только к формам 1‑го лица единственного и множественного числа будущего времени и повелительного наклонения (редкое употребление -ка в конструкции лучше-ка является аграмматизмом). При этом глагол, к которому присоединяется -ка, должен стоять в начале предложения (в этом отношении -ка ведет себя как ваккернагелевская энклитика, занимающая в предложении второе место). Семантическая эволюция -ка тоже оригинальна, будучи схожей с эволюцией древнерусской частицы -ся, ставшей в конечном счете суффиксом. Поэтому, по мнению некоторых лингвистов, частицу -ка также правильнее считать словоизменительным суффиксом/аффиксом со значением «фамильярного побуждения» (Перцов Н. В. Инварианты в русском словоизменении. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 154–160). Смысловые оттенки в употреблении глаголов с частицей (или суффиксом) -ка в иноязычном переводе выражаются описательно – и потому дают повод к рассуждениям об их исключительной особенности для национального языкового сознания: А. Д. Шмелев, например, полагает ее одним из тех «мелких слов», в которых отражаются «особенности „русской души“» (никак, впрочем, не аргументируя свое мнение: Шмелев А. Д. Лексический состав русского языка как отражение «русской души» // Ключевые идеи русской языковой картины мира / Сост. Анна А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев. М.: Языки славянской культуры, 2005. С. 34).
133
Ср.: In the park one small girl cried, «Daddy, please look at this bird, / Here the pretty swallow, how awful, got one broken foot, – / I’ll take this poor creature and wrap up in my handkerchief…» / And her father became pensive, shocked by her real feeling of grief, / He immediately forgave his kiddy, who so wept with such pity, / All her pranks that to be inevitable, in which she let even be guilty (Пер. Татьяны Кочеровой // Стихи.ру. https://stihi.ru/2014/06/22/2277).
134
Стихи.ру – https://stihi.ru/2014/07/16/8052.
135
Перевод мне прислан его автором Анной Беднарчик (Anna Bednarczyk), замечательной переводчицей и исследовательницей творчества Игоря Северянина. Это первая публикация стихотворения Северянина на польском языке.
136
На примере переводов некоторых стихотворений Северянина на польский язык о таких альтернативах интересно пишет автор одного из цитируемых мною переводов Анна Беднарчик, полагающая, что в целом компенсирование оригинала касается не семантики, а стилистики текста – например, сохранения его новаторского характера, особенностей образов и формы с учетом культурных обстоятельств и общелитературного контекста эпохи переводимого автора. Переводчик при таком подходе выступает в роли своеобразного соавтора исходного текста, компенсирующего невольные утраты оригинала средствами другого языка: Bednarczyk A. Поэзия Игоря Северянина в переводе на польский язык. Традиция и новаторство (два примера) // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica. 2018. № 11. S. 131–142; Bednarczyk A. «Медальоны» Игоря Северянина – проблема перевода на польский язык // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica. 2019. № 12. P. 81–96; Bednarczyk A. «Kilka razy nad morzem…» – o polskich tłumaczeniach wiersza Igora Siewierianina // Przegląd Rusycystyczny. 2021. № 2 (174). S. 66–82. См. также: Игорь-Северянин в переводах / Сост., примеч., оформление Михаила Петрова. Таллинн, 2007; Дунаевская Т. А. Сложности перевода на английский язык стихотворений Игоря Северянина // «Пой, менестрель! Тебе подвластно все!..»: Игорь Северянин и культура Серебряного века. / Ред.-сост. А. Е. Новиков. Череповец: Череповецкий гос. ун-т, 2022. С. 185–190. «Наибольшей популярностью у переводчиков на разные языки пользовались следующие стихи Игоря Северянина: „Весенний день“, „Это было у моря“, „Русская“, „Не более чем сон“, „Интродукция“, „Шампанский полонез“, „Виктория Регия“, „В парке плакала девочка“, „Голубой цветок“» (Антонова З. В. Игорь Северянин. Переводы // «Пой, менестрель! Тебе подвластно все!..» С. 203).
137
Тынянов Ю. Проблемы стихотворного языка. Л.: Academia, 1924. С. 119–120.
138
Блэк М. Метафора // Теория метафоры / Под ред. Н. Д. Арутюновой. М.: Прогресс, 1990. С. 165–168.
139
Ченки А. Семантика в когнитивной лингвистике // Современная американская лингвистика: фундаментальные направления / Отв. ред. А. А. Кибрик, И. М. Кобозева, И. А. Секерина. М.: Едиториал УРСС, 2002. С. 350–354.
140
МакКормак Э. Когнитивная теория метафоры // Теория метафоры. М., 1990. С. 359, 363.
141
Северянин И. Соч.: В 5 т. Т. 2. С. 559.
142
Там же. Т. 4. С. 383.
143
Северянин И. Соч.: В 5 т. Т. 4. С. 66.
144
Там же. Т. 2. С. 582.
145
Там же. Т. 3. С. 238–239.
146
Гадамер Х.‑Г. Феноменологический и семантический подход к Целану? (1991) / Пер. с нем. И. Казаковой // Гадамер Х.‑Г. Р. Феноменология поэзии. М.: РИПОЛ классик / Панглосс, 2019. С. 335.
147
Гадамер Х.‑Г. Феноменологический и семантический подход к Целану? С. 335–337.
148
Рикёр П. Живая метафора (1975) / Пер. с франц. Ф. Станжевского, под ред. Г. Вдовиной // Рикёр П., Гадамер Х.‑Г. Р. Феноменология поэзии. М.: РИПОЛ классик / Панглосс, 2019. С. 54.
149
Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Эксмо, 2006. С. 176.
150
Валери П. Из «тетрадей» / Пер. В. Козового // Валери П. Об искусстве. М.: Искусство, 1993. С. 119. Курсив автора.
151
Барт Р. S/Z / Пер. с франц. Г. К. Косикова и В. П. Мурат. М.: Академический проект, 2009. С. 52.
152
См.: Гин Н. Б. Информативность поэтического текста. Калининград, 1996; Казарин Ю. В. Поэтический текст как система. Екатеринбург: Изд‑во Уральского ун-та, 1999. С. 60, 148–151.
153
Юм Д. О простоте и изощренности [литературного] стиля («Of Simplicity and Refinement in Writing», 1742) / Пер. Ф. Вермель // Вопросы литературы. 1967. № 2. C. 162.
154
Марков В. О свободе в поэзии: Статьи, эссе, разное. СПб.: Изд-во Чернышева, 1994. С. 280. Так, в частности, у Набокова, по формулировке А. Долинина, поэзия Северянина вызывала «устойчиво неприязненный интерес» (Долинин А. Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар». М.: Новое издательство, 2019. С. 221. Курсив мой. – К. Б.)
155
Марков В. О свободе в поэзии. С. 279. Ср. у Пастернака: «Его (Игоря Северянина. – К. Б.) неразвитость, безвкусица и пошлые словоновшества в соединении с его завидно чистой, свободно лившейся поэтической дикцией создали особый, странный жанр» (Пастернак Б. Люди и положения // Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. Т. 4. М.: Худож. лит., 1991. С. 336). Или: «Игорь Северянин, душка, кумир, любимец публики, делавший полные сборы в Политехническом музее, и, что бы там академики ни скулили, поэт несомненный и при немалой жеманности и безвкусии, конечно, талантливый» (Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь. М.: Терра, 1994. С. 590).
156
Белова В. В. Лирическая книга Игоря Северянина: динамика жанра в свете творческой эволюции поэта: Дис. … канд. филол. наук. М., 2014. С. 86; Виноградова В. Н. Игорь Северянин // Очерки истории языка русской поэзии ХX века: Опыты описания идиостилей / Отв. ред. В. П. Григорьев. М.: Наследие, 1995. С. 103.
157
Эн. На поэзоконцерте // Русские ведомости. 1914. № 75. 1 апреля. С. 6.
158
N. Поэзо-вечер Игоря Северянина // Московские ведомости. 1914. № 75. 1 апреля. С. 3.
159
Голуб И. Б. Стилистика русского языка. 3‑е изд., испр. М.: Айрис-Пресс, 2001. С. 169.
160
Жолковский А. Поэтика за чайным столом и другие разборы. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 219.
161
Определение Жолковского находит комическую параллель в склонности самого поэта к фотопозированию. Так, уже у читателей брошюры Игоря Северянина № 23 «Это было так недавно…» (СПб., 1909) был повод посмеяться над объявлением, размещенным на последней странице обложки: «Портреты автора (4 позы) продаются в фотографии Д. Здобнова (Невский пр., 10)». В архиве К. М. Фофанова (РГАЛИ) сохранился карандашный черновик эпиграммы на обложке этой брошюры: Нарци<с>су / Нарцис<с>, Нарцис<с>! / Кис, кис, кискис! / Ты все любуешься собою. / Четыре позы – / Букет Мимозы, / Ведь это х… почти с / п… ю (К. Ф.). Максимилиан Волошин вспомнил об этом объявлении в своей рецензии на стихи Игоря Северянина и Марии Папер: «О модных позах и трафаретах» (Утро России. 1911, 5 февраля). Рецензия посвящена сборнику Марии Яковлевны Папер «Парус. Стихи 1907–1910» (М.: Тип. Л. В. Пожидаевой и Эдельберг, 1910) и брошюре Игоря-Северянина «А сад весной благоухает!.. Стихи» (СПб., 1909).
162
Иванов Г. Петербургские зимы // Иванов Г. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М.: Согласие, 1994. С. 28.
163
Розовые слоны // Голос Москвы. 1912. № 294. 21 декабря. С. 4.
164
Прокофьев С. Дневник: В 3 т. Ч. 1. 1907–1918. Париж: sprkfv, 2002. С. 379. Запись от 7 декабря (24 ноября) 1913. Через четыре года он же запишет свое впечатление от публичного выступления Северянина: «Игорь своим слащавым популярничанием и мяуканием как-то опошлил и расслабил крепкий экстракт некоторых талантливых блесток, которыми пересыпаны его стихи» (Там же. С. 650. Запись 1917 года).
165
Седлецкий С. Игорь Северянин в провинции // Журнал журналов. 1915. № 18. С. 15.
166
Шмидт В. Игорь Северянин // Критика о творчестве Игоря Северянина. М., 1916. С. 81.
167
Рождественский Вс. Игорь Северянин // Северянин И. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1975. (Б-ка поэта. Малая серия). С. 12.
168
Глумов А. Нестертые строки. М.: Всерос. театральное общество, 1977. С. 39.
169
Пастернак Б. Люди и положения. С. 335.
170
Стихотворение «Секстина VII» (1919) // Северянин И. Соч.: В 5 т. Т. 2. С. 671.
171
Богомолов Н. А., Петросов К. Г. Северянин Игорь // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Т. 5. М., 2007. С. 533; Документова Н. Т. О генеалогии И. Северянина // Череповец: Краеведческий альманах. Вологда, 1996. С. 150–156.
172
Чайковский П. И. Письмо к К. Р. (Великому князю К. Р. Романову) от 26 августа 1888 г. // Фет А. А. Вечерние огни. М., 1979. С. 578.
173
Schneider S. An den Grenzen der Sprache: Eine Studie zur ’Musikalität’ am Beispiel der Lyrik des russischen Dichters Afanasij Fet. Berlin: Frank & Timme, 2009. S. 119–139, 199–212, 344–555.
174
Давыдова Т. А. Фет и музыка // Высшее образование в России. 2003. № 3. С. 155. Музыкальный эффект, порождаемый ритмом многосложных размеров, отметил уже Б. М. Эйхенбаум: «Плавность ритмического движения соединяется с интонационной плавностью – создается как бы отвлеченный, не зависящий ни от смысла слов, ни от синтаксиса напев» (Эйхенбаум Б. М. Мелодика стиха. Пг., 1922. С. 95). Занятно, что главенство звука над содержанием в поэзии Фета в эпоху литературоведческого социологизаторства найдет объяснение в примечательном выводе, сделанном в дотошной и фактически ценной в целом работе Сергея Касторского: «Все это еще больше свидетельствует о том, что Фет – выразитель в поэзии психологии консервативной группы отмирающего дворянства, так нуждающегося в своеобразном наркозе – напевной, мелодической лирике» (Касторский С. В. Из наблюдений над стихотворной техникой Фета // Известия ЛГПИ им. А. И. Герцена. Л., 1928. Вып. 1. С. 225). Ср. у Гастона Башляра: «Прекрасное стихотворение есть род опиума или алкоголя. Это подпитка для нервов» (Башляр Г. Грезы о воздухе. С. 18).
175
Грамолина Н. Н., Киселева Т. Е. Библиография музыкальных произведений на слова А. А. Фета // Фет А. А. Вечерние огни. С. 772–781.
176
Макарова С. А. Музыкальность лирики как теоретико-литературная проблема (А. А. Фет и русские символисты): Дис. … докт. филол. наук. М.: МГУ, 2018. С. 284–313, 383–406.
177
Жирмунский В. Вопросы теории литературы: Статьи 1916–1926. Л.: Academia, 1928. С. 117.
178
Северянин И. Соч.: В 5 т. Т. 2. С. 605.
179
Стихотворение Северянина «Я – композитор» (1912) из сборника «Златолира» (1914): Северянин И. Соч.: В 5 т. Т. 1. С. 328. В самохарактеристике Северянина как композитора много очевидной похвальбы, но она не лишена оснований. По воспоминаниям Юрия Шумакова, Прокофьев, концертировавший в середине 1930‑х годов по Прибалтике, однажды ужинал с родителями мемуариста и «между прочим, заговорил о вечерах поэзии Северянина в Петербурге <…> По мнению Прокофьева, у Северянина имелись начатки композиторского дарования, в его стихах, как он выразился, „присутствует контрапункт“. Поднявшись из‑за стола, Сергей Сергеевич достал с полки сборник Северянина и уже не выпускал его из рук. – Смотрите, – сказал композитор, – в первом четверостишии (речь идет о стихотворении „У окна“. – К. Б.): В мое окно глядит луна. Во втором – новый вариант: Луна глядит в мое окно. А вот третья строфа: В мое окно луна глядит. И, наконец: Луна глядит в окно мое. Такой разработке может позавидовать любой ученый музыкант, – заключил он разговор о Северянине» (Шумаков Ю. Игорь Северянин в Эстонии // Северянин И. Стихотворения и поэмы 1918–1940 годов. М., 1990. С. 432).
180
В. В. Никульцева, посвятившая словотворчеству Северянина специальную диссертацию (Никульцева В. В. Лексические неологизмы Игоря-Северянина: Деривация, значение, употребление: Дис. … канд. филол. наук. М., 2004), сходу отвергает мнение В. Н. Виноградовой (Виноградова В. Н. Игорь Северянин // Очерки истории языка русской поэзии ХX века: Опыты описания идиостилей / Отв. ред. В. П. Григорьев. М.: Наследие, 1995) о том, что многие неологизмы в его творчестве вызваны «версификационными недочетами (неумением справиться с ритмом и рифмой в угоду неологизму)», и полагает их изобретение исключительно новаторскими исканиями в обновлении поэтического языка. Я придерживаюсь мнения Виноградовой. Одно дело – приемы и примеры, которым следовал Северянин в своем словотворчестве (вполне интересные и поучительные в лингвистическом отношении), другое – причины, которые его к этому побуждали.
181
Павлова Н. В. Особенности формирования речевых звуков и звуков вокальной речи в голосовой деятельности человека // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4. С. 309.
182
Там же. С. 310. «Перечень акустических отличий вокальной речи от обычной будет не полон, если не упомянуть о таком специфическом свойстве вокальных гласных, как вибрато, отсутствующее в обычной речи, а также о повышенной полётности, или носкости, голоса (portata de la voce)» (Морозов В. П. Вокальная речь: Психоакустические исследования // Научная сессия памяти академика РАН Л. М. Бреховских и профессора Н. А. Дубровского. М.: ГЕОС, 2009. С. 167). Замечу попутно, что это обстоятельство вполне объясняет некоторые орфоэпические особенности поэзии Северянина, в которых его современники видели безграмотность поэта.
183
«Например, он говорит: бэздна, смэрть, сэрдце» (Ходасевич В. Игорь Северянин // Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1: Стихотворения. Литературная критика 1906–1922. М.: Согласие, 1996. С. 399). «Я впервые слышал чтение Северянина. Как известно, он пел свои стихи – на два-три мотива из Тома: сначала это немного ошарашивало, но, разумеется, вскоре приедалось. Лишь изредка он перемежал свое пение обыкновенной читкой, невероятно, однако, гнусавя и произнося звук „е“ как „э“: Наша встрэча – Виктория Рэгия / Рэдко, рэдко в цвэту» (Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения, переводы, воспоминания. Л.: Сов. писатель, 1989. С. 457).
184
Северянин И. Образцовые основы (1924) // Северянин И. Соч.: В 5 т. Т. 5. С. 83.
185
Гервер Л. Л. Музыка и музыкальная мифология в творчестве русских поэтов (первые десятилетия XX века). М.: Индрик, 2001. С. 127–128, 149–150.
186
Аргус. Полусерьезно, полушутя: Сатира, юмор, лирика. Нью-Йорк: Чайка, 1959. С. 59.
187
«Его звучный голос чарует меня» (Из дневников Л. Д. Рындиной / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. Н. А. Богомолова // Лица: Биографический альманах. 10. СПб., 2004. Запись от 13 февраля 1913 года. http://severyanin.lit-info.ru/severyanin/vospominaniya-o-severyanine/ryndina-iz-dnevnika.htm). «Что скрашивает духовное убожество дешевой музы Игоря Северянина – то это его голос, подкупающий, мелодичный» (На поэзо-вечере // Раннее утро. 1916. № 16. 21 января. С. 4.) «Собственно, он не читал, а пел свои „поэзы“ довольно приятным баритончиком. Заунывный, легко запоминающийся мотив буквально поражал публику, которая впервые слышала такую необычайную манеру „мелодекламации“ без аккомпанемента» (Богородский Ф. Воспоминания художника. М., 1959 – http://severyanin.lit-info.ru/severyanin/vospominaniya-o-severyanine/bogorodskij-vospominaniya-hudozhnika.htm). Вадим Баян вспомнит о голосе Северянина как о «баритональном теноре», и сам поэт «весь излучался лирикой» (Баян В. Первая олимпиада футуристов // Русский футуризм: Стихи. Статьи. Воспоминания / Сост. В. Н. Терёхина, А. П. Зименков. СПб.: Полиграф, 2009. С. 602). По воспоминанию Вальтера Адамса, присутствовавшего на поэзовечере в Тарту 6 февраля 1920 года, у Северянина (читавшего стихотворения из «Громокипящего кубка») был баритональный бас: «Поэт словно чеканит строки металлически звенящим голосом, подчас распевает их на созданные им самим мотивы. Баритональный бас поэта переполняет весь зал. Каждый слог доносится до балкона, где множество студентов, затаив дыхание, следит за исполнителем» (Адамс В. Игорь Северянин в Тарту (Из романа «Эста вступает в жизнь») / Авториз. пер. с эст. Ю. Шумакова // Венок поэту: И. Северянин / Сост. М. Корсунский, Ю. Шумаков. Таллин: Ээсти раамат, 1987. С. 14).
188
Шамардина С. Футуристическая юность // Имя этой теме – любовь: Современницы о Маяковском / Сост., вступ. ст., коммент. В. В. Катаняна. М.: Дружба народов (Лит. мемуары. Век XX), 1993. С. 23.
189
Седлецкий С. Игорь Северянин в провинции (1915) // Северянин Игорь. Царственный паяц. С. 493). «Приехал Игорь Северянин / Гнусаво выть свои стишки» (Одесский листок, 29 (16) января 1914 года). См. также: Спасский С. Маяковский и его спутники: Воспоминания. Л.: Сов. писатель, 1940. С. 9.
190
Ахматова А. О Блоке // Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2 / Сост. Вл. Орлов. М.: Худож. лит., 1980. С. 95. Замечу, впрочем, что злоязычной и болезненно самолюбивой Ахматовой в этом воспоминании особой веры нет. В «Поэзе о поэтессах» (1916) Северянин зачислит Ахматову в разряд мелочных и безликих «стихотворок», книжки которых модно иметь, «но нужно их прочесть», и противопоставит им «женщин-поэтов»: Мирру Лохвицкую, Зинаиду Гиппиус, Татьяну Щепкину-Куперник» (Северянин И. Соч.: В 5 т. Т. 2. С. 349). Антипатия поэтов была взаимной, и Ахматова, ревниво относившаяся ко всему, что писали и говорили о ней современники (Панова Л. Зрелый модернизм: Кузмин, Мандельштам, Ахматова и другие. М.: Рутения, 2021 С. 319–330), не могла не знать стихотворения Северянина, в котором она и ее собственная манера чтения расценивались так: «Стихи Ахматовой считают / Хорошим тоном (comme il faut…). / Позевывая, их читают, / Из них не помня ничего!.. <…> Когда ж читает на эстраде / Она стихи, я сам не свой: / Как стилен в мертвом Петрограде / Ее высокопарный вой!..» («Стихи Ахматовой», 1918, включенное в книгу «Соловей» (1923): Северянин И. Соч.: В 5 т. Т. 2. С. 559). Позднее Северянин помянет Ахматову благосклонно, но тоже следуя шаблонному образу, от которого сама Ахматова спешила уже откреститься: «Послушница обители Любви / Молитвенно перебирает четки» («Ахматова», 1925. Стихотворение войдет в цикл «Медальоны» 1934 года). Интересно, что в стихотворном воспоминании о Блоке Ахматова также прибегнет к «голосовой характеристике»: «Трагический тенор эпохи» («Три стихотворения», 1960).
191
Волошин М. Лики творчества. Л.: Наука, 1989. («Литературные памятники»). Примечания. С. 770.
192
Северянин И. Соч.: В 5 т. Т. 3. С. 257.
193
Рубанович С. Поэт-эксцессер // Критика о творчестве Игоря Северянина. М.: Изд. В. В. Пашуканиса, 1916. С. 61–73.
194
Глумов А. Нестертые строки. С. 39.