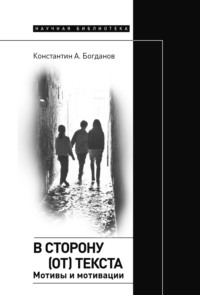Стихотворение Игоря Северянина «В парке плакала девочка…». Путеводитель
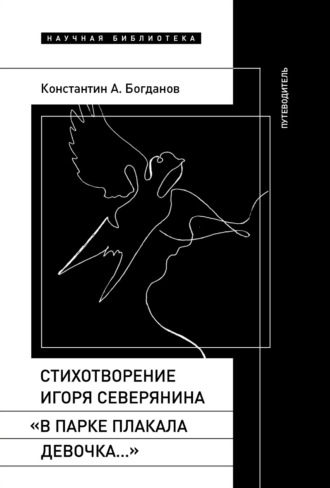
Полная версия
Стихотворение Игоря Северянина «В парке плакала девочка…». Путеводитель
Язык: Русский
Год издания: 2024
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу