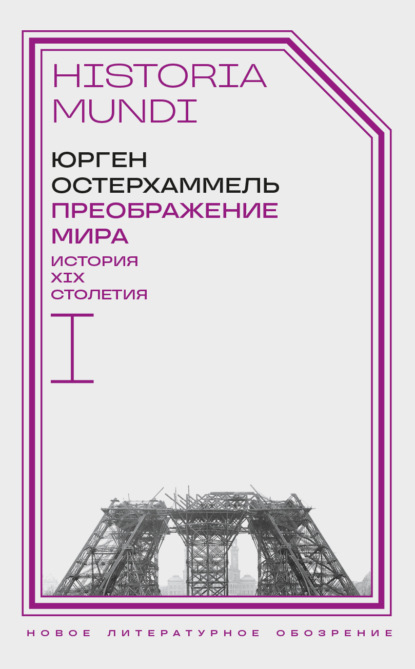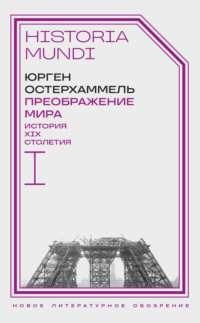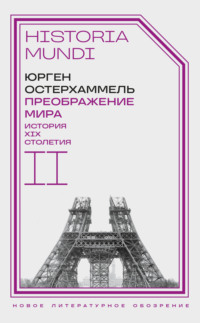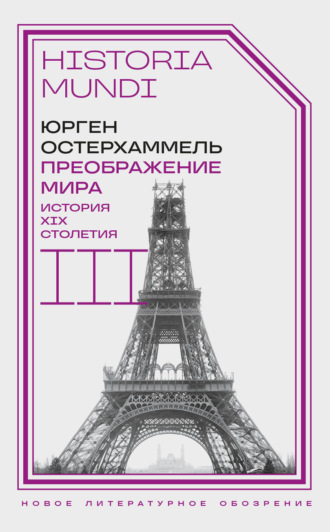
Полная версия
Преображение мира. История XIX столетия. Том III. Материальность и культура
Мы не собираемся заниматься систематическими поисками свидетельств возникновения промышленности по всему миру. Достаточно основных кейсов. В дебатах о «великом расхождении» наряду с интересной контрфактической проблемой – почему в Индии и Китае до 1800 года не состоялась собственная промышленная революция – возникает тема столь же интересная: через сто лет они все-таки приступили к индустриализации. В Китае с его долгими традициями домеханического ремесленного производства и распространением протоиндустриализации путь от старых форм технологии и организации к современному фабричному производству не был прямым. До 1895 года иностранцам не разрешалось основывать промышленные предприятия на китайской территории, даже в открытых по Нанкинскому договору портах, а немногие все же существовавшие большой роли не играли. На этой первой стадии китайской индустриализации решение основной задачи взяло на себя государство. Не сам императорский двор, но многие губернаторы провинций с 1862 года инициировали ряд больших проектов, и все они использовали иностранную технологию и иностранных советников. Сначала это были оружейные фабрики и верфи, затем, в 1878 году, – большое угледобывающее предприятие в северном Китае, немного позднее – несколько хлопкопрядильных фабрик, в 1889 году – железоделательные заводы в Ханьяне, провинция Хубэй. Главным движущим мотивом этой политики была оборона. 70 процентов капитала шло на военно-ориентированные предприятия. Скопом отметать эти ранние инициативы как провальные было бы неверно. В большинстве своем они доказали, что Китай вполне способен перенимать современные технологии. Ханьян в первые годы после своего открытия в 1894‑м вообще был крупнейшим и самым современным металлургическим предприятием во всей Азии. В то же время проекты не координировались между собой; ни один из них не стал основой экономического роста хотя бы в рамках региональной стратегии индустриализации. Накануне Японо-китайской войны 1894–1895 годов, которая и в экономике отбросила страну назад, Китай начал свою индустриализацию, но пока не встал на путь широкой индустриальной перестройки89.
После 1895 года картина усложнилась и получила новую динамику. Теперь фирмы из Великобритании, Японии и других стран учреждали промышленные предприятия в Шанхае, Тяньцзине, Ханькоу и некоторых других крупных городах. После того как государство практически перестало проявлять активность, китайские предприниматели по-прежнему не допускали, чтобы в возникающем современном экономическом секторе господствовали иностранцы. Практически во всех областях китайцы выступали конкурентами иностранным интересам90. Еще раньше, в 1860‑х годах в Китае было учреждено – сначала государством, потом частными фирмами – пароходное сообщение. Шелковая промышленность, одна из важнейших для Китая отраслей экспорта, быстро обзавелась новой приводной техникой. Однако поскольку японские конкуренты, делая то же самое, гораздо более системно работали над повышением качества и производили товары, адаптированные для мирового рынка, Япония в 1920‑х годах выиграла борьбу за глобального потребителя. Важнейшей частью промышленности Китая – помимо контролируемой японцами Южной Маньчжурии с ее быстро растущим угольно-сталелитейным комплексом – было хлопкопрядильное производство. В 1913 году 60 процентов всех веретен, имевшихся на фабриках в Китае, находились в китайской собственности, 27 процентов были в руках европейских, а 13 процентов – японских концернов. Накануне Первой мировой войны китайская текстильная промышленность оставалась еще сравнительно слаборазвитой. В Китае к этому времени было установлено 866 тысяч веретен – против 2,4 миллиона в Японии и целых 6,8 миллиона в Индии (столько же, сколько во Франции). Лишь грюндерский бум во время войны позволил увеличить количество веретен до 3,6 миллиона. В 1912–1920 годах модерная китайская промышленность показывала наивысшие в мире темпы роста91. К 1920 году был заложен пусть пока слабый, но способный укрепляться фундамент индустриализации Китая. Внутренний хаос эпохи «полевых командиров», отсутствие ориентированного на развитие и способного на решительные действия правительства и империалистская политика Японии послужили главными причинами того, почему китайский рывок (take-off) в общеэкономическом масштабе опоздал на полвека. Не замедленные и практически не координируемые государством процессы в эпоху поздней империи, а затормаживание после 1920 года уже состоявшегося старта является характерной чертой истории китайской индустриализации: большой подъем начался только после 1980‑го.
Представление о том, что дешевые хлопчатобумажные ткани в Китае или Индии разрушили благосостояние местных прядильщиц и ткачей и, возможно, подорвали предпосылки для самостоятельной индустриализации, в таком общем виде несостоятельно. В Китае, несмотря на отсутствие заградительных пошлин, сельское надомное ткачество для местного и регионального рынка оказалось довольно живучим. Когда в начале XX века хлопчатобумажная пряжа из новых фабрик в открытых портовых городах (и в меньшей степени напрямую импортированная из‑за рубежа) стала вытеснять домашнюю, ткачи перешли на использование машинной пряжи и продолжили свою деятельность. В Индии тезис о переполнении азиатских рынков долго обсуждался с точки зрения «деиндустриализации». За исходный пункт принималась констатация, что индийская ткацкая отрасль в XVIII веке была способна производить хлопчатобумажные ткани любого качества и в массовых количествах, которые пользовались большим спросом в Европе. В несколько более ограниченном масштабе это же применимо и к экспорту китайских хлопчатобумажных тканей. То, что набойка на азиатские ткани часто делалась лишь в Европе, в целом пробудило первоначальный европейский интерес к хлопчатобумажным продуктам, а с ним и спрос, который затем был удовлетворен товарами промышленной революции. Примерно к 1840 году ткани из Ланкашира вытеснили азиатский импорт с внутреннего рынка. Английский джентльмен больше не носил вещи из нанки, из тонких восточных тканей. Европейская индустриализация, таким образом, началась с замещения азиатского импорта. Это стало экономически возможным благодаря тому, что Великобритания пользовалась теперь технологически обусловленными конкурентными преимуществами92. Случившаяся потеря для Индии и Китая экспортных рынков, схожая с тем, которую в начале XIX века пережило османское текстильное производство, имела катастрофические последствия для азиатских регионов, специализировавшихся на экспорте сукон. Но все это не означает, что конкуренция европейского импорта подорвала производство для внутреннего рынка. Необходимо учитывать региональные отличия. На Бенгалии экспортный кризис сказался чрезвычайно тяжело, тогда как южноиндийские ткачи, работавшие для внутреннего рынка, смогли продержаться намного дольше. Ввозимый в Индию текстиль никогда не достигал стандарта качества лучшего собственного производства, так что люксовый сегмент долгое время оставался за индийскими производителями. Как и в Китае, машинная пряжа в Индии распространялась по мере того, как ее цена опускалась ниже расходов на надомное прядильное производство, даже при условии экстремальной самоэксплуатации сельских хозяйств. Надомное ткачество выжило прежде всего благодаря тому, что рынки, как выражаются экономисты, «сегментировались»: иначе говоря, не было общей конкуренции между импортированными и произведенными в стране тканями93.
Индия: относительность «отсталости»В отличие от Китая, иностранный капитал, обосновавшийся после 1856 года в Бомбее и других местах, не принимал активного участия в местной хлопчатобумажной промышленности. Первыми грюндерами были индийские торговцы тканями, которые теперь инвестировали и в производство94. Колониальное государство и британская промышленность не были заинтересованы в подобной конкуренции, но и не создавали для нее непреодолимых препятствий. Общее падение цен на серебро, которое не могло быть остановлено политическими средствами, привело к тому, что за последнюю четверть XIX века индийская рупия обесценилась примерно на треть. Это пошло на пользу отнюдь не отсталой в техническом отношении индийской прядильной промышленности и даже позволило ей вытеснить на азиатских рынках более дорогую британскую пряжу. Тот, кто принимает во внимание торговлю только между Европой и Азией, упускает из виду активность азиатских производителей в их ближайшем окружении. Прежде всего благодаря своему экспорту в Китай и Японию, индийская промышленность увеличила свою долю на мировом рынке хлопчатобумажной пряжи с 4 процентов в 1877 году до 36 процентов в 1892‑м.95 Импорт капитала и технологий в рамках колониальной системы не был первопричиной появления модерной индийской промышленности. Ее важнейшим фундаментом стала общая – с XVIII века – коммерциализация Индии, за счет чего расширялись рынки, создавались торговые капиталы, и это – несмотря на наличие дешевой рабочей силы – давало новые импульсы для технологических усовершенствований96. Историки едины в том, что промышленность, и в индийском случае сконцентрированная на географически ограниченном пространстве, играла перед Первой мировой войной лишь маргинальную роль в общем развитии экономики. Однако, если проводить численные сравнения с Европой, положение Индии было не таким уж плохим: ее 6,8 миллиона веретен в 1913 году не отстают на порядок от 8,9 миллиона в Российской империи97. Так что в численном отношении индийская хлопчатобумажная промышленность предстает во вполне выгодном свете. И в отличие от Китая или Японии, она возникла без малейшей протекции государства.
Если в Китае черная металлургия и сталелитейная промышленность (по большей части попавшая после Первой мировой войны под контроль японцев) на ранней фазе развития были обязаны исключительно административной инициативе, то индийская сталелитейная промышленность – одному-единственному человеку. Джамшеджи Тата (1839–1904), один из величайших предпринимателей XIX века, который отнюдь не копировал других, был современником родившегося в 1842 году немецкого «стального барона» Августа Тиссена. Тата сколотил капитал в текстильной промышленности. После посещения американских сталелитейных заводов он пригласил американских инженеров для поисков подходящего места вблизи от месторождений угля и железа в Восточной Индии. Здесь, в Джамшедпуре, после его смерти вырос большой сталеплавильный завод семьи Тата. С самого начала он преподносился также как патриотическая инициатива и привлекал средства тысяч частных лиц. Сам основатель рано понял, что Индии необходимо достичь технологической самостоятельности, и пожертвовал основной капитал на учреждение Индийского научного института (Indian Institute of Science). С момента ввода в эксплуатацию в 1913 году заводы Тата заботились о качестве продукции на самом высоком мировом уровне. Правительственные заказы с самого начала играли важную роль в развитии предприятия, а Первая мировая война обеспечила дальнейший успех. Однако до 1914 года Tata Iron and Steel Company не была способна в одиночку сформировать в Индии сектор тяжелой промышленности – так же, как и государственный металлургический комбинат Ханьян в Ханькоу (Китай).
Случай Индии дает повод поразмышлять об общих моделях в исследованиях индустриализации. «Отсталость» – понятие относительное, и необходимо установить, к сущностям какого рода оно применимо. В определенный момент времени, даже в конце XIX века, «отсталые» в социально-экономическом отношении регионы Европы, безусловно, не обгоняли наиболее динамичные регионы Индии и Китая. Масштаб, которым измерялся экономический успех, был задан немногими крупными экономическими областями роста в Европе и Северной Америке. В Индии не государственные, а предпринимательские инициативы привели к тому, что к 1910‑м и 1920‑м годам в различных отраслях – среди прочих в индустрии джута, находившейся преимущественно под контролем британского капитала, – имелось крупное фабричное производство, а с ним – промышленный пролетариат, который учился отстаивать свои интересы. В городах Индии была запущена индустриализация и многие другие процессы, которые объединяют под понятием модернизации. Могла ли Индия без колониального господства «лучше» развиваться в экономическом отношении, как полагают националисты и марксисты, не удастся установить уже никогда. Аргументация культуралистов, видящих в социальной структуре («кастовая система»), менталитете и религиозной ориентации («враждебный прибыли индуизм») фундаментальную преграду для автономного развития и даже эффективного восприятия идей извне, долго оставалась очень популярной в западной социологии, однако ныне, перед лицом успехов, достигнутых Индией к концу ХX века в области высоких технологий, ее подвергают сомнению. Схожим образом «конфуцианство» (как целое, без учета внутренних разделений) и его экономическое учение, якобы противное извлечению прибыли, всегда считалось фактором, препятствовавшим «нормальному» экономическому развитию в XIX веке и раньше. Но после впечатляющих экономических успехов китайских стран – Тайваня, Сингапура и КНР, – а также хотя бы частично «конфуцианских» Японии и Южной Кореи старые аргументы незаметно встали с ног на голову и то же самое конфуцианство было объявлено культурной основой особого восточноазиатского капитализма. То, что и неудачу, и успех можно объяснить одной и той же теоретической конструкцией, настраивает на скептический лад. Некоторые современные историки отказались от вопроса, почему некоторые страны, как Индия и Китай, не развивались по модели, которой вообще-то должны были следовать. Таким образом, ставится задача описать их путь – особый в каждом случае98.
Япония: индустриализация как национальный проектЕсли в отношении Индии и Китая больше века шли дискуссии, почему, несмотря на некоторые позитивные предпосылки, они не встали на путь нормального экономического развития, то в случае Японии гадают, почему у нее «получилось»99. К середине XIX века японское общество было в значительной степени урбанизированным и коммерциализированным. Имелись серьезные тенденции к объединению национального рынка. Благодаря островному положению границы государства были ясно определены. Внутри царил мир, дорогостоящей защиты от внешних угроз тоже не требовалось. Вплоть до местного уровня страна управлялась необыкновенно эффективно. Она накопила опыт распоряжения ограниченными природными ресурсами. Уровень культурного развития населения, показательный по оценкам процентного соотношения умевших читать и писать, был чрезвычайно высоким не только по азиатским меркам. Таким образом, Япония обладала прекрасными предпосылками для адаптации к новым технологиям и новым организационным формам производства.
В то же время было бы слишком большим упрощением видеть здесь только объективную логику промышленного прогресса. Кроме того, исходные условия в Японии необязательно были качественно лучше, чем в отдельных регионах Китая или Индии. Решающим стал характер японской индустриализации как политического проекта, реализованного совместно государством и частными компаниями. Падение сёгуната Токугава и утверждение правления Мэйдзи в 1868 году – в меньшей степени результат изменений в экономике и обществе; это скорее реакция на внезапное обострение конфликта с Западом. Начавшаяся лишь после этого индустриализация Японии стала частью обширной политики национального обновления, наиболее масштабного и амбициозного проекта из тех, за которые брались в XIX веке, хотя в его основе и не было ясно сформулированного стратегического плана. Детальное знакомство с западными великими державами показало японской элите, что ключ к национальной мощи – промышленное развитие. В результате правительство в Токио инициировало первые промышленные проекты – аналогично Китаю, но при координации из центра и без особого давления извне, – первоначально поддержав их дорогими валютными вливаниями. Все это совершалось без какого-либо заметного участия иностранного капитала. В отличие от Российской империи той же эпохи, которая делала обширные займы на западноевропейских финансовых рынках, прежде всего во Франции, и в отличие от Османской империи и Китая, которым такие кредиты навязывали на невыгодных условиях, Япония избегала всякой зависимости от иностранных заемщиков до тех пор, пока она еще не обладала полным суверенитетом из‑за неравноправных договоров и была экономически уязвимой, то есть до 1890‑х годов. В стране имелись мобильный капитал и политическая воля для его эффективного использования. Уже в Японии эпохи Токугава без всякого влияния со стороны Европы (очевидно, уникальный случай в неевропейском мире) появилась практика межбанковского кредитования, ставшая позднее большим подспорьем для финансирования инновационных проектов. С 1879 года быстро складывалась современная банковская система, которая оказывала гибкую финансовую поддержку промышленности. Банковская система, как и в целом финансовая и экономическая политика ранней японской фазы индустриализации, – в основном дело рук Мацукаты Масаёси, который проделал путь от отпрыска нищего самурая до министра финансов – пост, который он занимал много лет. Масаёси был одним из величайших экономических магов этой эпохи100.
Налоговая политика государства Мэйдзи возложила нагрузку на сельское хозяйство, которое становилось все более прибыльным. Аграрный сектор служил важнейшим источником капитала для ранней японской индустриализации. После 1876 года около 70 процентов государственных доходов давал поземельный налог; большая часть пошла на развитие промышленности и инфраструктуры. Это составляло одно из важнейших отличий от Китая той же эпохи, в котором сельское хозяйство переживало застой, а слабое в финансовом и административном отношении правительство извлекало мало выгоды даже из тех излишков, которые имело. Япония обладала и другими преимуществами. Ее население было достаточно многочисленным, чтобы создавать внутреннее потребление. Рано началось систематическое освоение внешних рынков, особенно рынка шелка, при этом японский путь развития не привел, в отличие от латиноамериканского, к односторонней модели экспортоориентированного роста. В нескольких регионах, например в районе Осаки, с фабричным производством на паровой тяге еще довольно долго соседствовала эффективная протоиндустрия. Это одно из важных различий между английским Манчестером и «Манчестером Востока», которые во многом остальном походили друг на друга101.
Государство Мэйдзи не планировало создания государственной экономики на долгосрочную перспективу. Поэтому после инициатив со стартовым финансированием государство постепенно отошло от большинства промышленных проектов, не в последнюю очередь – чтобы уменьшить нагрузку на бюджет. Пионеры предпринимательства видели в индустриализации и общеяпонский патриотический проект; среди их мотивов фигурировало скорее служение отечеству, чем максимизация личной выгоды. Бьющая в глаза роскошь по-американски («расточительное потребление» в терминах социолога Торстейна Веблена) у японских промышленников грюндерской эпохи презиралась. Эта национальная черта имела в том числе следствием то, что ценное знание о мировой экономике – знание, которое японцам пришлось осваивать в кратчайшие сроки после 1858 года, – оперативно и щедро передавалось за пределы фирм и становилось широкодоступным. И бюрократы, и капиталисты планировали и реализовывали широкую, диверсифицированную структуру промышленности, которая должна была сделать Японию максимально независимой от импорта: эта политика опиралась на соображения национальной безопасности и одновременно была вызвана стремлением олигархов Мэйдзи расширить свою ограниченную базу поддержки в народе за счет материального прогресса. Индустриализация Японии не следовала, впрочем, автоматически из предпосылок эпохи Токугава. Потребовался шок от «открытия» Японии, который вначале привел к тому, что местный рынок заполонили иностранные промышленные товары. Но после 1868 года, с созданием государственного аппарата, который системно использовал наличный потенциал, у индустриализации появилась своя внутренняя логика. Многие предприниматели делали в то же время свои активные инвестиции. Вначале Япония не могла обойтись без западной технологии, импортированных машин и приглашенных советников. Однако технику нередко дорабатывали и адаптировали к японским условиям, а государство мало где так же целенаправленно с самого начала осуществляло импорт технологий102. Часто уже в эпоху Мэйдзи японская промышленность не удовлетворялась только использованием технологий и экспортировала соответствующую лучшим мировым образцам продукцию. Образцовой в этом смысле можно считать часовую промышленность с основанной в 1892 году флагманской фирмой «Сейко» (яп. «точность»), которая сразу смогла выпускать высококачественные механизмы.
Мы не будем исследовать здесь еще одно чудо индустриализации вне Европы – прорыв США при жизни одного поколения к положению ведущей промышленной державы. А равно не коснемся и самой удивительной истории успеха в Европе – образцово-показательной индустриализации Швеции после 1880 года. Но позволим себе пару комментариев. Индустриализация в свободных от рабства северных штатах США в еще большей степени, чем в Японии, развивалась на основе «революции трудолюбия» и заметного роста душевого дохода в эпоху, которую ныне характеризуют как «революцию рынка» (около 1815–1850 годов). В то же время в американском случае большую роль, нежели в Японии, играла международная торговля103. И в случае США не следует преувеличивать, таким образом, драматизм новизны индустриализации, необходимо видеть долгосрочные тенденции. Кроме того, индустриализация США развивалась – хотя и преимущественно, но не исключительно – в условиях частного капиталистического свободного рынка. Федеральное правительство, которое в 1861–1913 годах всего с двумя интермеццо демократических президентов составляла республиканская партия, рассматривало индустриализацию как политический проект и видело интеграцию национального рынка, функционирование золотого стандарта и таможенную защиту национальной промышленности своими собственными задачами104. Индустриализация, лишенная всякой поддержки государства – какой ее видели и считали возможной некоторые либеральные экономисты, —исторически была абсолютным исключением. Никакого противостояния двух моделей – западно-либеральной и восточно-этатистской – не существует.
4. Капитализм
Историческая наука за последние два десятилетия существенно изменила наши воззрения на глобальную индустриализацию. Для многих частей мира ярко проявился XVIII век как эпоха динамики и развития торговли. Развивались концентрация и расширение рынков, специализированное ремесленное производство для ближних и дальних рынков, нередко также для международного и даже трансконтинентального экспорта. Государство – даже такое, которое в Европе мрачно именовали «восточной деспотией», – редко применяло репрессии против этой живой экономической деятельности, поскольку она служила источником растущих государственных доходов. Однако рост населения и подверженность почти всех обществ на Земле «мальтузианским» противодействующим силам не позволяли в целом добиться стабильного реального роста подушного дохода. Поэтому стоит уточнить: многие экономики этой эпохи находились в движении, в некоторых доход на душу населения медленно увеличивался. Но ни одна из них, кроме английской, начиная с последней четверти XVIII века не была нацелена на динамичное развитие, то есть на рост в современном смысле. Этот новый взгляд на XVIII век смещает привычные хронологические схемы. «Революция трудолюбия» могла растягиваться далеко за пределы формальной границы эпохи в 1800 году. Если изменения происходили, то редко так, как долгое время их представляли, – как внезапный «спринт». В то же время Александр Гершенкрон, очевидно, прав в том, что более поздние процессы индустриализации проходили быстрее и за более сжатый период времени, чем в первом и во втором поколении. Примеры – Швеция, Россия и Япония. Как и изначальная промышленная революция в Англии, позднейшие индустриализации также не стартовали, таким образом, с нуля. Их характеризовало скорее изменение темпа и типа в рамках общего движения экономики. С утверждением индустриализации в региональном, а затем и в национальном масштабе результатом ее редко становилось полное господство крупной промышленности. То, что Маркс называет «мелкотоварным производством», часто активно сопротивлялось, а иногда вступало в симбиотический союз с фабричным миром. Природой вещей первые поколения фабричного пролетариата были из деревни и часто еще долго сохраняли с ней связь. Фабрики и шахты становились магнитом не только для урбанизации, но и для сезонного отходничества между деревней и местом производства.
На языке эпохи новый порядок с середины XIX века получил название «капитализм». Карл Маркс, который редко употреблял этот термин в форме существительного, предпочитая говорить о «капиталистическом способе производства», в своей книге «Капитал. Критика политической экономии» (1867–1894) разобрал новую систему как отношения капитала, то есть антагонизм между обладателями рабочей силы и обладателями материальных средств производства. В упрощенной форме – в интерпретации таких авторитетов, как Фридрих Энгельс или Карл Каутский, а на рубеже веков и в реинтерпретации Рудольфа Гильфердинга и Розы Люксембург, – анализ капитализма Маркса стал ведущим учением в европейском рабочем движении. Понятие капитализма вскоре приняли и те, кто относился к новому порядку менее негативно, чем Маркс и его сторонники. В начале XX века исследования и дискуссии «буржуазных», но испытавших влияние Маркса национал-экономов, прежде всего немецких, привели к выработке зрелой комплексной теории капитализма, важнейшими представителями которой были Вернер Зомбарт и Макс Вебер105. В своей совокупности эти теории способствовали тому, что понятие о капитализме вышло за рамки тесной привязки к промышленности XIX века. Вместо обозначения определенной стадии общественно-экономического развития капитализм превратился в универсальную форму экономики, которую отдельные авторы прослеживали вплоть до античности. Были разработаны типологии капитализма: аграрный капитализм, торговый капитализм, промышленный капитализм, финансовый капитализм и тому подобное. Модели немарксистских немецких экономистов строились на отказе от центрального у Карла Маркса основания – «объективного» учения о трудовой стоимости, согласно которому только доступный для исчисления труд создает ценности. Но они и не примыкали к «теории предельной полезности», ставшей с 1870‑х годов общим местом в британской и австрийской экономической науке: теория строилась на том, как участники рынка оценивают свою «субъективную пользу» и распределяют предпочтения в принятии решений.