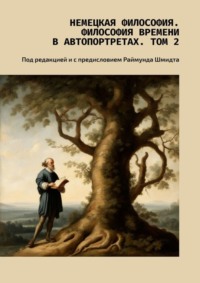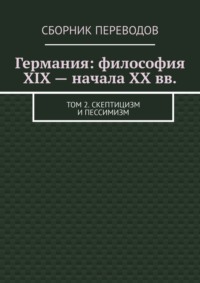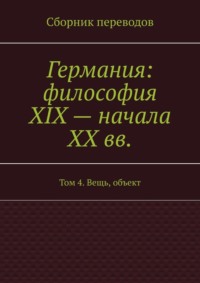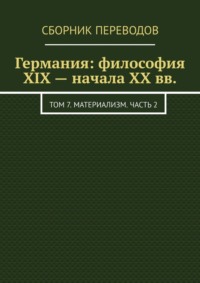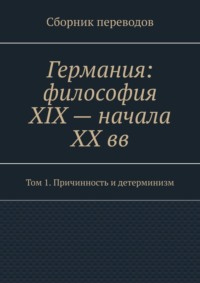Полная версия
Логика Аристотеля. Первый том
Таким образом, соответствующее неудовлетворительное состояние философии не должно поколебать веру в важность самой науки, которая стремится удовлетворить необходимое стремление человеческого разума, стремление к единому взгляду на мир и жизнь; это стремление может отступить на некоторое время, но оно всегда будет вновь заявлять о себе, и вместе с ним философия снова выйдет на первый план духовной жизни. Пока же нашей науке важно сориентироваться в серьезном самоанализе и осмыслении цели, к которой мы должны стремиться, набраться мужества и сил для решения поставленных перед нами задач. На наш взгляд, научное погружение в синтетико-органическое мировоззрение двух величайших античных философов должно внести в это немалый вклад, и коль скоро в наше время речь идет о становлении философии на основе позитивных наук, о взаимопроникновении философского и конкретно-научного, мы поставим Аристотеля перед его великим учителем. Дух и метод его исследований мы и сегодня можем взять за образец во многих отношениях и в самых разных областях. Здесь, где краткость времени не позволяет более детально изучить богатый материал, позвольте мне хотя бы предположить, в чем он, с особенностью его интеллектуального направления, может дополнить и продвинуть современную науку. Синтетический характер его взгляда на мир основан и предполагает универсальность духа и исследования, которая кажется почти непостижимой для нас, современных людей, привыкших к противоположностям и борьбе. Он уделяет одинаковое внимание самым разным областям, одинаково выполняет самые разнообразные требования научного исследования, не отдает предпочтение результатам или методу какой-то одной дисциплины, чтобы сделать ее авторитетной для всего целого, но всегда стремится дать каждому свое и интегрировать особенное как служебное звено в организм целого. Кто станет отрицать, что мы сильно отстаем от него в этом отношении? Разделение отдельных дисциплин и развитие специализированных исследований в строго разграниченных областях, конечно, сделало возможным подъем научной жизни в наше время, но это создает опасность, что особые пути, проложенные отдельными науками, будут вести все дальше и дальше в сторону, что различные дисциплины замкнутся в себе от других отраслей знания, что они будут признавать законными только свои результаты, только разработанный ими метод и таким образом захотят измерить всю вселенную из ограниченного круга одной области. Если же, как это, к сожалению, еще часто случается, отдельная наука, не заботясь обо всем, что лежит за ее пределами, узко отстаивает свою собственную точку зрения, то спор становится неизбежным, а вместе со спором приходят ненависть и страсть. Это, однако, грозит лишить исследователя беспристрастности исследования, чистого и честного чувства истины; науке грозит опасность превратиться в пристрастную проблему и тем самым утратить свою нравственно облагораживающую и возвышающую силу. Чтобы противостоять серьезным опасностям, присущим этим обстоятельствам, пример Аристотеля может оказать нам большую помощь. Чем больше мы погружаемся в его творчество, тем больше понимаем, как он с восхищением признает те направления, которые мы привыкли видеть в упорной борьбе, и стремится примирить их с более высокой точкой зрения. Таким образом, в своих исследованиях он объединяет внимание к частному и стремление к общему. Что касается первого, то даже самые ярые сторонники чисто индуктивного метода вряд ли выразили свои требования сильнее, чем это делает Аристотель. Согласно его метафизическому убеждению, только индивидуальное существо обладает реальностью в самом строгом смысле слова, и поэтому наблюдение за индивидом является для него источником всех знаний; рассуждение из конкретной природы объекта имеет безусловное предпочтение перед рассуждением из общих оснований; каждая отдельная наука рассматривается как замкнутое целое в соответствии с ее особой природой. Везде, где Аристотель проявляет это чувство к частному, везде, где он также стремится более тщательно изучить и обсудить то, что отклоняется от общего правила – как, вероятно, наиболее замечательно показано в его зоологии, – он неоднократно и настойчиво подчеркивает важность «малого» 3и показывает, что многие ошибки в теоретической и ошибки в практической области вызваны игнорированием этого. Как в «Политике» он описывает отдельные конституции государства в преимуществах и опасностях, свойственных каждой из них, так в «Психологических сочинениях» он рассматривает различные формы деятельности души, в «Органоне» он разлагает человеческую мысль на элементы и рассматривает их комбинации по отдельности в их применении, в «Риторике» он объясняет нам различные формы речи с их многообразными требованиями. В качестве независимого исследователя он также изучил самые разнообразные области естествознания и сделал такие подробные и всесторонние наблюдения, особенно в области животного мира, что и сегодня исследования еще не повсеместно следуют за ними. Но с какой бы любовью Аристотель ни погружался в индивидуальное, он не теряет себя в нем; верный своему основному метафизическому взгляду, что индивидуальное имеет существенное значение и научную ценность лишь в той мере, в какой оно выражает общее, он всегда обращает свой взор к целому, к контексту вещей, и как велика была его способность к почти бесконечному расширению, так велика и его способность обобщать и осваивать огромный материал. Повсюду он стремился объединить отдельные явления в группы и найти для них последовательные характеристики и правила; он стремился, где только возможно, образовать ряды и цепи, в которых каждая отдельная вещь занимала бы определенное положение и, следовательно, имела бы определенное значение; он стремился обнаружить аналогии между различными областями и таким образом скрепить внутренними узами даже внешне несхожие вещи, и таким образом он стал создателем сравнительной анатомии, которую справедливо называют философской анатомией. Однако через все отдельные науки он проводит единый взгляд на мир, мощное влияние которого мы ощущаем в любой области; здесь не устанавливается что-то, что отвергается там или оставляется в стороне как безразличное, но то, что относится к одному члену, относится к целому и, следовательно, ко всем остальным членам.
Соответственно, в Аристотеле мы видим, как философия и позитивное исследование взаимопроникают и способствуют друг другу; индивидуальное, чисто для себя и без общей связи, не имеет научной ценности, а общее, не опирающееся на надежный фундамент специализированного исследования, бессодержательно и бесплодно; только в сочетании обоих элементов наука процветает. Поэтому, когда Бако сравнивает деятельность простого эмпирика с деятельностью муравья, который только собирает материал и затем использует его, а деятельность односторонне догматического философа – с деятельностью паука, который сам создает свою паутину, в то время как образ истинного ученого он видит в пчеле, которая собирает материал извне, но затем преобразует и формирует его своей собственной силой, мы, вероятно, не можем применить это последнее сравнение ни к одному мыслителю с большим основанием, чем к Аристотелю. Он также объединяет в основном противоречивые направления, поскольку его усилия в равной степени направлены как на исследование сущности вещей, так и на распознавание различных форм внешнего вида. Он не хочет останавливаться, пока не проникнет за пределы множественности видимостей к единому ядру, и поэтому придает большое значение определению понятий, которые должны раскрыть нам это ядро; поэтому его труды изобилуют фактологически и формально значимыми определениями. Но определения не должны давать лишь общее объяснение или даже простой пересказ рассматриваемого вопроса; они должны скорее прояснять различные характеристики и проявления одного и того же. Если они этого не делают, Аристотель считает их ошибочными и не дотягивающими до простого перечисления индивидов; он полагает, что тот, кто составляет такие пустые определения, обманывает самого себя. В другом направлении он также хочет совместить формальную чистоту и отдельное рассмотрение наук с постоянным вниманием к реальному контексту вещей. С одной стороны, он представляет математику как образец научного исследования вообще, в той мере, в какой она рассматривает нерасчлененное как отдельное; а о том, что это убеждение в превосходстве математического метода стало реальностью в его случае, свидетельствует не только специфически математическая обработка форм мысли в логике, которая воздерживается от какого-либо конкретного содержания, но и весь характер его исследований. Разделение и отдельное развитие отдельных дисциплин было возможно только потому, что наблюдение изначально ограничивалось определенной стороной вещей и направление изначально преследовалось исключительно для себя; кроме того, воздерживающаяся от конкретики трактовка понятий времени и пространства, цели и движения в физике и стремление в метафизических исследованиях постичь бытие как таковое без его детерминаций, случайных с понятийной точки зрения, показывают, насколько абстрагирующее направление мысли определяет научную процедуру Аристотеля. Но это не приводит его к ошибке, когда он отделяет концептуально отдельное от реального и тем самым неверно оценивает естественную связь между вещами. Точно так же, как при объяснении форм мышления он всегда имеет в виду отношение к бытию, формы речи он рассматривает с постоянным учетом логики и психологии, а учение о государстве строит на принципах этики.
Таким образом, несмотря на формальную чистоту наук, его приверженность реальной связи вещей защищает его от любого схематизма и формулизма, смертельных врагов здоровой научной жизни. Объединяя в своих исследованиях различные и часто противоречащие друг другу школы мысли, Аристотель получает возможность непредвзято рассматривать и оценивать различные точки зрения; поскольку он смотрит на все открыто и с одинаковым интересом, он может объективно и беспристрастно судить о фактах исторического развития. Ведь для того, чтобы быть беспристрастным, недостаточно просто иметь добрую волю; нужна сила, чтобы воспринять различные точки зрения и подняться над их односторонностью; только тогда можно судить sine ira et studio [без гнева и энтузиазма – wp] и не любить или ненавидеть людей и вещи, а прежде всего понимать их. Если, таким образом, рассматривать истинную беспристрастность как признак всеобъемлющего и сильного духа, то мы можем добавить новый лист к венцу славы Аристотеля. Он не только выражает намерение быть не стороной, а арбитром в суждении своих предшественников, но и действительно осуществляет это намерение, как, например, ему нисколько не мешает связь с идеально-динамическим воззрением Платона признать положительные заслуги атомиста Демокрита для точных естественных наук без оговорок в почетных выражениях, в то время как он ни разу не упоминается в Платоне. В целом, однако, Аристотель нигде не проявляет простого пренебрежения или резкого неприятия, если только он не сталкивается с морально предосудительной позицией. Его стремление всегда направлено на то, чтобы понять каждое историческое явление в соответствии с его происхождением и беспристрастно оценить его ценность; даже в ошибках он все равно стремится доказать истинность элемента или, по крайней мере, оправданность его стремления. Однако для универсальности его школы характерна тенденция приписывать ошибку односторонности: показать, что человек заблуждается, принимая абсолютно то, что справедливо только в определенной сфере и при ограниченных условиях. Затем он сам хочет примирить направления, которые отменяют друг друга в своей односторонности, в более высокой точке зрения, чтобы прийти к абсолютной истине из единственных относительных направлений. Если мы, таким образом, убедились в постоянном стремлении Аристотеля возвыситься над противоположностями, то это можно сказать и об участии его ума: при всей его теплоте, он, тем не менее, совершенно однороден. Если в «Метафизике» он восхваляет эту науку как божественную, которая одна находит свою цель в самой себе и потому одна заслуживает названия свободной, то в «Трактате о частях животных» он в восторженных выражениях говорит о невыразимых радостях, которые доставляет изучение естественных наук, и применяет к ним слова Гераклита «Входите – здесь тоже боги», а с другой стороны, в «Этике» идеальные зарисовки из области нравственной жизни, набросанные с благородным энтузиазмом и выполненные в широких контурах, показывают, насколько ярко и здесь задействован разум. Такое всестороннее участие не позволяет сдерживать ограниченные субъективные настроения; нигде не возникает личных предпочтений в пользу той или иной точки зрения, нарушающих беспристрастность обсуждения. Поэтому мы не находим ни крайних утверждений, ни парадоксальных теорий, которые при всем своем внешнем ослеплении обычно выдают лишь безудержную субъективность мыслителя.
Аристотель всегда сохраняет меру, которую он так часто представляет в своих сочинениях как норму и цель, и поэтому к нему можно было бы применить слова Лессинга: «Прерогатива древних – не делать ни слишком много, ни слишком мало для какой-либо одной вещи». Таким образом, когда личность мыслителя полностью отступает, сами факты как бы вступают в отношения друг с другом, противостоят и сочетаются; это диалектика вещей, которая привлекает нас и подчиняет мысли философа. Так бывает4, что, проследив до конца аргументацию Аристотеля, мы не только убеждаемся, что услышали мнение выдающегося человека, но и не можем отделаться от ощущения, что теперь вопрос решен окончательно и навсегда. Если, таким образом, аристотелевская философия служит для нас образцом, позволяя максимально освободиться от субъективных настроений и партийных интересов и в чистой любви к истине интересоваться только самим вопросом, то она становится способной оказывать подлинно нравственное влияние. Ибо очищающее и облагораживающее влияние теоретического исследования состоит именно в том, что оно заставляет нас направлять наши усилия вне эгоизма нашей природы, вне всех личных интересов и желаний, на одно только дело, что оно таким образом приучает нас к совершенно бескорыстному участию, к бескорыстному стремлению.
Этот аспект, который мы имеем честь рассмотреть здесь, может служить примером того, как аристотелевская философия все еще способна оказывать благотворное влияние на науку. Разумеется, мы ни в коем случае не собираемся останавливаться на старом философе в схоластическом духе в ущерб самостоятельным исследованиям; мы всегда помним о том, как неизмеримо расширились с тех пор наши знания о мире, как очистились и углубились наши этические концепции, как отличаются практические задачи современности от задач того времени; мы также не хотим представить научный метод Аристотеля как непременно образцовый: актуальные философские дисциплины требуют более резкого анализа основных понятий, а именно различения субъективных и объективных элементов нашего знания, естественные науки развили индукцию в теории и на практике гораздо дальше Аристотеля, но как бы мы ни признавали – и не только признавали – все это, то, что мы говорили о непреходящем значении Аристотеля, остается нетронутым. Историческое наблюдение должно научить нас различать преходящее и постоянное в творчестве великих людей, способных приносить все новые и новые плоды с вечным сроком действия. Однако Аристотель остается непревзойденным примером для подражания в веках, поскольку он разработал синтетико-органическое мировоззрение на основе тщательнейших индивидуальных исследований в различных науках; погружение в его универсальное духовное направление, гармонично объединяющее противоположности, может помочь уберечь нашу науку от опасности, что ее неоспоримые достоинства станут односторонними, а значит, слабыми; огромная философская мощь, проявившаяся в его личности, может укрепить наши собственные силы и укрепить нашу веру в будущее нашей науки. Таким образом, мы видим в нынешнем расцвете аристотелевских исследований вполне приятное явление и желаем ему дальнейшего благодатного процветания, особенно в университетах, которые изначально призваны сохранять научную традицию.
LITERATUR – Rudolf Eucken, Über die Bedeutung der aristotelischen Philosophie für die Gegenwart, Berlin 1872
Густав Гербер (1820 – 1901)
Язык и познание
Критика языка.
Когда вещи постепенно обрели многогранность, то есть надежную перспективу и рассмотрение среди людей благодаря множественности имен, и когда различные обстоятельства, в каких употребление приводит слова, постепенно ограничили их образную неопределенность, сделав их как бы устоявшимися в своем значении, они затем начали передаваться из поколения в поколение, соединяя их в долговечное образование, интеллектуальное развитие которого они поддерживают и сохраняют. Именно это слово дает политическим партиям их знамя: Здесь Welf, здесь Waiblingen! и словосочетания, вокруг которых они сплачиваются: Мир и порядок! Свобода и равенство!
В определенные периоды исторический облик религии связывается с терминологией: монофизиты, монотеисты, просвещение, Троица, «это есть» и «это значит» – и не меньшим научным рвением, когда речь идет о том, чтобы орудовать дубинками с именами: атеист, пантеист, идеалист, реалист. – Не будем обращать внимания на внутреннее оправдание, с которым мы вводим эти термины в обиход как неизменные, всегда связанные с одним и тем же смыслом, – но кто не знает, что такой полевой клич действует на людей, как трубный сигнал на боевого коня, что толпа, доминируемая своей численностью, слепо, до смерти следует за выданным лозунгом, – и что эти энтузиасты обычно знают больше о деле? – но что без лозунга их вообще нельзя привести в движение?
Гердер говорит (Spruch und Bild in den Zerstreuten Blättern, vol. 21):
«Как редко встречаются среди людей своеобразные, оригинальные мыслители! Человек с такой готовностью следует советам других, видит, даже если считает, что видит своими глазами, так часто чужими глазами, и ходит на подводе языка!»
Шопенгауэр (Welt als Wille und Vorstellung, vol. 2) заявляет:
«Человек помогает себе кьяроскуро, в котором он любит тянуться к словам, чтобы успокоить себя, особенно к тем, которые обозначают неопределенные, очень абстрактные, необычные и трудно объяснимые понятия, такие как бесконечное и конечное, чувственное и сверхчувственное, идея бытия, идеи разума, абсолют, идея добра, божественное, нравственная свобода, самопорождающая сила, абсолютная идея, субъект-объект и т. д. Они уверенно разбрасываются такими словами. Они уверенно разбрасываются ими, действительно верят, что выражают мысли, и ожидают, что все будут ими довольны: ведь высшая вершина мудрости, которую они могут предвидеть, – это иметь наготове такие готовые слова на все возможные вопросы. Эта невыразимая достаточность слов весьма характерна для дурных умов».
Точно так же в языке не хватает собственных оригинальных выражений для абстрактных, духовных понятий; чтобы сохранить их, существующим словам придаются другие значения. Это происходит не намеренно и не скачками, так же мало, как и при переходе от сенсорного восприятия к абстрактному мышлению. Скорее, одно и то же слово постепенно понимается по-разному, причем, в зависимости от уровня образования говорящего, всегда есть разница в понимании, а некоторые вещи даже не понимаются в целом и, таким образом, выпадают из обихода. Такие слова, как воспринимать, чувствовать, ощущать, воображать, думать, распознавать, понимать, разум, вера, наука и т. п., иногда имеют определенные значения в соответствии с конвенцией, которые имеют мало общего с жаргоном.
Именно на таких абстрактных понятиях строятся доктринальные здания человеческой науки; предпочтительно на них базируются все системы, которые можно назвать метафизическими в самом широком смысле.
Кант противопоставляет метафизику, «поле бесконечных споров», которая в его время «вызывала лишь усталость и полный индифферентизм», своей «Критике чистого разума». Однако то, что он предвидел (в прологе к jed. zuk. Metap.): «стремление к метафизике никогда не пропадет, потому что интерес всеобщего человеческого разума слишком тесно переплетен с ней», продолжало оставаться верным и в наше время привело к более тесной связи исследований с естественным, с эмпиризмом. Однако, как мы уже отмечали, разум имеет свое эмпирическое существование только в языке, так что «Критика чистого разума» Канта сегодня трансформируется в «Критику языка».
Мы даем здесь наши намеки на то, что именно художественный характер языка должен быть признан, чтобы такая критика была плодотворной. Опровержения и новые констелляции, основанные лишь на абстрактных понятиях, ни к чему не приведут. Как мы мыслим образами образов, так, если мы хотим оставаться в той же сфере живописного, может возникнуть самодостаточная аллегория как система, не противоречащая самой себе, которая, как притча, как продукт искусства языка, может быть столь же истинной и оправданной сама по себе, как и другие произведения поэзии – за исключением того, что они, в силу своей чисто дидактической тенденции, не способны развивать чувственную привлекательность. Кант видит это так же (Proleg. zu je. zuk. Metaph. §52b.):
«Можно, говорит он, различными способами вмешиваться в метафизику, точно не опасаясь, что ступаешь на ложь. Ибо, если только не противоречить самому себе, что вполне возможно в синтетических, хотя и полностью фиктивных предложениях; так и во всех подобных случаях, когда понятия, которые мы связываем, являются просто идеями, которые не могут быть даны в опыте, мы никогда не можем быть опровергнуты опытом».
Привлекательность таких систем заключается в архитектонике композиции, которая, по крайней мере, может удовлетворить и порадовать тех, кто способен ею наслаждаться. В последнее время Ф. А. Ланге (Geschichte des Materialismus) особенно подчеркивает художественный характер философии. Он заявляет:
«Пусть философы тоже будут допущены, если они назидают нас, а не изводят догматическими препирательствами. Искусство свободно даже в области понятий».
Далее, где он говорит конкретно о Гегеле:
«Поэзия понятий, когда она возникает в результате богатого и всестороннего образования, имеет большое значение для науки. Понятия, которые вырабатывает философ этой формы, – это не просто мертвые рубрики для результатов исследования; они имеют богатые отношения к сущности нашего знания, а значит, и к сущности того опыта, который только и возможен для нас», наконец: В отношениях науки мы имеем фрагменты истины, которые постоянно увеличиваются, но постоянно остаются фрагментами; в идеях философии и религии мы имеем образ истины, который представляет ее нам во всей полноте, но все же всегда остается образом, меняющим форму с точкой зрения нашей концепции.»
Метафизические системы, поскольку они стремятся постичь абсолют, создают художественное произведение в виде мифологической аллегории. Религиозные поэмы индусов, теогония Хесиода, доктрина «всеединого» Спинозы, логика Гегеля находятся на одной линии с искусством; они отличаются лишь более практичным, более критическим сознанием, с помощью которого позднее время защищается от неприкрытого мифотворчества. Философ верит, что он может конституировать понятия, свободно генерировать их, руководствуясь лингвистической техникой и искусством языка, которые затем возводятся в ранг мировых законов.
Так создаются метафизические боги и мифология. Якоби (к Фихте) говорит:
«В целом, что касается суеверия и идолопоклонства, то мое мнение таково, что совершенно одинаково, занимаюсь ли я идолопоклонством с помощью деревянных и каменных изображений, занимаюсь ли я им с помощью церемоний, чудесных историй, жестов и имен, или же я занимаюсь им с помощью философских сквозных понятий, голых буквальных существ, пустых воображаемых форм».
Макс Мюллер показывает, как многое из того, что до сих пор оставалось загадкой в происхождении и распространении мифов, становится понятным, если рассматривать его в контексте ранних фаз развития, через которые должны были пройти язык и мышление:
«Мифологическое, в том смысле, в котором я его использую, применимо к любой сфере мысли и к любому классу слов, хотя религиозные идеи легче всего входят в мифологическое выражение. Так вот, как часто слово, которое впервые было использовано метафорически, используется без очень четкого представления о ступенях, которые привели его от первоначального значения к метафорическому, существует равная опасность того, что оно будет использовано мифологически; как часто эти ступени забываются, а на их место ставятся искусственные, мы имеем мифологию или, если можно так выразиться, язык, который стал больным.»
Теперь можно представить себе, как мы только что видели в замечаниях Макса Мюллера, что неудачи метафизических систем объясняются просто небрежностью, с которой метафорические значения придаются словам без пристального внимания к тому, что с ними делают; Ведь при философствовании человек отказывается, как ему кажется, от переносного значения слов, рассматривает их как просто знаки, обозначающие мысль, и таким образом – если только быть внимательным – защищен от того, чтобы просто создавать слова, пока хочется думать.