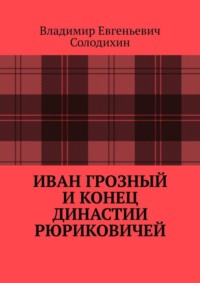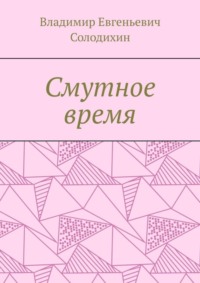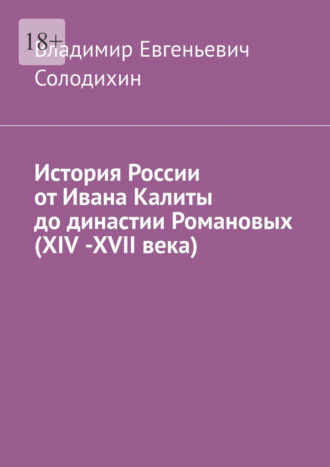
Полная версия
История России от Ивана Калиты до династии Романовых (ХIV -ХVII века)
Василий приговорил Косого к тому же наказанию, что и Всеволжского, ослеплению (он считал, что это наиболее адекватная мера ответственности практически за любое преступление).
После приведение приговора в исполнение Косой прожил еще больше десяти лет совершенно другой жизнью. Несчастного нищего слепца (у него еще отняли все имущество) пригрели старые знакомые по воровским делам. С ними он еще много чего наворотил, шокируя своей преступной деятельностью родственников и возмущая общественность. Однако, о его криминальных «подвигах» нужно писать отдельную книгу. Здесь же мы прощаемся с этим персонажем, поскольку он не имел больше никакого отношения к борьбе за великое княжение.
С уходом Косого с политической сцены на Руси временно восстановился мир.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. РЕЛИГИОЗНЫЙ КОНФЛИКТ
В мирную паузу, образовавшуюся после ослепления Косого, на арене истории возник религиозный конфликт.
После смерти митрополита Фотия (1401 год) византийских патриарх прислал на Русь преемника, некоего митрополита Герасима, у которого любимой присказкой было «Герасим на все согласен». Несмотря на такой девиз, митрополит не решился ехать в Москву, опасаясь попасть под горячую руку кому-нибудь из воюющих князей, а остановился в Смоленске.
– Я на все согласен, кроме того, чтобы меня убили! – объяснил Герасим свой поступок.
Однако Смоленск оказался не безопаснее Москвы. Литовский князь Свидригайло, воюющий за власть со своими родственниками, обиделся на митрополита за то, что тот вошел в тайный сговор с его врагами, и сжег Герасима на костре.
Русь снова осталась без митрополита.
В этот раз византийский патриарх долго не присылал преемника. Надо отметить, что к этому времени ранее могущественная Византийская империя, была почти полностью захвачена турками. Лишь одна ее столица, Константинополь, оставался гордо стоять, возвышаясь над проливом Босфор, среди турецких владений.
В такой обстановке патриарх совершенно забросил работу и целыми днями бегал на набережную, ожидая вместе с другими зеваками появление турецких кораблей.
– Я что им каждый день по митрополиту присылать должен? – отмахивался он на просьбы заняться русской митрополией.
Только в 1437 в Москву прибыл новый митрополит, грек Исидор. Это был ученейший человек, друг философов и сам богослов, большой любитель Платона, Цицерона, Софокла и Гомера.
Василий, который ничего такого не знал и не читал, с самого начала невзлюбил нового главу русской церкви.
– Строит из себя умного! – раздраженно говорил он. – Какие-то непонятности говорит! Заумные слова! Одно слово – интеллигент! Так и хочется дать ему в морду!
Едва приехав в Москву, Исидор засобирался в командировку в Италию на Вселенский собор, где католические и православные священники собирались дискутировать о догматах веры и других богословских вопросах.
– Ты с католиками долго не болтай! Сразу бей им в рыло! – инструктировал его перед поездкой Василий. – Эх, мне бы поехать с ними разобраться! Не могу! Мне еще здесь кое-кому накостылять надо. Но ты учти, если не надоешь по рогам папе Римскому, я тебя уважать перестану!
В Ферраре, а затем во Флоренции лучшие умы Европы месяц за месяцем бились в споре, пробуя все хитрости богословской диалектики. Предметом спора между католиками и православными были три основных вопросов:
– Об исхождении Святого духа. Католики доказывали, что он исходит от Отца и сына, а православные, что только от Отца. Об этом спорили каждый день с утра и до обеда, как бы для разминки, чтобы затем перейти к более принципиальному второму вопросу;
– О загробной жизни. Православные считали, что после смерти человек попадает либо в рай, либо в ад, а третьего не дано. Католики стояли за то, что, кроме этого, есть чистилище, где находится некий «средний класс», т.е. в основном людишки, которые при жизни не совершили никаких серьезных злодейств, но и хорошего тоже особо ничего не сделали. В чистилище этих людей, которые, как говорится «ни рыба, ни мясо» понемногу поджигают, чуть-чуть терзают, умеренно обдувают ветрами, но в целом их положение достаточно комфортное по сравнению с теми, кто томится в аду;
– Третий вопрос был самым принципиальным. Касался он не шуточных вещей – таинств евхаристии, то есть причастия. Суть спора была в том, какой хлеб может быть употреблен в священнодействии: пресный или квасной. Как мы понимаем, чтобы победить в таком споре нужно было быть не только знатоком в богословии, но и искусным кулинаром. Поэтому этот вопрос разбирался ближе к вечеру, чтобы потом сразу идти хорошенько подзакусить.
Был еще четвертый вопрос, о котором почти не говорили в слух, но всегда держали в уме – является ли папа Римский главой христианской церкви или у него есть равный по рангу коллега, Византийский патриарх.
Нечего говорить, что все эти вопросы были настолько серьезными и глобальными, споры жаркими, а соперники непримиримыми, что собор продолжался несколько лет, а мог бы продолжаться по сей день, если не одно обстоятельство.
Дело в том, что в глубине души православные византийцы надеялись, что, если они предадут свои идеалы и согласятся с католиками, то за измену получат в награду финансовую и военную помощь в борьбе с турецкой угрозой.
Поломавшись для виду четыре года (1438—1442 годы), они согласились с католиками во всем, за что получали от папы Римского несколько тысяч флоринов и триста воинов, которые должны были теперь защищать Византию (наверное, по аналогии с тем же количеством спартанцев, вставших на пути персов в Фермопильском проходе).
Митрополит Исидор, подписав вместе с другими Флорентийскую унию о присоединении православной церкви к католической, вернулся в Москву (1441 год).
Народ с нетерпением ожидал своего Владыку, поскольку уже много лет не слушал митрополичьей проповеди. По случаю его приезда на улицах собрались толпы людей, которые в радостном возбуждении бежали в Кремлевский Успенский собор. Храм не смог вместить в себя всех желающих, большинству пришлось стоять на улице, прислушиваясь к Литургии.
– Принес я вам добрую и радостную весть, прихожане! – между тем, объявил Исидор. – Закончилась долгая, изнурительная и никому не нужная борьба двух христианских церквей: православной и католической. Бог на свете один, правда его одна и церковь должна быть одна. Посему повелели отцы обоих наших братских церквей, что быть отныне одной христианской вере на Земле, а папа Римский стал главой нашей церкви. Как писал в древности великий поэт Гомер…
Но никто не узнал, что писали Гомер, Платон, Цицерон и другие авторы, на которых хотел сослаться в своей речи Исидор.
– Мне по фигу, что писал Гомер! – на амвон неожиданно для всех выскочил великий князь Василий и дал, растерявшемуся митрополиту, в пятак.
– Вы что с ума сошли? – только и смог сказать глава русской церкви, и тут же получил увесистый пинок под зад.
– Что вы хулиганите?! Я считаю…
– Мне плевать, что ты считаешь! – наступал на него Василий. – Я тебе повелел избить папу Римского, а выходит он избил тебя?! Православие слить хочешь?! Да я тебя, падла еретическая, на куски порву! Я тебя твоего Нерона с Цицероном сожрать заставлю! Я тебя прямо здесь завалю, интеллигент вонючий!
Дискутировать с учеными на Флорентийском соборе оказалось для митрополита Исидора не в пример легче, чем с Василием Вторым. Он бросился из церкви, но был схвачен, арестован, заточен в монастырь, из которого снова бежал уже за границу.
Там он сделал неплохую карьеру и прожил еще больше двадцати лет, окончив жизнь сообразно со своей ученостью – деканом коллегии кардиналов в Риме. Однако всю оставшуюся жизнь он не мог спать спокойно, каждую ночь просыпаясь в поту, ему снился Василий, который гонялся за ним с длинным ножом и беспрерывно страшно кричал.
С отъездом митрополита Исидора русская православная церковь, не признавшая Флорентийской унии, фактически стала автокефальной, то есть независимой от православной церкви Византии.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. КОНФЛИКТ С СУДЬЕЙ УЛУ-МУХАМЕДОМ И ПЛЕН ВАСИЛИЯ ВТОРОГО
Тем временем, с Василием произошла еще одна неприятная история, которая имела далеко идущие последствия.
Однажды он получил письмо от Улу-Мухамеда, того самого хана Золотой орды, который судил их спор с князем Юрием Дмитриевичем:
«Драгоценный и незабвенный друг мой Васенька!
Пишет тебе твой хан и судья Улу-Мухаммед. Помнишь, как я справедливо судил тебя с твоим дядей Юрием и в нарушении всех законов и традиций присудил тебе великое княжение? Я в свою очередь прекрасно помню твои великолепные подарки и слова о вечной любви ко мне, сказанные после процесса.
Судьба, увы, переменчива.
Еще совсем недавно судил тебя я, сидя в блеске великолепия на троне, а вот уже судят меня, и мне приходится бежать от врагов и искать защиту в твоей стране.
Да. Теперь я – нищий изгнанник, и вынужден просить тебя о защите и покровительстве.
Любезный друг, Вася! Я нисколько не сомневаюсь в твоем благородстве и абсолютно уверен, что ты мне поможешь, как того обещал.
Пришли мне для начала немного денег!
Остаюсь навеки твой, Улу-Мухамед».
– Принесла его нелегкая! – поморщился Василий, прочитав письмо. – Сначала я ему помогу, а потом приедут его дружки из Золотой Орды и начнутся разборки! Оно мне надо? Короче, этого козла Мухаммеда нужно выдавить с нашей земли, как гнойный прыщик! Приказываю схватить его, связать и ослепить!
Московская рать двинулась в верховье реки Оки в городок Белев, где скрывался изгнанник (1437 год). Командовал армией Дмитрий Шемяка, который был амнистирован и досрочно выпущен из тюрьмы в честь окончания гражданкой войны с Косым. Русские войска окружили город и предложили Улу-Мухаммеду добровольно сдаться.
– Отдам своего любимого сына, Мамутека, вам в залог! Когда же великий Аллах возвратит мне царство, я освобожу Русь от всех налогов! – слезно плакался бывший судья.
– Мы бы рады тебе помочь, бедняга, да боимся гнева нашего великого князя! – отвечал Дмитрий Шемяка.
– С Василием никаких проблем не будет! – заверил Улу-Махаммед. – Мы с ним лучшие друзья! Я его судил в свое время, и он меня очень уважает!
– Не знаю, браток, как он тебя уважает, а только знаю, что мне он строго настрого велел ослепить тебя!
Услышав такую новость, Улу-Мухаммед понял, что терять ему нечего, собрал в кулак всю свою волю и с маленьким отрядом бросился на огромную русскую рать.
Шемяка даже не успел одеть доспехи, как его армия исчезла в неизвестном направлении (впоследствии главного паникера, воеводу Протасьева, как положено, ослепили).
Улу-Мухаммед ушел на Волгу, где основал Казанское ханство.
Там он вновь почувствовал твердую почву под ногами и стал совершать периодически набеги на Русь, совмещая полезное (грабежи) с приятным (местью Василию).
В июле 1445 года один из отрядов Улу-Мухаммеда под командованием его сына Мамутека (того самого, которого он когда-то предлагали в заложники), разорял окрестности Суздаля.
Василий, которому порядком надоел и сам Улу-Мухаммед, и его сыновья, отправился лично разбираться с ним.
– Я буду не я, если я не ослеплю поганого Мамутека и его паршивого отца, Улу-Мухаммеда! – грозил он по дороге.
На реке Каменке недалеко от Спасо-Евфимьева монастыря произошел бой. Сначала казанцы в панике побежали, однако, как потом выяснилось, это был их обычный тактический маневр (они часто им пользовались). Когда московские войска бросилась за ними в погоню и потеряли свой строй, казанцы развернулись, бросились на москвичей и принялись их рубить. Много русских погибло, а все руководство, во-главе с самим Василием Вторым, сдалось в плен.
Как писал по этому поводу летописец: «Москва много раз видела своих государей в бегстве, но никогда в плену».
– Неужели наш Васька не мог убежать? – удивлялись москвичи. – Его что парализовало от страха или он в обморок упал? Хотя ему, конечно, и в плену неплохо. Небось, там его и покормят, и попоят! Сидит себе да радуется, а нам теперь как жить неизвестно!
Московское княжество, в котором еще недавно боролись за власть два княжеских рода, оказалось обезглавленным. О том, чем это обернулось расскажем в следующей главе.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ШЕМЯКИН ПУТЧ
После пленения Василия Второго власть в стране перешла к Дмитрию Шемяке, как старшему в княжеском роду.
После предыдущий перипетий Шемяка, естественно, не питал нежный чувств к двоюродному брату, считая, и не без оснований, что тот по беспределу упек его в свое время за решетку.
Вскоре в Москве появился посол Улу-Мухаммеда некий Бегич.
– Ваш великий князь теперь у нас, и мы хотим за него выкуп! – объявил он Шемяке. – Очень большой выкуп! Великий князь – это не простой человек, который стоит копейки! Великий князь – это очень, очень дорого!
– Послушайте, любезный Бегич! – улыбнулся Шемяка. – Все в нашем мире относительно. Для вас, я вполне допускаю, Васька стоит очень дорого. Для меня же он ничего не стоит. Вернее так, если вы мне за него заплатите хорошую цену (только очень хорошую), то я, возможно, подумаю, чтобы взять его обратно!
– Вы что издеваетесь? – нахмурился Бегич. – Предупреждаю, если вы не будете платить хорошую цену, то мы его убьем!
– Прекрасно. Мне это очень подходит. Скажу больше, когда вы его убьете, я хорошо отблагодарю вас. Понимаете меня?
– Тогда я поеду его убивать! – подумав решил, Бегич. – Только заплати мне аванс.
Бегич получил предоплату за киллерский заказ и отправился в обратный путь.
В это же самое время в Нижнем Новгороде происходил разговор между плененным Василием и Улу-Мухаммедом, который второй раз стал его судьей.
– Проклятый, шайтан! – ударил ногой связанного пленника Улу-Мухаммед. – Ты зачем хотел ослепить меня, сын шакала и сам шакал?!
– Меня подставили! – завопил Василий. – Я даже в мыслях никогда не держал тебя ослепить, дорогой друг и брат! Я беззаветно люблю тебя и безгранично предан тебе еще с тех времен, когда ты в первый раз судил меня! Как ты мог поверить клевете? Посмотри в мои честные глаза!
– Врешь, гад! Ты почему не отвечал на мои письма?
– Клянусь, что ничего не получал!
– И рать на меня не посылал?
– Какую рать? Ничего не понимаю!
– Шемяка, твой воевода, пришел с ратью в Белев и хотел ослепить меня!
– Ах, вот оно в чем, оказывается, дело! А ты знаешь кто такой этот Шемяка? Это же всем известный мерзавец! Я уже не раз сажал его в тюрьму за лживость! Видно, мало было! И семейка его вся сплошь состоит из воров и бандитов! Его родной брат по кличке, Косой, воевал со мной несколько лет, а сейчас стал главным вором всея Руси! Его отец, Юрий, дважды выгонял меня из Москвы, пока Господь бог, наконец, не возмутился и ни наказал его смертью! Вот кому ты поверил, любимый мой Мухаммед! Обидно! Клянусь! Много лет я хранил в сердце любовь к тебе, а ты поверил гнусному клеветнику!
– Я не знаю! – растерялся Улу-Мухаммед. – Получается Шемяка действовал против твоей воли?
– Наконец-то до тебя доперло! – осуждающе покачал головой Василий. – Все это дело рук негодяя Шемяки! Он перехватывал твои письма ко мне, а мои к тебе! А ведь я писал тебе, каждую неделю писал, как люблю тебя! И вот сейчас я лежу связанный у твоих ног только за то, что меня гнусно оболгали! Вот как ценится в нашем мире дружба и любовь!
– Теперь я все понял, брат! – обнял его Улу-Махаммед. – Развяжите его! Забудем старое! Теперь мы вновь лучшие друзья! Езжай домой, старина! Но денег мне все равно пришли, а то моя братва не поймет меня!
Вскоре Василий живой и невредимый вернулся на Русь.
Шемяка, который уже считал себя великим князем, был в шоке.
– Как так? – говорил он своему другу Можайскому князю Ивану. – Я был уверен, что его уже нет на свете, в церкви не одну свечку за упокой поставил, молился, чтобы он попал в рай, а он, оказывается, даже не умер, козел проклятый!
– Я не меньше твоего потрясен! – согласился князь Иван. – Да и в самой Москве многие недовольны. Говорят, он с казанцами якшается, а Улу-Мухаммед
у него теперь лучший друг! Не очень это нашим людям по сердцу!
Друзья еще долго шептались и, в конце концов, решили действовать.
В феврале 1446 года Василий с женой и маленькими детьми поехал на богомолье в Троице-Сергиев монастырь.
Несколько монахов этого почтенного учреждения оказались секретными агентами Шемяки и сразу сообщили своему патрону о появлении великого князя.
Ночью 12 февраля Шемяка с небольшой, но хорошо подготовленной группой военных без всякого сопротивления овладел Кремлем, куда его пустили тайные сторонники.
На следующий день Можайский князь Иван с группой захвата тихо нейтрализовал великокняжеский дозор, который охранял подступы к Троице-Сергиеву монастырю, а затем арестовал самого Василия.
– Вы совершаете незаконный путч! – кричал великий князь. – Не трогайте меня! Что это такое делается на Руси? Великого князя вяжут! То поганые казанцы меня пленили, а теперь собственные подданные сбесились, как собаки! Немедленно развяжите меня и попросите прощение! Кто вы такие? Я ничего не понимаю!
– Сейчас доставим тебя к князю Дмитрию Юрьевичу и тебе все объяснят! – крепко вязали его дружинники Шемяки.
В ночь с 13 на14 февраля Василия доставили под конвоем в Москву и сразу передали палачу для ослепления.
– Это варварство и средневековая дикость! – вырывался великий князь из-под ножа. – Как можно ослеплять живого человека? Разве это по-русски? Разве
по-христиански?
– А ты сам сколько народу ослепил? – возражал ему палач.
– Меня обманули! Мне сказали, что это очень хорошее наказание! Подлецы и мерзавцы уверили меня, что человек не сильно огорчается потерей зрения! Каюсь в том, что я поверил негодяям, но разве легковерие может наказываться так ужасно?! Я клянусь, что, если вновь стану великим князем, обязательно запрещу ослеплять! Нам пора остановиться, а то скоро на Руси не останется зрячих людей! Вы что хотите, чтобы у нас была страна слепых? Я с этим не согласен!
– Хватит дергаться! У меня нож срывается! Сам себе хуже делаешь! – предупредил палач.
Несмотря на крики жертвы и ее отчаянное сопротивление, работа была выполнена. Правда, из-за того, что Василий дергался и извивался, кроме глаз у него оказалось изрезанным все лицо. Великий князь стал не только слепым, но и очень некрасивым (после этого он всю жизнь носил черную повязку во все лицо).
Некоторые историки считают, что именно из-за слепоты Василия прозвали «Темным». Мы же считаем, что дело не только в этом. Если правление его отца тоже Василия можно условно и с большой натяжкой назвать светлым, то по сравнению с ним времена Василия Второго с его междоусобными войнами оказались темными. Люди, чтобы различать двух Василиев, при которых они жили, прозвали первого «Светлым», а второго «Темным». В дальнейшем прозвище «Светлый» как-то позабылось (хорошее часто забывается), а вот кличка «Темный» сохранилась на века.
После ослепления Василия доставили под конвоем в Углич и заточили в темницу.
Шемяка привел к присяге москвичей, но даже после целования ими креста, не переставал подозревать их в измене.
Московское боярство воспринимало его, как сына хорошо известного им Юрия Дмитриевича, в страхе ожидало теперь продолжения когда-то открытых уголовных дел по взяткам и коррупции. Значительная часть провинциальной элиты также не приняла переворот, считая его незаконным. Многие тайно мечтали освободить Василия, и вокруг нового правителя стали плодиться заговоры недовольных.
В этой сложной ситуации, находясь в Москве среди потенциальных врагов, Шемяка стал думать, как ему укрепить свое положение. Одним из самых эффективных для этого средств было опереться на авторитет церкви.
Уже пять лет прошло, как Василий арестовал митрополита Исидора, а митрополичья кафедра оставалась до сих пор пустой.
Со времен принятия христианства при Владимире Ясное солнышко митрополитов на Русь назначали в Константинополе. Однако теперь после подписания константинопольским патриархом Флорентийской унии об этом не могло быть и речи. Авторитет патриарха упал до нуля и к нему стали относиться не многим лучше, чем к Иуде, продавшем Иисуса.
Откуда теперь брать митрополита было совершенно непонятно.
Шемяка встретился с Рязанским епископом, Ионой, и нарисовал ему расклад. Он, Шемяка, своей властью делает Иону новым митрополитом всея Руси, а тот в свою очередь оказывает ему политическую поддержку, в частности заставляет Василия признать над собой власть двоюродного брата.
Соглашение было достигнуто. Вскоре Иона созвал представительное церковное совещание с участием всех епископов, архимандритов и игуменов. Совещание в полном составе посетило в заточении Василия Второго.
– Ты должен покаяться публично, что правил нами грешно! – сразу налетел Иона на изумленного Василия. – Ты должен в присутствии всех священнослужителей нашей церкви поцеловать крест, в том, что больше никогда не посмеешь домогаться великого княжения! Смирись, окаянный! Смирись, грешник! Ты заслуживаешь самого страшного наказания! Только благодаря милосердию нашего благословенного князя Дмитрия Юрьевича ты еще остаешься в живых!
– Чего вы на меня кричите? Мне и так плохо, а вы меня ругаете!
– Я не только кричать умею! – надрывался Иона. – Я тебя еще прокляну, если ты немедленно не признаешь над собой верховной власти Дмитрия Юрьевича!
– Сначала проклянем, а потом удавим! – поправил Шемяка.
Василий не стал противиться и сделал все, что от него требовали. Он отрекся от престола, о чем подписал соответствующие бумаги, и закрепил отречение торжественной клятвой, поцеловав крест.
Шемяка был так этим растроган, что тут же организовал банкет, на который пригласил Василия. Там же на банкете тот был освобожден и уехал жить частным лицом в Вологду.
Но и это был еще не конец гражданской войны.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. КОНТРПЕРЕВОРОТ И ОКОНЧАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
В Вологду к Василию стали приезжать его сторонники, которые активно принялись агитировать отрекшегося государя вернуться на трон.
– Тебя свергли с престола и ослепили! – напоминали они ему. – Неужели ты смиришься с такой обидой? А если в следующий раз Шемяка захочет оскопить тебя или отрезать уши? Ты в его полной власти! Сейчас у него хорошее настроение,
а когда оно испортится или кто-нибудь наговорит ему на тебя? Тогда твоей участи не позавидуешь, потому как у тебя станут отрезать один жизненно важный орган за другим!
– Вы хотите, чтобы я нарушил клятву на кресте? – грустно отвечал им Василий. – Если я совершу такой грех, то непременно окажусь в аду! Хороший у меня выбор! Либо меня при жизни пустят органы, либо после смерти зажарят в аду! Выбирая из двух зол меньшее, я лучше здесь потерплю!
Однако сторонники не унимались. Вскоре они затащили Василия под предлогом моления в Кирилло-Белозерский монастырь. Там его встретил заранее ими подговоренный игумен Трифон.
– Твоя клятва – пустяк! – объявил он Василию. – Ты ее дал под принуждением, поэтому она не считается.
– Все равно мне что-то не по себе! Все-таки перед иконой божьей поклялся и крест поцеловал!
– Хорошо. Если ты так волнуешься, то я беру твой грех на себя. Понимаешь? Не ты будешь отвечать перед Господом богом, а я! Устраивает?
– Другое дело! – обрадовался Василий. – Как гора с плеч! Теперь я опять могу стать великим князем. Поехали в Тверь! Пусть там собираются верные мне войска!
Шемяка, который расслабился после отречения своего конкурента от престола, ушам своим не поверил, когда узнал, что Василий вновь объявил себя великим князем и собирает против него армию. Почти все русские города и княжества, за исключением Галича и Можайска, сразу переметнулись к Василию. Даже митрополит Иона, увидев на чьей стороне сила, не только не возмутился нарушением Василием клятвы, но и полностью поддержал его.
– Василий – богом избранный правитель! – объявил Иона. – Он – страдалец за веру и народ! Я очень хочу поработать с ним в связке! Что касается его клятвы, то игумен Трифон взял ее на себя. А коли он взял клятву на себя, то именно игумен Трифон не должен стать великим князем всея Руси!
– Ты же сам, Владыко, грозился проклясть Василия, если он не откажется от великого княжения? – недоумевали некоторые священники.
– Я просто боялся за его жизнь. Понимаете? Я переживал, что, если он не отречется, его могут убить. Теперь же, когда его жизни более ничто не угрожают, я объявляю новую политическую линию православной церкви: мы поддерживаем Василия Второго, а игумен Трифон никем не должен признаваться великим князем Московским! Точка!
Митрополит Иона, вовремя переметнувшись на сторону Василия Второго, в дальнейшем не только сохранил свой пост, но и стал одним из руководителей правительства (Боярской Думы).