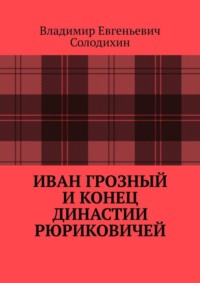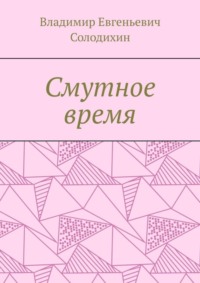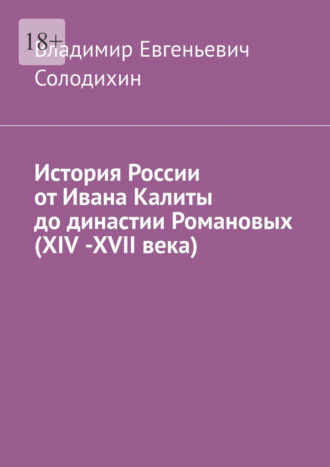
Полная версия
История России от Ивана Калиты до династии Романовых (ХIV -ХVII века)
Люди кто растерялся, кто ничего не понял, так и оставшись стоять с раскрытым ртом.
– Пошли вон!!! – вероятно, почувствовав, что пришел ее звездный час снова завизжала Марфа. – Ваш Иван Васильевич – козел, импотент и…
Последовал грубый мат.
– Прекратите хулиганить, женщина! – попросили послы.
– Я еще не начинала, мужчины! Я вашего Захара прямо здесь сейчас завалю! Иди сюда, падла, я тебя на куски порву! Девчонки налетай!
Марфа с несколькими своими боевыми подругами бросилась на ничего непонимающего Захара Овинова (он был удивлен всем происходящем не меньше других), повалили его на землю и забили до смерти.
Когда послы доложили об этом происшествии в Кремле, Иван Васильевич спокойно улыбнулся, ничем не выдавая внутреннего волнения.
– Итак. Безвинно убили моего подданного! – констатировал он. – Это хладнокровное и жестокое убийство преданного мне человека не может остаться безнаказанным! Кому-то придется ответить по полной! Вся русская рать идет на Новгород! Вперед, ребята!
Московская армия окружила Новгород со всех сторон, однако воевать не пришлось (1477 год).
Московская партия в самом городе, поддерживаемая теперь абсолютным большинством элиты и народа, взяла власть в свои руки.
Марфе опять хорошенько намяли бока, и даже хотели вовсе убить ее, но Иван Васильевич из непонятных соображений (возможно, она все-таки была его тайным агентом) проявил милосердие и отправил вздорную старушку в монастырь в Нижний Новгород.
В январе 1478 года жители Новгорода были приведены к присяге великому князю, а символ новгородской республики, вечевой колокол, был снят и увезен в Москву.
Завершающий акт присоединения Новгорода произошел в конце следующего 1479 года. Некоторые недовольные лишением вольности новгородцы составили заговор, о котором тут же стало известно Ивану Васильевичу (у него была в городе разветвленная сеть агентуры).
Великий князь подошел к Новгороду с огромной армией, сжег посады и потребовал капитуляции. Сопротивляться было бесполезно.
В наказание за мятеж у нескольких тысяч новгородских бояр и купцов национализировали имущество, а их самих насильственно переселили вглубь Московского княжества. Новгородское боярство перестало существовать как класс.
Огромное пространство нынешней России от Финского залива до Белого моря вошло в состав нарождающейся русской империи Ивана Васильевича.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. СТОЯНИЕ НА РЕКЕ УГРЕ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО ИГА
Между тем слух об экспансии Москвы дошел до Золотой Орды, где царствовал тогда очередной хан Ахмат. К этому времени когда-то могущественная держава, созданная Батыем, развалилась на несколько частей. На ее территории появилось Ногайское ханство, Крымское ханство, Казанское ханство и множество других ханств, однако в устье Волги еще продолжало сохраняться ее ядро. Весь пятнадцатый век вплоть до Василия Второго ханы Золотой орды продолжали получать выход (дань) с Москвы, и только Иван Третий в последние годы перестал перечислять платежи.
– Ничего себе! – поразился хан Ахмат. – Мы от Ваньки уже лет десять дани не видали! Нам он писал, что у них экономический кризис! А получается, что он целые государства завоевывает! Это что вообще такое? Совесть у него есть?
Вскоре Иван Васильевич получил из Орды письмо следующего содержания:
«Привет, холоп мой Ивашка!
Что-то давно от тебя ни слуху ни духу! Почитай, скоро лет десять будет, как жду от тебя, раб мой, дани, а ты все под разными предлогами увиливаешь и хитришь!
Смотри, как бы не пришлось пожалеть! С такими хитрыми людишками, как ты, у меня разговор короткий. Раздену донага и отстегаю плетью!
Или, может, ты память потерял, что столько лет не платишь мне выхода?! Так я тебе ее (память) быстро верну на место!
Или ты забыл, как мои деды трахали твоих дедов? Напомнить? Я ведь не поленюсь! Приеду в Москву и набью твою белую задницу!
Твой царь. Ахмат».
– Какой хам! – поморщился Иван Васильевич, комкая письмо. – Диктую ему ответ:
– Ты сам холоп и хам! Точка. Государь всея Руси Иван Васильевич.
После такой переписки война с Золотой Ордой стала неизбежной.
Хан Ахмат заключил союз с Казимиром Четвертым, королем польским и великим князем литовским. Этот Казимир уже давал ранее обещание Новгороду заступиться за него перед Москвой, однако, когда московское войско пошло войной, предпочел этого не заменить.
Иван Третий в свою очередь нашел себе союзника в хане Крымской Орды Менгли – Гирее, который гораздо более уважал свои обязательства и тут же напал на Литву. Казимир был выведен из игры, даже не начав участвовать в ней.
Тем временем, Ахмат, уверенный в помощи Литвы, повел свое войско по ее территории и встал возле пограничной с московскими землями реки Угры. С другой стороны реки расположилось русское войско под командованием сына великого князя, Ивана по прозвищу Молодой.
Оба войска тут же начали оживленно вести перестрелку. Несколько раз монголы пытались переправиться через реку, но были отбиты. Каждый день бойцы враждебных армий ругались и плевались через реку, ожидая, что наконец придумают их полководцы.
Между тем, Москва пришла в панику. В народной памяти еще были живы воспоминания о кровавых монгольских набегах, которые с течением лет еще больше преувеличивались.
Как нарочно стали происходить нехорошие предзнаменования: ночью церковные колокола зазвонили сами собой, а в церкви Рождества Богородицы упал верх и сокрушил иконы (надо думать, что в тылу москвичей работали вражеские диверсионные группы).
Видя всеобщую панику, напрягся и сам Иван Васильевич. Он любил войну, но только тогда, когда она шла где-то вдалеке, а сам он находился за каменными стенами Кремля, планируя операции, или же, когда войско противника было уже сломлено и уничтожено, и оставалась только принять капитуляцию.
Теперь, когда пришла реальная опасность штурма его столицы, Иван Третий затосковал.
Ко всем прочему его еще живая мать, инокиня Марфа, не давала сыну покоя, целыми днями ходила за ним и пилила:
– Монголы уже под Москвой, а ты, сынок, все в носу ковыряешься. Ты мужик или тряпка половая? Был бы жив твой отец – он бы тебя за такие дела по головке не погладил. Он хоть и слеп был, да от брани никогда не увиливал. Настоящий был мужик, царствие ему небесное! Помню, как он с похмелья после нашей свадьбы еле встал с кровати, собрал таких же пьяниц, как он сам, и пошли они, опохмелившись, получать люлей!
– Что вы, мама, за мной целыми днями по пятам ходите? Заняться вам больше нечем? Идите лучше молитесь!
– Я помолюсь, сынка, не волнуйся. Я давно уже знаю и даже смирилась с тем, что ты у меня трус! Помню, ты еще младенцем в колыбели писался, когда я тебе страшные рожицы показывала! Я одного боюсь, как бы от твоей трусости большой беды не стало! Мне люди рассказали, что вчера видели, как звезды падали с неба и разбивались на мелкие осколки. Воистину святые отцы говорят, что вся наша Русь скоро разлетится на части, а род твой угаснет навсегда!
– Хватит меня пугать! – раздраженно отворачивался от нее Иван. – Мое дело не носиться с мечом по полю, а думать! Я, между прочим, уже послал людей по Волге атаковать их монгольскую столицу, Сарай! Сейчас я думаю, что еще можно сделать, а вы мне, мама, мешаете!
– Если ты так боишься смерти, сынок, то передай воинов мне. Пусть я женщина, а ты мужчина, я стара, а ты молодой, я больна, а ты здоров, как бык, но зато я не пощажу себя, и смело встану против врага!
– Вы кого угодно достанете, мама! – стукнул кулаком по трону Иван. – Хорошо. Я поеду в армию! Если вам так хочется, я сегодня же выезжаю!
Иван в самом деле выехал из Москвы, однако доехал только до Коломны и остановился. Там он пустился в размышления:
– Прадед мой, Дмитрий Донской, был умным человеком, однако убежал от Тохтамыша! Дед мой, Василий Первый, тоже большого ума был мужчина,
и ускакал от Едыгея! А вот отца моего, который, честно говоря, не блистал умом, поймали монголы и чуть не убили в плену. Получается разумный человек предпочитает бежать, а не лезть на рожон!
Иван повернул коня и вернулся в Москву.
Как раз в этот день в Кремль под защиту каменных стен перебрался простой народ, который под руководством матери великого князя вооружился и готовился к обороне. Увидев, великого князя, которого все считали уехавшим на войну, люди пришли в изумление.
– Ты как здесь оказался Великий Государь? – удивлялся народ. – Где монголы? Что с тобой случилось?
– Сынок?! – завопила инокиня Марфа. – Ты каким ветром?
На минуту растерялся и сам Иван Васильевич, неожиданно оказавшись почти без охраны в толпе вооруженных людей. Как великий физиономист, по суровым лицам защитников Москвы он сразу прочел, что, если скажет правду, то его
никто не поймет.
Сейчас был такой уникальный момент, когда монарха, находящегося на вершине его могущества, могли убить простые люди за неосторожно сказанное слово.
Надо отдать должное Ивану Васильевичу, который сразу взял себя в руки и тоже выразил на лице крайнее изумление.
– Что происходит? Разве это Москва? – оглядывался он вокруг, как будто не понимая, где он находится. – Что за чудеса!? Я мчался к войску самой короткой дорогой через лес и очевидно заблудился. Несколько часов плутал в чаще и, наконец, услышал воинственные крики и лязг оружия! Я, конечно, очень обрадовался, пустил коня в галоп, надеясь, что тут идет бой с проклятыми монголами! И вдруг опять оказался в Москве! Чудеса в решете!
Ивану Васильевичу поверили (он был прекрасным артистом) и, дав пирожков на дорожку, с богом отправили в обратный путь.
На этот раз великий князь поехал в подмосковное Красное село, где у него случился небольшой нервный срыв.
– Поеду в войска – меня убьют монголы, а останусь здесь – собственный народ погубит! – метался он. – Что делать?!
Скоро село наполнилось командирами и священниками.
Военные на многочисленных совещаниях уверяли его, что армия у нас крепкая и способна дать отпор. Священники успокаивали его нервную систему, убеждая в собственной силе и правоте общего дела.
Последней каплей стало письмо матери великого князя, в котором она грозилась, что скоро приедет и прочтет ему небольшую лекцию.
Не дожидаясь любимой матушки, Иван Васильевич в третий раз выехал к войску.
В этот раз он доехал до городка Кременец, который находился примерно в шестидесяти километрах от театра боевых действий на реке Угре. Далее великий князь ехать на отрез отказался, заявив, что отсюда ему удобнее вести управление боем.
Если на Угре собрались наиболее смелые защитники русской земли во главе с Иваном Молодым, то Кременец наполнился вельможами, придворными, снабженцами и прочими тыловыми крысами.
Это общество, как пишет летописец «богатых сребролюбцев и брюхатый предателей» приступило к ответной психологической атаке на нервную систему Ивана Васильевича. Если до этого его буквально всем миром принуждали дать бой монголам, то теперь наоборот окружение уговаривало его заключить мир и выплатить дань.
– Лучше выплатить часть, чем потерять все! – уверял его толстый боярин Ощера. – Зачем рисковать? Я сам искренний сторонник свержения монгольского ига! Но политика есть искусство возможного! Сейчас не время давать сражение! Мы не готовы к этому не в военном отношении, не в психологическим, не в ментальном, не в материальном! Может, лет через двадцать или тридцать, когда будут созданы необходимые экономические условия, можно будет подумать о таком глобальном противостоянии цивилизаций! Сейчас же мы только потеряем войско, а нас самих возьмут в плен и ослепят! Образумься, великий князь, и пойми, что у нас есть только один выход: немедленно повиниться перед Ахматом, выплатить дань и заключить мир!
– Голова идет кругом от этих проблем! – вздыхал Иван Васильевич. – Если я пойду на мир, то меня ни церковь, ни народ, ни собственная мать не поймут!
– Церковники воевать не будут, вот они и геройствуют! – подхватил еще более толстой вельможа Мамон. – Ты, Государь, назначаешь митрополитов, значит, ты истинный глава церкви. Прикажешь, и каждый день в церквях будут петь Славу хану Ахмату. Народу мы тоже легко голову задурим. Скажем, что мы, заключая мир, спасли его от погибели и разорения. Люди еще благодарить будут. Ну, а маму можно в монастырь сослать, чтобы она вам, Государь, не досаждала!
Под влиянием таких речей, великий князь все больше впадал в уныние и уже мечтал о заключении мира, жалея только расставаться с большими деньгами.
Ахмат в отличии от Ивана находился на передовой и каждый день видел, что в мелких стычках и перестрелках преимущество почти всегда остается за русскими, которые были лучше вооружены и подготовлены. Наблюдая с другого берега реки русскую армию, он все больше боялся ее мощи, и уже сам был не рад, что ввязался в эту авантюру.
Раздетая, босая, плохо обученная монгольская армия терпела значительный урон и бывала бита повсюду. Кроме того, мнимый союзник глава Польши и Литвы Казимир так и не пришел на помощь, увязнув в войне на другом фронте с крымским ханом Менгли – Гиреем. В монгольском войске совсем пропало настроение, и Ахмат находился в еще в большом подавленном состоянии, чем Иван Третий.
Тем временем, заканчивалась осень и подступали холода.
Однажды в конце октября Ивана Васильевича разбудил гонец со срочным известием: ночью Угра замерзла, и с минуты на минуты надо ожидать атаки монгол.
В ставке великого князя началась паника. Толстопузые бояре грузили сундуки с золотом, которое успели наворовать на поставках в армию.
– Доигрались, великий князь! – вопил больше всех боярин Ощера. – Говорил я, что надо было умолять Ахмата о мире! А теперь нас всех перебьют!
– И ограбят! О, мои миллиончики! – надрывался Мамон.
Иван Васильевич велел гонцу передать срочный приказ войску отходить в направлении его ставки на Кременец.
Русская армия, получив приказ, начала отступление. Сначала оно проходило организованно, однако затем, опасаясь удара в спину, полки потеряли всякий порядок и со всех ног бросилась удирать.
Когда монголы увидели, что русские бегут, они в свою очередь пришли в панику.
– Мне конец! – вопил хан Ахмат. – Нас окружают за всех сторон! Где это видано, чтобы сильное войско, бежало от слабого?! Нас хотят заманить в западню и всех перебить! У меня отнимут все богатства! Бежим скорее, воины!
Оба войска бросилась драпать с приличной скоростью в противоположных направлениях.
Иван Васильевич как раз сам грузился на телегу, чтобы эвакуироваться, когда в Кременец прискакал очередной гонец и доложил о происшедшем курьезе.
– А мое войско где? – тихо спросил великий князь.
– Бегут сюда со всех ног. Я их по дороге обогнал. Минут через десять будут здесь.
В этот непростой момент, когда любой другой человек на его месте скорее всего позорно растерялся, Иван Васильевич проявил весь свой гениальный ум.
Когда его солдаты в расстроенном порядке добежали до Кременца, великий князь уже ждал их, стоя в полном параде на телеге под развевающимся стягом.
– Поздравляю с заслуженной победой, бойцы! – кричал он запыхавшемся от долгого бегства солдатам. – Вы сделали это! Вы лучшие! Слава героям! Благодаря разработанному моим штабом блестящему тактическому маневру, мы одержали полную и безоговорочную победу. Спасибо, ребята! Враг разбит! Победа за нами! Монгольское иго на Руси окончательно и бесповоротно свергнуто! Ура!
– Ура!!! – подхватили изумленные солдаты. Они обнимались, целовались, верили и не верили всему происходящему.
Забегая вперед скажем, что все, что все или почти все, что сказал Иван Васильевич, оказалось абсолютной правдой.
Уже в январе следующего 1481 года киллер, посланный великий князем, убил хана Ахмата. Опозоренные бегством монголы уже никогда больше не смели претендовать на дань (выход) с русский земли. Вскоре они, вероятно, не выдержав позора, предпочли тихо эмигрировали обратно к себе в Монголию, так как никакой массовой популяции монголов на территории современной Астраханской области России (центральная часть Золотой Орды) с тех пор не наблюдалось.
Стояние войск на реке Угре стало окончательной точкой в истории вассальной зависимости Москвы от Орды, а Иван Васильевич, ободрившись победою, стал думать о новых завоеваниях.
ГЛАВА ПЯТАЯ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТВЕРИ И ВЯТКИ
В 1485 году умерла мать великого князя, инокиня Марфа, которая, напомним, была тверской княжной. Иван Васильевич будто ждал этого момента, чтобы окончательно ликвидировать независимость Тверского княжества.
Здесь им был применен новый политический прием (в дальнейшем он постоянно пользовался им в войнах с Литвой). Иван Васильевич объявил, что тверские бояре, недовольные своим князем, могут перейти на московскую службу и получить за это преференции.
Многие тверяки, внешне изображая из себя патриотов своего княжества, давно в тайне мечтали переехать в Москву, что было теперь престижнее и сулило значительные материальные выгоды. Сначала робко по одному, а затем целыми толпами они стали поступать на московскую службу. Тверское княжество стремительно оскудевало управленческими кадрами. Главная же беда для Твери заключалась в том, что бояре переходили на службу вместе со своей землей, и вскоре почти вся территория Тверского княжества оказалась заселенной новыми москвичами (бывшими тверскими боярами).
Тверской князь, Михаил Борисович, был так всем этим поражен, что совершенно потерялся и повел себя будто соблазненная и брошенная женщина. Он стал повсюду бегать, плакаться и жаловаться на свою судьбу. Особенно он любил изливать горечь в письмах, которые рассылал по всему земному шару. Одно из таких посланий он адресовал уже знакомому нам Казимиру Четвертому:
«Великий польский король и князь литовский, дорогой друг Казимир!
Со мной случилась страшная беда! Я оказался обманут в самых лучших своих чувствах!
Мое боярство, которое я так любил, так холил и лелеял, подло посмеявшись надо мной, перебежало к московскому князю!
Как же тяжело мне, Казимир, быть жестоко обманутым в своих лучших чувствах, и вместо ответной любви увидеть самое низкое предательство!
Я так верил этим низким людям, а они бросили меня!
Будь проклят этот Иван, который переманил их своими большими деньгами!
Бог видит, кому тяжко! На чужой беде счастья не построишь!
Я очень хочу увидеть тебя, Казимир, и поплакать на твоем могучем плече!
Навечно твой друг, Михаил. Великий князь Твери».
Это письмо оказалось перехваченным людьми Ивана Васильевича, и он, прочитав его, устроил грандиозный скандал.
– Мало того, что этот Михаил переписывается с моим недругом Казимиром, так он еще безвинно поносит меня! Разве я виноват в том, что его бояре хотят служить мне, а не ему? За что он меня проклинает?! Как у него язык повернулся сказать, что я переманиваю к себе его боярство? Если я кого-то принял у себя, то не иначе как из чувства милосердия и любви к ближнему! Я ужасно оскорблен и немедленно объявляю войну!
Тверской князь Михаил, как говорится не успел глазом моргнуть, как под стенами его столицы оказалась огромная московская армия с мощной артиллерией (сентябрь 1495 года).
Уже на следующей день после ее появления все оставшееся тверское боярство приехало к Ивану Васильевичу и, всячески унижаясь, стало проситься к нему на службу.
Расстроившись окончательно, брошенный всеми последний независимый князь Твери бежал к Казимиру, а Тверское княжество бескровно вошло в состав империи Ивана Третьего.
Это была очередная блестящая победа великого князя, однако главные его завоевания предстояли впереди.
Сначала он обратил свой взгляд на Восток и первое, что ему попалось на глаза, было Казанское ханство.
С момента его основания уже известным нам судьей Улу-Мухаммедом (см. нашу книгу «Гражданская война на Руси пятнадцатого века») Казань часто воевала с Москвой. Однако все эти войны были несерьезными и больше напоминали набеги, чем военные компании. То казанцы приходили пограбить московскую землю, то москвичи разоряли Казань.
– Не порядок! – заметил Иван Васильевич.
В 1487 году его войска после полуторамесячной осады взяли Казань, однако, опасаясь мусульманского сепаратизма, он не стал присоединять ее к империи, а только усадил там на престол своего ставленника, хана Махмет-Аминя.
В 1489 году была присоединена Вятка (сейчас – Киров).
В этом случае Иван Васильевич решил действовать через церковь. Сначала митрополит под его диктовку написал вятчанам грозное послание, укоряя их в том, что они до сих пор остаются независимыми и медлят присоединиться к державе великого князя.
«Вы будете прокляты православной церковью, если не прекратите безобразничать и не подчинитесь Ивану Васильевичу, ибо то, что вы живете без его руководства ужасно и богопротивно!», – писал он, в частности.
– Не перебор будет, Государь? – прочитал только что написанное им послание митрополит. – С проклятием ты не погорячился? Вроде бы они ничего плохого не сделали!
– Ты подписывай! Потом разберемся сделали или не сделали! – улыбнулся Иван Васильевич.
Получив такое письмо, жители Вятки совершенно растерялись. Вскоре появилось московское войско, которое стало брать их города практически без сопротивления. Тех же, кто все-таки пытался воевать, арестовали и насильственно переселили в другие регионы. Огромная, богатая пушниной область, вошла в состав русской державы.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. РАСШИРЕНИЕ РУССКОЙ ДЕРЖАВЫ НА ЗАПАД
Разобравшись с восточным направлением, Иван Третий обратил свой взор на Запад, где раскинулось Литовское княжество с русским и православным
в большинстве своем населением.
Между тем, еще во времена Дмитрия Донского литовцы не раз переходили границу, грабили и разоряли русские города, убивали и уводили в плен мирное население (эти события описаны в нашей книге «Юмористическая история монголо-татарского ига»).
Объединить все русские земли в составе одной страны и, вместе с тем, навсегда прекратить междоусобицу между русскими было сверхзадачей Ивана Третьего, и он со всей энергией взялся за это дело.
Уже опытный к тому времени политик применил сразу несколько технологий.
Во-первых, московский митрополит дал команду православным церквям Литвы активно агитировать паству об объединении Москвой.
Во-вторых, местное боярство стало зазываться вместе со своими землями на службу в московское государство. Многие литовские вельможи, соблазненные преференциями, пошли на службу к Ивану Третьему. Среди них известные впоследствии дворянские фамилии: Одоевские, Воротынские, Бельские и т. д.
В конце восьмидесятых годов пятнадцатого века в Литве началась так называемая «порубежная (пограничная) война», когда решившие перейти на московскую службу литовские бояре (их владения, по счастливому совпадению, располагались на границе с Русью) воевали со своими родственникам, оставшимися верными Литве.
Уже известный нам польский король Казимир обратился с нотой протеста к Ивану Васильевичу, возмущаясь его поддержкой сепаратистских мятежей литовский подданных. В ответ он получил от русского Государя письмо следующего содержания:
«Любимый друг мой и брат, Казимир!
Ты справедливо пишешь о возмущении своими подданными боярами, которые подымают против тебя мятежи. Я искренне сопереживаю тебе в этом вопросе и, поверь мне, возмущен не меньше твоего. Мне непонятно и обидно только одно: почему-то ты обвиняешь в этом меня?!
Посуди сам, если какие-то, не побоюсь этого слова, неадекватные люди подымают против тебя бунты, как можно винить в этом своего соседа, друга и брата?
Ты видел хоть одного моего солдата в своих владениях? Или, может быть, я объявил тебе войну?
Очнись, Казимир! Между нашими государствами давно уже установлен прочный и нерушимый мир!
Как у тебя рука поднялась писать мне такие чудовищные обвинения?!
Мне и грустно, и смешно!
Да, признаюсь, иногда я по христианскому своему милосердию жалею кого-нибудь из этих убогих. Что с того? Разве виновен я, что из-за своей доброты даю приют несчастным?!
Я очень расстроен, друг мой, твоим поведением, но надеюсь, что, получив это письмо, ты осознаешь свою вину передо мной и извинишься.
Не забудь также покаяться перед Господом богом!
Навеки твой друг. Иван Васильевич».
Однако, когда в 1492 году Казимир умер, оказалось, что московский государь очень даже причем в этой войне.
После смерти Казимира его страна разделилась между сыновьями: старшему, Альбрехту, досталась Польша, а младший, Александр, стал великим князем Литвы. Иван Васильевич посчитал, что возникла удобная ситуация, чтобы открыто вступить в войну.
Русские войска перешли границу и внезапным ударом захватили Мценск, а следом взяли сильную приграничную литовскую крепость – Вязьму.