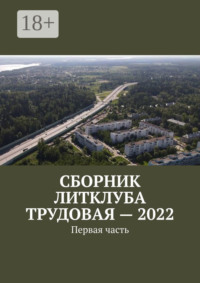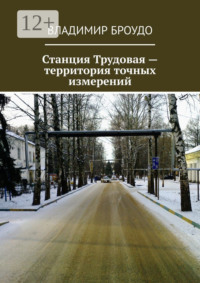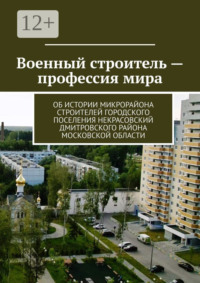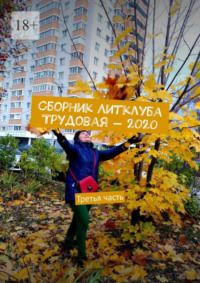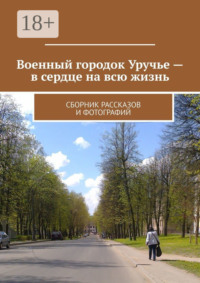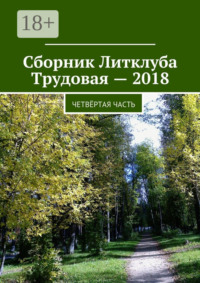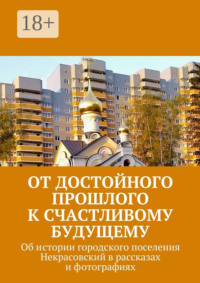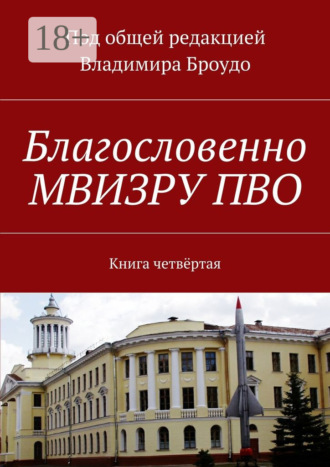
Полная версия
Благословенно МВИЗРУ ПВО. Книга четвёртая
Меня, сдавшего все экзамены на пятёрки, зачислили в число кандидатов в отличники. Для отличников была льгота. Если в течение двух лет средний бал будет 4,75, то ему очередное звание будет присвоено не по окончании учебы, то есть через пять лет, а через два года. Я решил попробовать выполнить эти условия.
Учебный процесс
Программа обучения
Учёба в училище для получения квалификации военного инженера по радиотехнике по специальности радиотехническое вооружение зенитно-ракетных войск проходит в течение пяти лет. Каждый учебный год поделён на полугодия, семестры. В ходе и после каждого семестра следуют зачёты и экзамены, в среднем по 7—8 на каждый семестр.
Первые три года изучаются общеобразовательные дисциплины (высшая математика, физика, иностранный язык), основы радиотехники, радиолокации, автоматические системы управления, измерительные приборы, общевойсковые дисциплины.
Четвёртый год и первый семестр пятого года посвящены изучению техники, которую мы должны будем эксплуатировать после выпуска, тактике её применения, а так же написанию курсовых проектов. Успешному изучению техники способствовало знание дисциплин изученных в течение предыдущих трёх лет.
Второй семестр пятого года предназначен для стажировок и написания и защиты дипломного проекта.
В течение всех пяти лет большое внимание уделяется изучению общественных дисциплин: история КПСС, диалектический материализм, исторический материализм, политическая экономия (капитализма, социализма), основы научного коммунизма, партполитработа и основы воинского воспитания.
Так же на протяжении всех пяти лет была достаточно напряжённая физическая подготовка. В учебный процесс входили три стажировки. Две из них в зенитно-ракетных войсках, а одна на заводе, где создавалась наша техника.
Уделялось внимание строевой подготовке.
Сослуживцы
Будучи по натуре застенчивым, всегда работал в одиночку, рассчитывал только на свои силы. Правда, всегда был готов придти на помощь обратившимся ко мне товарищам. А здесь, вдруг, подошёл ко мне Георгий (Жора) Меженцев и предложил заниматься вместе. С Жорой мы познакомились и сошлись ещё во время подготовительных занятий. Он так же выделялся своей отличной подготовкой и сдал экзамены на пятёрки. С ним мы оказались в одной учебной группе. Наша общая работа при решении задач, подготовке и оформлении лабораторных работ и пр., намного облегчила мою и его учёбу.
Вскоре к нам подключился Анатолий Громов. Он был не офицером, а старшиной сверхсрочником. Интересна его биография. Школу он окончил с серебряной медалью. В армии стал отличным водителем и его поставили на машину заместителя командующего армии в Группе войск в Германии генерала А.И.Клюканова. Толя, прослужив положенные три года, остался на сверхсрочную службу. Замкомандующего армии перевели служить в Белоруссию на должность замкомандующего Белорусского военного округа. Толя за время службы стал практически членом семьи генерала. Поэтому, когда в 1966 году генерал внезапно, в 52 года, умер, Толе помогли устроить его судьбу. Он в возрасте 23 года, Жоре было 25, мне – 26, поступил в МВИРТУ и был определён, по вышеприведённым причинам, не на курсантский курс, а к нам на офицерский. Волею судьбы мы стали друзьями.
Командиром нашей группы был назначен Николай Гляделкин. Он, естественно, должен был заниматься как все мы и, одновременно, при выполнении различных групповых и курсовых мероприятий, руководить нами. От него зависел климат в коллективе группы. Нужно сказать, что с этой задачей он справлялся хорошо. Он нас не дёргал, всегда, при необходимости, входил в наше положение.
В ходе учёбы хорошие отношения сложились у меня с большинством сослуживцев группы, но больше всего я сблизился, кроме Меженцева и Громова, с Валентином Шрамко, Леонидом Мисуном, Владимиром Беспаловым, Славой Халитовым, Валерием Ермаковым, Женей Суворовым, Виталием Куликовым и Ваней Гуриновым.
Учебный процесс
Учебный процесс в училище был организован на высшем уровне. Замечательно была продумана программа обучения. По каждому предмету опытные и ответственные преподаватели отлично читали лекции, которые можно было успевать записывать. Я, от природы медлительный, старался изо всех сил. При этом, в полной мере, применялись всевозможные сокращения. Очень надёжной должна быть авторучка. Мною использовалась китайская ручка с золотым пером. В те годы китайское – значит отличное. Немаловажными были выбор чернил и своевременная заправка ручки. Никогда она не давала сбоя. Шариковыми ручками тогда пользовались мало.
Для записи лекций заводил 100-листовые тетради. Отдельные тетради заводились для выполнения домашних и практических заданий, а так же для конспектирования работ классиков марксизма-ленинизма. Тетради покупал с твёрдым переплётом, они хорошо раскрываются, самовольно не закрываются, на них удобно писать с любой стороны.
Каждая тетрадь обязательно подписывалась, во-первых, на случай потери (232 учебная группа, расшифровывалась так: 2 – номер факультета, 3 – третий курс, 2 – вторая группа на курсе), во-вторых, иногда их проверяли преподаватели. Особенно проверялись тетради с первоисточниками марксизма-ленинизма. Не все любили и могли их самостоятельно прорабатывать и конспектировать. Среди них был и слушатель 6-й группы нашего курса, мой полный тёзка, Юрий Власов. Он армянин, его фамилия трансформировалась из фамилии Власян. Мы с ним сблизились. Юрий часто на проверку просил у меня тетрадь с первоисточниками, подделывая в ней номер группы и отчество.
Все мои конспекты, написанные достаточно разборчивым почерком, испещрены карандашами различных цветов. На мои конспекты, при сдаче зачётов и экзаменов, всегда устанавливалась очередь. Они хранятся на чердаке дачи до сих пор. Не поднимается рука их уничтожить. Некоторые конспекты пригодились сыну Сергею, который в 1979 году поступил в МВИЗРУ и пошёл по моим стопам. Позже и сам их использовал, работая во 2ЦНИИ МО.
Лекции
На лекциях всегда садился поближе к лектору, чтобы всё расслышать и, при необходимости, задать с места вопрос или попросить лектора повторить фразу. Всегда внимательно следил за рассуждениями преподавателя, одновременно записывал их, различные определения, формулы, конечные выводы. Приходилось рисовать схемы, графики, рисунки и пр. На столе всегда лежали в готовности цветные карандаши и офицерская линейка.
На протяжении 5 семестров читали нам математику. Лекции читала Вера Васильевна Ершова. Когда мы поступали в училище, то нас старшекурсники предупреждали о её строгости, принципиальности. Не рекомендовали попадаться к ней на приёмный экзамен. На самом деле, она была хорошим методистом, и, одновременно, интересным и весёлым человеком. Правда, лодырей она не жаловала. Вера Васильевна нам сразу же посоветовала, чтобы мы накануне новой лекции отрабатывали с карандашом в руках предыдущую лекцию.
Я в полной мере воспользовался её советом. Всегда это делал и по другим предметам. Проработка предыдущей лекции позволяла на новой лекции с пониманием следить за рассуждениями лектора, вовремя, при необходимости, задавать ему вопросы и даже, иногда, замечать его ошибки или оговорки. Так, однажды, Вера Васильевна в конце лекции, в спешке, уже после звонка, начала быстро решать пример, иллюстрирующий правильность её рассуждений.
– Ошибка! – заметил я.
Она внимательно посмотрела на доску и, заметив ошибку, произнесла поучительную фразу, которую я запомнил на всю жизнь:
– Быстро – не значит хорошо.
Самоподготовка
Во время учёбы в МВИЗРУ жили мы на улице Скриганова, расположенной в районе кладбища «Кальвария». Чтобы добраться в училище вставал около шести часов утра. В 7 часов был на остановке троллейбуса, на котором ехал до Ленинского проспекта. Здесь пересаживался на другой троллейбус, ехал на нём до площади Якуба Колоса, шёл к остановке автобусов №69 и №86 и ехал до остановки «9 км» Московского шоссе, где располагалось училище. В училище мы должны были быть к началу развода курса на занятия, который проводился ежедневно ровно в 8—30. За опоздание можно было получить замечание и, даже, взыскание.
Так как к этому времени спешили в училище все курсанты, старших курсов, слушатели и преподаватели, живущие в Минске, то в бедный автобус ЛАЗ набивалось очень много пассажиров. Каждая остановка бралась с боем, водитель с трудом закрывал двери, постоянно слышалось от кондуктора: «Ёлочкой! Ёлочкой!». Я ехал почти с конечной остановки, иногда удавалось занять сидячее место. Правда, это было чревато. Ты по пути следования должен был увидеть вошедшего полковника и предложить ему своё место. Это было время, когда не стеснялись носить военную форму, когда к старшим офицерам относились с уважением, а военные при встрече приветствовали друг друга отданием воинской чести.
Три пары занятий проходили с 9 до 14—30. Как правило, к 16—00 я был дома и, пообедав, начинал самоподготовку. При этом использовались собственные конспекты, специализированные учебники, различные задачники и разработки для проведения лабораторных работ, взятые в библиотеке училища.
Дома я был один. Лариса с Серёжей возвращались домой к 19 часам. Мне никто не мешал, я имел возможность спокойно заниматься.
В первую очередь выполнял различные задания. Прорабатывал лекции к следующему занятию. По окончании темы просматривал материал в целом. Проработка каждой лекции позволяла в последующем читать конспект по диагонали. При необходимости, приводил в систему весь материал темы, выделял итоговые формулы, выводы и следствия, ради которых читалась данная тема.
Особенно донимал меня английский язык. Моя память не приспособлена к запоминанию иностранных слов. А мне нужно было по нему получать отличные оценки. Приходилось много времени посвящать этому предмету. Постоянно задавались какие-то технические тексты, которые нужно было читать и переводить. Кроме того, сдавались так называемые «тысячи» из газеты «Moscow News» (Московские новости). Самостоятельно покупалась газета, в ней выбиралась какая-либо статья, в которой отсчитывалось заданное количество слов, и она переводилась на русский язык. Для облегчения этой адской для меня работы покупался русский аналог газеты, что значительно упрощало работу. В неурочное время мы сдавали преподавателю эти «тысячи». Для набора словарного запаса выписывал слова на бумажки, клал их в карман и обращался к ним при всяком удобном случае.
На всяких общественных мероприятиях мы садились с Жорой Меженцевым рядом и с пользой использовали время – решали заданные на дом задачи.
Иногда в училище ездил на папином инвалидском «Запорожце» с ручным управлением. Это было в тех случаях, когда нужно было забрать Ларису с работы, повозить её по магазинам либо посетить друзей. В этих случаях, после занятий оставался в училище и занимался в читальном зале по марксистско-ленинской подготовке. В нём я так же конспектировал первоисточники классиков того же марксизма-ленинизма, благо, что они доступно находились здесь же на полках.
Практические занятия
По завершению прохождения очередной темы, проводились практические занятия, лабораторные и контрольные работы. Осмысленная подготовка к ним позволяла спокойно идти на них, не боятся, что тебя вызовут к доске. Кроме того, задавались различные домашние задания. Выполнение их тщательно контролировалось. На практических занятиях проверялось знание теоретического материала, а также решались различные задачи по изученной теме. Во время практических занятий могли проводиться пятиминутные и полноценные часовые контрольные работы. Я всегда был к ним готов. Наши знания оценивались и оценки проставлялись в журнал группы. Если лекции читались одновременно потоку, состоящему из трёх учебных групп, то практические занятия проводились с одной учебной группой (около 25 человек). Причём они велись сотрудниками кафедры и не обязательно лектором.
Учился ответственно, серьёзно. Поэтому все изучаемые технические дисциплины давались легко. Часто консультировал своих товарищей по группе и курсу. На практических занятиях, преподаватель задавал вопрос и спрашивал:
– Кто пойдёт к доске?
Если в классе устанавливалась гробовая тишина и все утыкались в книги или свои конспекты, то я понимал, что ребята не очень готовы и у них нет желания первыми идти к доске. В такие моменты поднимал руку и спрашивал:
– Можно я?
Решая задачу, писал её мелом на доске и делал необходимые пояснения. С мест замечали:
– Медленнее. Медленнее.
Многим хотелось, чтобы я потратил как можно больше времени. Слушателям, занимающимся от сессии до сессии и сдающим экзамены по шпаргалкам, практические занятия были путём на эшафот. Я же на них получал очередную пятёрку.
Основным расчётным инструментом при решении задач была знаменитая логарифмическая линейка. Я её впервые увидел в 1956 году. Моё 9-классное образование не позволило разобраться в назначении этого загадочного прибора. Малейший толчок в её познании позволил овладеть ею навсегда. Вычисления на ней (умножение, деление, возведение в степени, определение логарифмов, децибелов и тригонометрических функций) выполняются быстрее, чем на появившихся в 70-х годах калькуляторах. Из Интернета узнал, что Сергей Павлович Королёв расчёты наших ракет выполнял с её помощью.
Этим инструментом овладел настолько, что одна из наших педагогов, преподаватель по физике, попросила меня научить вычислительному искусству свою десятиклассницу дочь. За время учёбы и дальнейшей работы у меня накопилось несколько этих нехитрых и доступных инструментов. Они у меня и дома, и на даче. Причём они не лежат без движения, а периодически используются.
Лабораторные работы
Интересно и продуманно проводились лабораторные работы. Они проходили после изучения очередной темы. На них воочию мы должны были убедиться в правильности тех или иных теоретических выкладок. Накануне слушатель должен был тщательно изучить по специальной разработке цель работы, порядок её проведения, используемые формулы, ожидаемые результаты, какие нужно представить отчётные материалы и в каком виде.
Для проверки готовности слушателей к осмысленному проведению лабораторной работы, вначале её организовывались так называемые коллоквиумы.
(Коллоквиум – форма проверки и оценивания знаний учащихся в системе образования, преимущественно в вузах).
Для стопроцентного контроля в ограниченное время, в лабораториях создавались примитивные автоматизированные рабочие места (АРМ). Слушатели рассаживались по местам и получали контрольные задания. Каждый решал свою задачу, а затем делал соответствующий набор ответа на АРМ. Если ответ был верным, то загоралась лампочка. Иногда АРМ не срабатывал из-за неисправности или простой арифметической ошибки. Тогда слушатель показывал преподавателю ход решения задачи. Не сдавшие коллоквиум, к лабораторной работе не допускались.
Слушатели, не желающие себя утруждать, шли на хитрость. Накануне узнавали у первопроходцев ответы для каждого рабочего места, а затем, не решая задачи, представляли правильный ответ в виде горевшей лампочки.
Лабораторных мест было меньше чем слушателей, поэтому на каждом месте работало несколько человек. Я, Меженцев и Громов и здесь работали вместе.
По окончании работы делалось её оформление, В отчёте отражались название и цель работы, краткое описание установки, полученные результаты в виде таблиц и графиков, объяснение полученных результатов и выводы. Тщательно оформленные работы сдавались преподавателю для оценки. Он мог вызвать слушателя, чтобы он сделал необходимые пояснения.
Эти отчёты мы готовили по очереди. Когда была моя очередь, то эту работу по отчёту я делал сам. Мои же товарищи иногда, чтобы не очень утруждать себя, старались достать прошлогоднюю работу, либо взять её в другой группе, где лабораторная работа прошла раньше. Переписывание осуществлялось механически, поэтому возникали анекдотические ошибки. Чтобы не попадать в неловкое положение, мне приходилось перед сдачей работы её тщательно проверять.
Можно было защитить лабораторную работу в конце занятий, после её чернового оформления. Наша тройка обычно этим пользовалась. Это экономило время. Для этого накануне нужно было провести определённую подготовительную работу.
Используя разработку по лабораторной работе, готовилась заготовка отчёта, куда вписывались общие данные, чертились заготовки таблиц, вписывались необходимые расчётные формулы, строились системы координат для графиков. В ходе работы таблицы заполнялись полученными данными, делались необходимые расчёты, рисовались графики, делались анализ и объяснения полученных данных, формулировались выводы.
Прежде чем отчитываться за проделанную работу, мы тщательно обсуждали полученные результаты, при необходимости, непонятное растолковывали Толе Громову. После этого приглашали преподавателя принять у нас работу. Обращаясь к материалам лабораторной работы, мы объясняли полученные результаты и сделанные нами выводы. Чаще всего по проделанной группой работе давал пояснения я или Жора Меженцев, иногда преподаватель просил это делать Толе Громову. Он, имея уникальную память, как правило, справлялся с этим заданием. Преподаватель, слушая нас, знакомился с результатами, задавал каверзные вопросы. Во время нашего отчёта нас обступала вся учебная группа, чтобы знать, как отчитываться за работу и какие вопросы может задать преподаватель.
Зачёты и экзамены
В журнале группы на моей фамилии в течение семестра накапливались пятёрки, полученные на практических занятиях, контрольных и лабораторных работах. Определённый их набор позволял преподавателям освобождать меня от зачётов и даже экзаменов.
Подготовка к экзаменам осуществлялась мною просто. Накануне экзаменов нам выдавался по каждому предмету список вопросов, которые войдут в билеты. Количество вопросов по определённому предмету я делил на число дней, предназначенных на подготовку к экзамену. При этом, на последний день планировал несколько меньше вопросов. К экзаменам готовился исключительно по своим конспектам. В них были ответы на все вопросы.
Учебная группа из 26 слушателей сдавала экзамены в два потока. Половина группы сдавала экзамен до обеда, с 9 часов утра до 13 часов дня. Вторая половина группы приходила на сдачу экзамена после 14 часов. Я, как правило, ходил на экзамен во вторую смену. Утром вставал и успевал освежить в памяти весь материал.
На экзамене существовала билетная система. В каждом из 30 пронумерованных билетов были два вопроса и задача. Вопросы и задача были из разных тем. Билеты, помещённые в конверты, раскладывались случайным образом на столе преподавателя. Экзаменуемый входил в класс, докладывал о прибытии и, по предложению преподавателя, брал со стола один из конвертов с билетом. Достав из конверта билет, экзаменуемый сообщал номер билета, бегло анализировал содержание поставленных вопросов, как правило, говорил, что вопросы ясны и садился за стол для подготовки. Можно было отказаться от данного билета и тащить второй билет. При этом оценка снижалась на один бал. Одновременно к экзамену готовилось три человека.
Экзаменуемый на учтённых листках со штампами учебного отдела училища раскрывал содержание поставленных вопросов, решал заданную задачу. Первому на подготовку отводилось не более получаса, остальным выходило больше. Поэтому первыми шли наиболее подготовленные слушатели. Часто среди них был и я.
Далее экзаменуемый выходил к доске и докладывал, используя, при необходимости, доску. Так же он мог садиться рядом с преподавателем и докладывать ему прямо с листа. Экзамен могли принимать одновременно два преподавателя. Если среди них был «вредный» преподаватель, то есть тот, кто сможет срезать отличника, то выбирался для ответа более покладистый преподаватель.
Помню, экзамен принимали полковник Дубин и майор Кун. Я подготовился и уже хотел идти отвечать к освободившемуся Дубину. Последний, по мнению слушателей, отличался своей вредностью. Командир нашей группы, капитан Гляделкин, присутствующий на экзамене, запретил мне делать это. Я дождался, когда освободился майор Кун. (В 80-е годы во 2ЦНИИ мне пришлось работать вместе с лейтенантом Куном, сыном моего доброго экзаменатора).
Как правило, на экзамене отвечал с листа. Преподаватель пробегал по моему листку и, при необходимости, задавал вопросы. Я отвечал на них. Однажды, Вера Васильевна, принимая у меня экзамен по математике, натолкнулось на пример не связанный с ответом на вопрос.
– А это, что такое? – спросила она.
Зная, что Вера Васильевна любит всякие теоретические рассуждения подтверждать примерами, записал подходящий пример и поэтому сказал:
– Это для ответа на дополнительный вопрос.
Она рассмеялась.
На самом деле сдача экзамена проходила гораздо сложнее. Многие слушатели в течение года работали не достаточно серьёзно, и сдать нормально экзамены им было не по силам. Да и остальные хотели подстраховаться, почувствовать себя увереннее. Этому помогали шпаргалки.
(Шпаргалка (от польского – бумажка). Бумажка с заметками, которою учащийся тайно от учителя пользуется во время исполнения письменных работ или ответов на экзамене).
Создание шпаргалок – настоящая индустрия. Кто-то индивидуально писал себе такие бумажки. Но чаще всего, это организовывалось на уровне старшего группы. Кто-то, где-то у кого-то в учебном отделе училища доставал чистые проштампованные листы бумаги. Далее старший группы распределял кому, на какой билет писать шпаргалку. Но это было не всё.
Как правило, приём экзамена ведут два преподавателя. Но почему-то к началу экзамена прибывал только один из них. Он заходил в класс, раскладывал билеты на стол, а затем выходил к экзаменуемой группе, стоящей, как правило, на значительном расстоянии от класса, в глубине какой-нибудь ниши. Он спрашивал слушателей о готовности к экзамену и есть ли у кого какие-нибудь неясные вопросы. В это время назначенные, отчаянные слушатели врывались в неохраняемый класс и срисовывали расположение билетов на столе. Это была рискованная авантюра. Но почему-то за всю нашу пятилетнюю историю никто на этом деле не попался.
Помню, преподаватель спросил: «Есть ли у кого-нибудь неясные вопросы?». Все молчали, как рыба об лёд. Ведь чтобы задать неясный вопрос, нужно его знать. Не слыша вопросов, преподаватель повернулся и уже собрался идти в класс. Это была бы катастрофа. В последний момент я его остановил своим вопросом. Он возвратился и начал отвечать. За время ответа все пришли в чувство и появились другие вопросы.
Далее слушатели заходили в класс на экзамен и брали билет, на который они писали шпаргалку. Правда, случались фосможорные ситуации, когда кто-то ошибался с конвертом и вся система нарушалась. В этом случае очередной экзаменуемый должен был нести пострадавшему спасательную шпаргалку. Однажды, во время летних экзаменов была организована передача шпаргалок по нитке через открытое окно. Наблюдал я своих товарищей в такой стрессовой обстановке. Я сдавал экзамены без шпаргалок, поэтому не испытывал таких переживаний и волнений.
Я думаю, что система шпаргалок нужна была не только нам, слушателям. Она нужна была преподавателям, руководству курса, факультета и даже училища. Ведь хорошие и отличные оценки – лицо преподавателей и руководства всех степеней. Поэтому никто из преподавателей, в своё время побывавших в нашей шкуре, не устраивал слежки, репрессий, старался не замечать, что твориться рядом с ним. Тех преподавателей, кто не подчинялся этим неписаным правилам, не любили, как слушатели, так и командование училища. Об одном из них я расскажу ниже.
Преданность партии прежде всего
Отдельно хочется рассказать о наших «главных» дисциплинах, которые названы в первых строках «Выписки из зачётной ведомости», придаваемой в качестве приложения к диплому.
В Советском Союзе отличные знания основ учения марксизма-ленинизма были критерием преданности партии, правительству и советскому народу. На протяжении 5 лет будущие военные инженеры изучали в МВИЗРУ историю КПСС, марксистско-ленинскую философию (диалектический материализм и исторический материализм) политэкономию (капитализма и социализма), основы научного коммунизма, партполитработу и основы воинского воспитания.
Для жаждущих стать отличником учёбы, общественные дисциплины были, можно так сказать, основными. Критерий отличника – средний бал 4,75 может быть учтён лишь тогда, если по ним будут только пятёрки.
Казалось бы, в общественных дисциплинах нет сложных формул, которые нужно понимать и хорошо запоминать. И, следовательно, в их изучении не должно быть особых трудностей. На самом деле, в них масса терминов, дат, определений, которые необходимо просто заучивать, находить в них какую-то логику. Что сделать, порой, не просто. Эти предметы требовали хорошей памяти, набора соответствующей терминологии. Мне приходилось над ними попотеть, чтобы получить желаемые пятёрки и спустя два года учёбы капитанское звание, а по окончании училища, право выбора дальнейшего места службы.