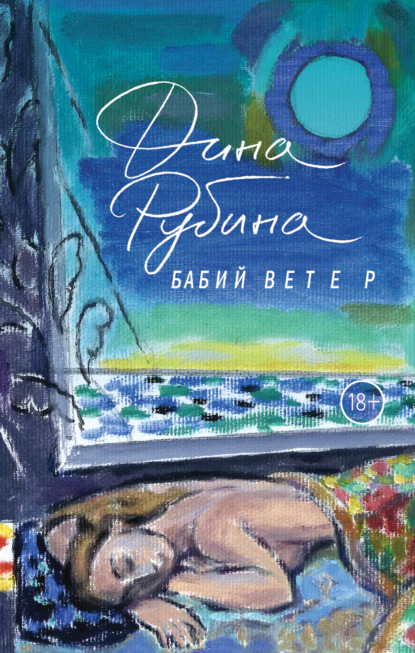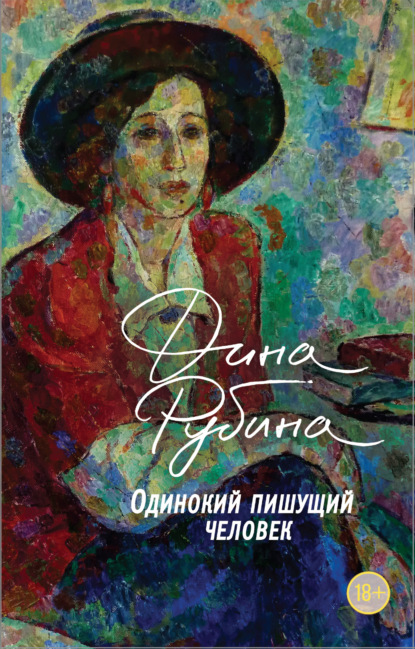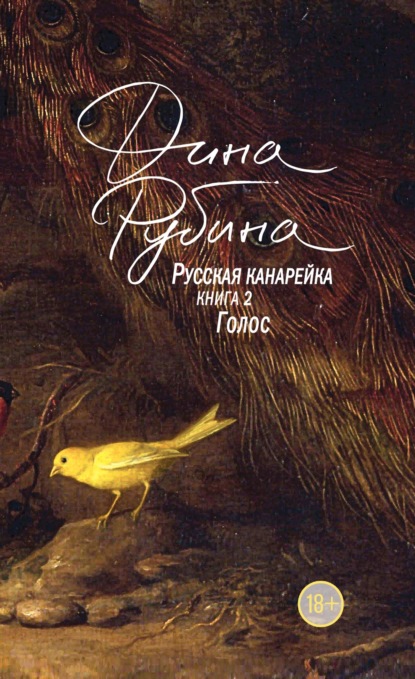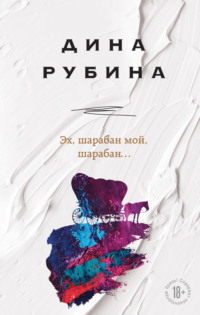Полная версия
Не вычеркивай меня из списка…

Дина Рубина
Не вычеркивай меня из списка
© Д. Рубина, текст, 2024
© ООО «Издательство «Эксмо», 2024
С высоты насеста…
Воспоминаний уже напечатано много, но в них прошлое больно нарядно. Моё детство ненарядное.
Виктор Шкловский «Жили-были»Честно говоря, никогда не любила читать воспоминаний о чьём-либо детстве; они всегда казались мне если не враньём, то уж напомаженным муляжом. Редко когда панорамный портрет чьей-то родни, запечатлённый недрогнувшей рукой автора спустя лет этак 50, не источает елея и ладана. Вот разве Виктор Шкловский в книге «Жили-были», описывая обиход родительского дома, упоминает, что в разгар скандалов кто-то из его многочисленных братьев непременно «выносил плечом дверь».
Меня тошнит от засахаренного мармелада большинства воспоминаний: мама в них – всегда нежна, отец – заботлив, умён и мужествен, бабушка с дедушкой – образцы мудрости и доброты…
Моя личная родня была неистова и разнообразна. Чертовски разнообразна касательно заскоков, фобий, нарушений морали, оголтелых претензий друг к другу. Не то чтобы гроздь скорпионов в банке, но уж и не слёзыньки Господни, ох нет. С каждым из моей родни, говорила моя бабка, «беседовать можно, только наевшись гороху!».
Своё раннее детство в окружении родственных персонажей я помню сквозь непременную дымку цветения каких-то кустов или фруктовых деревьев или сквозь плотную, как парча, вязь виноградных усиков. Вижу их всех как на дагерротипе: я взирала на клёкот и грохот семьи с высоты своего горшка. Он был синий, эмалированный, с голубой незабудкой на боку, установленный для меня посреди беседки, увитой виноградом сорта «дамские пальчики». Сидеть на нём было уютно, сидела я подолгу, меланхолично впитывая громогласную перебранку всех со всеми, лай невменяемой собаки Найды, боевые вопли соседских кошаков, грозные окрики бабки… А надо всем этим балаганом – томный гул фиолетовых горлинок – тончайшую аранжировку детства.
Дом дядькин был саманным скоростроем: вернувшись с войны, дядя Яков сложил его собственными руками из кизячных кирпичей. Немудрёный такой домишко: две комнаты, соединённые одна с другой длинной застеклённой кишкой веранды, на которой стояли газовая плита, стол и крашенные синей краской табуреты. Синий цвет Востока, сакральный цвет, отгоняющий злых духов, не имел к нашим табуретам ни малейшего отношения. Просто соседу Косте удалось украсть со стройки именно эту банку.
В одной комнате дома жил сам дядя с семьёй, в другой жили бабка Рахиль и дед Сендер. Смешной домик… Но двор был большой, приёмистый, много-сарайный, пару-собачный, бродяче-кошачий, гурляще-голубиный, подсолнухово-ромашковый, бабочко-пролётный, пчелино-стрекозиный… – прекрасный ташкентский двор.
Я восседала в центре двора на горшке, наблюдая жизнь. В детстве горшок абсолютно равен трону. К вечеру за мной по пути из художественного училища заезжал отец. Я встречала его на троне. Так государыня принимает заморских послов с верительными грамотами.
– Этот ребёнок когда-нибудь поднимается с горшка? – спрашивал отец недовольно.
– Ребёнку должно быть интересно! – отвечала ему бабка. И она, в сущности, была права: вокруг меня бурлила жизнь, я наблюдала её пульсирующий ход, мне было интересно.
Детство не подлежит уценке…
Видимо, за каждым из нас, как в картах Таро, закреплён некий образ, психологическая матрица. Я вечно сижу на каком-нибудь насесте; сижу и смотрю, как мимо меня катится мир; медленно впитываю этот мир, для того чтобы впоследствии его извергнуть, описав по-своему, как можно честнее, смешнее и трагичнее…
С горшка я давно пересела на табурет, где, позируя отцу, часами сидела, уставясь туда, куда указывала его кисть. Потом пересела на обитый кожей музыкальный стул, сохранивший следы моего седалища за много лет фортепианной зубрёжки. И, наконец, меня приняло моё бывалое писательское кресло, в котором написано страшно произнести сколько сотен и даже тысяч страниц. При этом я то и дело снова посиживаю на разных табуретах, стульях и креслах, позируя уже не отцу, а мужу, художнику Борису Карафёлову; он ведь тоже – родня, и «беседовать с ним можно, только наевшись гороху».
Детство не подлежит уценке. Ребёнку должно быть интересно. А мы всегда – дети, мы по-прежнему дети, и сердца наши – как поёт второстепенная героиня в повести о молодом художнике, которую вы сейчас откроете, перелистнув страницу, – «наши сердца не имеют морщин».
Праздник, который…
Маленькая повесть
Борису Карафёлову
1
В армию его призвали с третьего курса художественного училища. Тогда это казалось нормальным: ну, время подкатило, что поделать.
– Вернёшься, дорисуешь, – буднично бросил майор на призывном пункте, – вот Родине долг отдашь. Подождут твои краски-кисточки…
Всё же он прихватил с собой этюдник. Служба армейская представлялась Борису тягостной, морочной, но человеческой работой: должен же и там когда-то свободный вечерок выпасть, выходной… или как у них там это значится: увольнительная?
Симферополь уже закипал душноватым весенним дымком: по дворам цвели белым цветом вишня и алыча, в парке Тараса Шевченко нежно и молодо зеленели дубы, платаны и ясени, по берегам озёр, Нижнего и Верхнего, вдоль реки Славянки мягко стелились космы вавилонской ивы, а на склонах, покрытых молочаем, щедрыми солнечными каскадами соцветий сиял бобовник, ядовитый, но невозможно красивый кустарник, прозванный в народе «золотым дождём».
Время было самое рабочее, самое нетерпеливое: студенты училища имени Н. С. Самокиша группами выезжали на пленэры.
* * *Огромный двор военкомата гудел призывниками. Все ещё в гражданском, с рюкзаками, будто в поход собрались. Борис тоже был с рюкзаком, довольно тощим: кроме зубной щётки и пары чистого белья, там лежали блокнот для рисования, карандаши, две книжки и бутылка очищенного скипидара под названием «Пинен». Зато этюдник он загрузил под завязку: кисти, мастихин, краски в тюбиках. На всё это богатство потратил последнюю стипендию.
В общей неразберихе было шумно, и, несмотря на задиристые оклики и бодрые шуточки новобранцев и провожающих, несмотря на две гармони, залихватски разваливающие меха по разным углам двора, парни выглядели неприкаянными, озирались и глазами искали предполагаемое начальство.
Между призывниками сновали офицеры, приехавшие из разных воинских частей сопровождать ребят до пункта назначения. Одного из них – сутулого, носатого, длиннорукого – Борис приметил и мысленно прозвал Гоголем: тот и вправду чем-то напоминал если не самого писателя, то некий гоголевский персонаж. У него и фамилия была какая-то персонажная, а в сочетании со званием вообще смешная: старшина Солдатенков. Но был он симпатичен своей участливой физиономией и суетливым мягким выговором. Подходил к призывникам, первым представлялся, заговаривал, интересовался «интересами». Подошёл и к Борису, спросил:
– Эт что у тебя за чемоданчик?
– Это этюдник, – объяснил тот. – Я художник.
– Не-е, – с сожалением отмахнулся Солдатенков. – Мне бы спортсменов. Я там у нас спорт курирую.
Вот к этому дятлу носатому Борис решил держаться поближе: он не любил сутолоки и бестолковщины, любая неопределённость его раздражала, а с утра и до сей минуты вся его жизнь вообще представлялась полным хаосом.
Наконец всю разношёрстную, оживлённо гудящую толпу новобранцев построили в колонну и повели на вокзал…
…Странно было идти с этюдником через плечо знакомыми улицами, оставив за спиной привычный поворот на Тамбовскую, зная, что ближайшие три года не увидишь ни этих улиц, ни этого поворота; не пройдёшь мимо сутулой пицундской сосны на углу, не поднимешься по оббитым ступеням в портик с белыми колоннами, не войдёшь в знакомый вестибюль училища имени Н. С. Самокиша…
На вокзале уже стоял под парами их состав специального назначения: длинная цепь общих вагонов, хвоста не видать. Когда проводники с лязгом открыли двери, парни ломанулись внутрь, захватывая полки, кто пошустрее – нижние: всё же столик – немалое удобство в долгой дороге. А плестись, они уже понимали, предстояло много дней, пропуская все пассажирские и грузовые составы, по пути подбирая новобранцев из разных прочих мест необъятной, ох и необъятной же родины. Конечный пункт их дороги был Благовещенск. Странно произнести, а уж представить…
Борис протискивался по вагону меж спинами, плечами, бокастыми рюкзаками: всюду забито. Заглянул в последний отсек у туалета, где и нижние, и верхние полки были заняты; а тащиться дальше по вагонам смысла не было. Он вошёл, закинул рюкзак и этюдник на третью, багажную, полку и одним махом взлетел наверх. У него было лёгкое ловкое тело и не забытое с отрочества, ещё со школьных занятий акробатикой, мышечное удовольствие от прыжков на снарядах. Нащупав в рюкзаке, вытянул книгу – «Праздник, который всегда с тобой» – и улёгся на верхотуре, чуть не лбом в потолок, неторопливо пролистывая страницы, трепетавшие на ветерке из окна, как крылья бабочки.
Вообще-то он дважды уже прочёл эту книгу, но время от времени снова её раскрывал, прихватывая там и тут по десятку страниц для особого парижского настроения. Рассуждения Хемингуэя о литературе его занимали мало, но с жадным волнением он представлял улицы, кафе и набережные Сены начала века, по которым ходили великие художники – Пикассо, Матисс, Дерен… Они ведь могли оказаться за стойкой какого-то бистро, неподалёку от ещё не знаменитого писателя, перекинуться с ним парой слов, угостить выпивкой.
«…Париж никогда не кончается, – читал Борис, лёжа на третьей полке в поезде, который мчал его в такую даль, что сердце отказывалось верить и чувствовать, – и воспоминания каждого человека, который жил в нём, отличаются от воспоминаний любого другого. Мы всегда возвращаемся туда, кем бы мы ни были, как бы он ни изменился, независимо от того, насколько трудно или легко было до него добраться. Он всегда того стоит и всегда воздавал нам за то, что мы ему приносили…»
* * *Книгу привёз из Москвы друг и однокашник Бориса Володя Пирогов. Счастливчик Володька обладал ценной штукой: пороком сердца, то есть от призыва был освобождён, и к тому времени, как Борис вернётся из солдатской кручины, должен был училище закончить. Они дружили с первого курса, с тех пор, как на вступительных экзаменах случайно обнаружили, что родились в один и тот же день, в одной временной точке существования этого мира (Володя любил завернуть что-нибудь такое). Сначала целый год снимали на двоих комнату у татарки Фатимы. Комната, вообще-то, была сарайчиком за кухней, «вместительная кровать» из объявления, наклеенного на одной из колонн училища, – деревянным топчаном с блохастым матрасом. Но мальчики не роптали: называли свою нору «апартаментами» и, благо особой упитанностью не отличались оба, отлично умещались валетом на своём комковатом ложе.
Здание училища угнездилось в самом сердце района, тесно застроенного татарскими домами. То есть они были татарскими раньше, давно; после войны их заселили другие советские граждане, понатыкавшие в глиняные и каменные заборы осколки битого стекла – от ворья. Но семью Фатимы, в отличие от других крымских татар, после войны не выслали, муж её воевал в партизанах и потому предателем родины не считался.
Семиметровая холодная пристройка за кухней у Фатимы обходилась недорого, каждому по трёшке, но и стипендия на первом курсе не ахти была: червонец. Ни он, ни Володя на помощь из дому не надеялись и потому справлялись сами: каждого первого числа закупали, нареза ли и сушили в печке несколько буханок серого хлеба, покупали две пачки рафинада в кубиках. Это была основная, базисная, говорил Володя, еда: углеводы и глюкоза для мозга. Накачивались сладким чаем, заедали вкуснейшими, чуть присоленными сухарями… Совсем недурно! Иногда и Фатима подбрасывала огурчик или помидорину, а они взамен помогали ей в огороде.
На втором курсе повезло: дали им по койке в общежитии, в комнате на семерых, и стипендию повысили до двенадцати рублей. А на третьем курсе стипендия поднялась аж до четырнадцати рубликов. Это ж, говорил Володька, мы теперь кто: кум королю и сват министру!
Словом, стали они совсем самостоятельные парни.
Кроме того, оказавшись гороскопическими близнецами, они и день рождения справляли вместе: ежегодно в конце апреля приезжали к Володе домой.
Тот был родом из посёлка Отрадное, что под Ялтой, между Массандрой и Никитой; ехать недалеко, часа два с довеском: садились у общежития на троллейбус номер 3 и мимо парка Шевченко, мимо рынка, по центральной улице доезжали до автовокзала. Там пересаживались на другой троллейбус, междугородний, и это уже начиналось настоящее путешествие мимо склонов, желтеющих молочаем, заросших мушмулой, миндалём и боярышником.
Путь Симферополь – Ялта был весёлый, солнечный, кипарисовый, холмистый; с кобальтово-синим апрельским небом, прочерченным троллейбусными проводами; с деревянными ларьками на остановках, где можно было выскочить и купить чебурек или просто кулёк семечек у старухи… Этот путь был прообразом всех путешествий его жизни, и в дальнейшем ни в Тоскане, ни в Шварцвальде, ни по дороге в красных скалах Мёртвого моря Борис не испытывал такого предвкушения счастья и огромной жизни, как в недолгом пути в Отрадное, с Володей на соседнем сиденье.
* * *Володина мама, Ксения Анатольевна, жила в одноэтажном доме частной застройки: две комнаты и кухня, а ещё открытая деревянная веранда, на которой к приезду мальчиков накрывался праздничный стол.
Домик был скромный, зато двор – неожиданно, несоразмерно дому – огромный, как в имении, засаженный по периметру кипарисами, самшитовыми кустами, яблонями и вишнями; тенистый, но с перепадами весь день гуляющих по нему солнечных полянок, озарявших то клумбу с пионами и календулами, то уголок с густыми красными зарослями кизила…
А посреди двора жил отдельной жизнью пруд, выкопанный и обустроенный ещё покойным Володиным отцом. Когда-то в него были выпущены две морские черепахи и несколько золотых рыбок, которые давно уже выросли в матёрых пятнистых красно-белых патриархов и вели бесконтрольную жизнь естественного отбора, сражаясь с черепахами за крошки хлеба.
Ксения Анатольевна работала в Крымском институте виноделия и виноградарства «Магарач» и каждый год к приезду мальчиков припасала бутылку мадеры их года рождения: 1950-го.
А в последний их совместный приезд приготовила особенный сюрприз.
Борис к тому времени уже побывал в военкомате, уже услышал от майора совет про краски-кисточки. Понимал, что катится, катится к чертям его жизнь, учёба, живопись, а заодно едва вспыхнувший нежный интерес к девушке Асе, с которой месяца полтора назад он познакомился в третьем троллейбусе и с тех пор всегда старался подгадать к семи тридцати, когда она садилась на пять остановок до своей библиотеки.
Все эти пять остановок они оживлённо болтали, а в последний раз он рискнул и попросил её «посидеть» для портрета. И по тому, как славно она вспыхнула, будто просил он о чём-то запретном, тайном, по тому, как еле слышно выдохнула: «ну… хорошо», он понял, что, возможно, и для неё эти пять остановок по утрам хоть что-нибудь да значат.
Он понимал, что сидит на террасе у Ксении Анатольевны в последний раз, во всяком случае, в последний раз перед долгой разлукой; что девушка Ася проедет мимо его судьбы – не станет же она дожидаться из армии едва знакомого человека. Он сидел за столом, вдыхая трогательный, с нотками ванили, накатывающий волнами аромат жимолости, что росла у ступеней веранды, и заворожённо отмечал, как длинные тени кипарисов подбираются к двум обложенным кирпичами клумбам, где ещё горели на солнце ноготки и ромашки, но вот-вот должны были погаснуть – надолго, если не навсегда.
Пруд, который выкопал покойный Володин отец, неподвижно лежал в тени кипарисов огромным латунным диском, и на глади его возникали и гасли узоры от рыбьих плавников.
– Итак, други мои, – сказала Володина мать, доставая из буфета диковинную расклешённую бутыль тёмного стекла, – запомните этот день хорошенько, ибо не уверена, доведётся ли вам ещё в жизни такое вкушать… Это, мальчики, коньяк тысяча восемьсот восемьдесят третьего года! – И, осторожно наклоняя старинный сосуд, отвесила им в рюмки густую, как патока, янтарно-смолистую субстанцию…
Борис не понял тогда – понравился ему напиток или не очень, уж больно вязким и странным для языка оказался, его вот именно что приходилось не пить, а вкушать…
…но сейчас, лёжа лицом в жёлтый пупырчатый потолок общего вагона, он рассеянно листал страницы знакомой книги, вспоминая приземистую бутыль старинного коньяка и такие же приземистые рюмки красного стекла, вспоминая, как вкрадчиво и неумолимо тянулись длинные острые тени кипарисов к парчовой скатерти на столе.
«– …А помнишь, как мы весной спустились на итальянскую сторону Сен-Бернара, после подъёма в снегах, и втроём с Чинком весь день шли до Аосты?
– Чинк называл это «Через Сен-Бернар в городских туфлях». Помнишь свои туфли?
– Бедные туфли. Помнишь, как мы пили фруктовый коктейль в кафе «Биффи», в галерее «Капри», со свежими персиками и земляникой из высокого стеклянного кувшина со льдом?»
…Вдруг вспомнилось, как однажды в мае, получив стипендии, они с Володей наладились в Гурзуф: там, в Доме творчества художников имени Коровина, была такая заветная лавка чудес со всем очень нужным для работы: красками, кистями, лаком и разбавителями…
…Они вышли на остановке «Гурзуф-павильон» и по главной улице Ленинградской (имя постороннее этому пейзажу, морю, шершавой скале Дженевез-Кая) стали спускаться мимо домов с резными деревянными галереями к распахнутой внизу искристой чаше моря, где в четверти километрах от берега ярко и празднично, как на открытке, сидели знаменитые Адалары: две скалы, два горба древнего морского чудовища.
От Ленинградки, и без того неширокой улицы, истёртыми ступенями спускались кривые путаные переулки. На каменных заборах мирно дремали кошки, настоящий цветник разного окраса шёрстки. Одна, красновато-рыжая, сиявшая на солнце абрикосовым огнём, лениво потянулась, круто выгнула спину… и вдруг по широкой дуге перелетела улицу прямо перед лицами мальчиков, приземлившись на заборе слева.
– Ну и ну, – сказал Володя. – Кошка-летяга…
Курортный сезон ещё толком не начался, ни фотографа с ручной обезьянкой, ни горластых зазывал на экскурсии. Утренний покой изливался на черепичные и плоские крыши, стекая вниз, к старым волнорезам с ржавой арматурой, вспыхивая кружевными брызгами пены в аквамариновой густоте моря.
Они остановились и заспорили – как передать на холсте эту синеву до горизонта: изумрудной зелёной, кобальтом голубым или индиго, а может, кобальтом синим, ультрамарином и кобальтом фиолетовым?
Скупнёмся, предложил Володька, время же есть?
Времени-то было у них навалом, только на пляж не сунешься: трусы у обоих дырявые. Неловко… Они пошли по берегу в поисках безлюдного места и вскоре набрели на укромную бухточку за гребнем скалы; судя по проволочному забору, принадлежал этот участок чему-то военно-закрытому. Зато вокруг ни души, отметил Володька, можно купаться голяком, чтоб потом не фигурять в приличном месте с мокрыми задами. Они перелезли через забор, разделись и с воплями бросились в холодное утреннее море. Так что Борис не сразу оглянулся на Володин крик, когда тот напоролся ногой на что-то острое.
Мгновенно прозрачная и крапчатая от камушков на дне вода окрасилась тёмным. Отпрянув, секунду-другую Володя с ужасом глядел на дымные струйки крови, поднимавшиеся со дна, и вдруг, закатив глаза, тихо ушёл под воду. Борис ринулся к нему, подхватил под мышки и потащил на берег. Нога Володина сильно кровоточила, а Борис знал, хотя друг и скрывал эту свою боязнь, что вид крови, как своей, так и чужой, вырубает его с маху, как гимназистку.
На берегу он перевязал Володину ступню… трусами, конечно же, порванными на полоски. Ветхая материя рвалась как бумага, да и ничего другого из того, что не жалко, под рукой не оказалось. С грехом пополам натянул и на себя, и на Володю брюки и рубашки – и потащил друга на закорках к Дому творчества, где уж точно должен был находиться медпункт.
…Он там и оказался. Пожилая медсестра обработала и забинтовала Володе ногу (обе пары драных окровавленных трусов были ею брезгливо выкинуты в мусорное ведро и для скромного бюджета юношей потеряны безвозвратно), припугнула их столбняком от ржавой проволоки и погнала в больницу – делать укол… Гурзуфская больница стояла на ремонте, так что они потащились в Алушту и там невыносимо долго маялись в длиннющей очереди в приёмный покой, пока не прорвались в кабинет, где юная прекрасная дева, спустив с Володи штаны и удивившись отсутствию нижнего белья (стрельнула глазами и заметила: очень удобно, бес её разберёт, что имея в виду), вкатила наконец вожделенную сыворотку в его тощую задницу.
Зато какой мощный, какой пенисто-розовый закат над морем они наблюдали сверху, стоя на шоссе! Хлопья облаков стягивались к горизонту, стремительно наливаясь кровью; солнце, спускаясь, остывало и багровело, а коснувшись воды, вонзило в море длинный кинжал, остриё которого, достигнув берега, долго шевелило на мелководье розовую гальку.
– Значит, так: небо… кадмий лимонный и кадмий жёлтый…
– …можно и кадмий оранжевый, – вставлял Володя, – а вода – кобальт фиолетовый и ультрамарин.
– …а гора как светится, смотри: кобальт синий и ультрамарин, да. Передаём контрастом.
Ни черта они в тот день не успели, ради чего ехали: ни красок не купили, ни даже в море по-человечески не искупались. Проваландались в потной очереди за столбнячным уколом, все свои гроши потратили на попутки. Но тот ошеломительный закат в вихре багряных хлопьев, под которым они спорили, стоя без трусов, без денег, но с огромным вдохновенным будущим творческих побед… – разве то был не праздник, который – всегда, всегда?..
* * *В Керчи и в Джанкое в поезд добавилось призывников, стало ещё теснее и громче, молодая спёртая мужская сила накапливалась и сатанела, распирала загустевший воздух. Из конца в конец вагона кто-то кого-то окликал: «Санёк, чуешь подляну?!»; кто-то возле туалета столкнулся с давним недругом, кто-то узнал одну падлу с Консервного завода… Голоса грубели, похохатывали, взлетали угрожающей матерщиной… Часа через полтора, будто все ждали этой искры, вспыхнула и покатилась по вагону драка между керченскими и джан-койскими.
Метелили друг друга жадно, страшно, отчаянно; в ход пошли ножи, заточки и кастеты, для чего-то припасённые в солдатскую дорогу… Кровища летела на стенки вагона, кто-то уже валялся в тамбуре на полу, зажимая живот. Сержанты, старшины метались по составу, но унять бешеных драчливых лосей не могли.
Борис лежал на своей верхотуре, листал книжку…
Чьи-то головы мотались под его локтем, кто-то выл от боли, мат стоял кромешный. Время от времени он скашивал взгляд вниз, перелистывал страницу, читал дальше…
Когда на узловой станции в вагон ворвалась вызванная милиция и зачинщиков скрутили и вывели, а заодно вынесли тех, кого сильно покромсали, старшина Солдатенков, тяжело дыша, пошёл по проходу, осматривая поле битвы. В их отсек тоже заглянул, бормоча:
– Бородино… Бородино, блядь!
Огляделся, поднял голову и заметил Бориса на третьей полке.
– Ну что, – спросил, – культурно проводим время? – чем Бориса порадовал: у старшины Солдатенкова, которого он сразу отметил, имелось, оказывается, и чувство юмора. Тот взял в руки книжку, покрутил-полистал, прочитал вслух название. Хмыкнул: значит, вот чем вдохновлялся новобранец посреди жуткой свалки! А имя автора не одолел: это не имя, сказал, возвращая книгу, а воровская кличка какая-то. Разве прилично такое на книжке печатать?
* * *В Перми ещё лежал снег, ледяной ветер продувал угрюмый стылый город, вытянувшийся вдоль Камы. Какое-то пространство… оглохшее, думал Борис.
В сборном пункте военного комиссариата, куда свезли не только крымчаков, но и сибиряков, и прибалтийцев, и ребят из регионов Кавказа, всем выдали форму, разом превратив разношёрстную толпу в воинский контингент. Всё это море призывников разделялось затем на рукава и протоки и далее следовало по разным своим маршрутам – всегда в сторону, противоположную от родного дома, от семьи, от душевного тепла; в сторону, противоположную сердцу и всем чувствам и привязанностям жизни.
Уже в форме, с рюкзаком на коленях Борис сидел на своём этюднике, поставленном на попа, в огромном кирпичном бараке с бетонным полом. Внутри у него всё заиндевело, как воздух снаружи, и молчало. Мысленно он уже выстроил стену между своим тёплым морем, цветущим Симферополем, другом Володькой, троллейбусом номер три по утрам… и всем тем, пока неизвестным, что ему предстоит. Стена была каменная, холодная, высотой в три года.