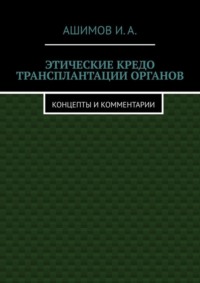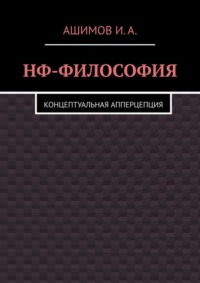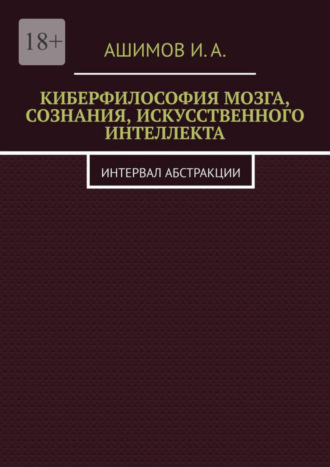
Полная версия
Киберфилософия мозга, сознания, искусственного интеллекта. Интервал абстракции
С эволюцией «Х-онтобионта» в какой-то мере Каримову постепенно стало понятно. Но, что происходило с телом хозяина, с его организмом? Пожалуй, центральным вопросом в этом аспекте является обеспечение «Х-онтобионта» энергетическим потенциалом и безопасностью. Что это значит? Насколько новые функции «Х-онтобионта» окупают затраты на ее содержание? Между тем, этот вопрос является ключевым в понимании направления и основных путей эволюции не только самого «Х-онтобионта», но и организма хозяина в целом. Примерно такие мысли обуревали Каримова. Он мысленно представил себе, что «Х-онтобионт», как слаженная система столкнулся с неожиданными проблемами. К примеру, создав память, он понял всю обременительность этой функции.
Фантазируя уже точку зрения «Х-онтобионта», Каримов пришел к пониманию роскошности самой возможности что-либо запоминать. Ведь это удел энергетически состоятельных существ и, в первую очередь, организм, с которым «Х-онтобионт» находится в симбиозе. Ну, а в чем заключается механизмы обеспечения высокой скорости и уровня обмена веществ в организме для развития памяти «Х-онтобионта»? Естественно, ему, то есть «Х-онтобионту» потребуется дополнительные энергозатраты.
Объявив приоритетом это направление «Х-онтобионт» максимально унифицирует и оптимизирует питательные функции симбиотического хозяина. Вот-так «Х-онтобионт» добивается этой функции во имя активной адаптации к внешней среде, использующим разные органы чувств, хранящим и сравнивающим свой индивидуальный опыт. Для этой цели Х-онтобионт развил и другой механизм – теплокровность в организме хозяина.
Как известно, любое повышение скорости метаболизма приводит к увеличению потребления пищи. «Х-онтобионт» понимает, что совершенствование приемов добывания пищи и постоянная экономия энергии – актуальные условия выживания своего и хозяина.
Для чего необходима функция запоминания, а также оптимизация механизмов принятия быстрых и адекватных решений? Активная жизнь должна регулироваться еще более активностью самого «Х-онтобионта» и организма хозяина. При этом ему, то есть «Х-онтобионту» необходимо работать с заметным опережением складывающейся ситуации. Однако повышение своего метаболизма приводит к неизбежному возрастанию затрат и на содержание все более возрастающей затраты организма хозяина. В какой-то момент он понимает, что возникает замкнутый круг: теплокровность требует усиления обмена веществ, которое может быть достигнуто только повышением метаболизма своего и хозяйского организма.
Исходя из величины относительной массы «Х-онтобионта» обычно определяют и долю энергетических затрат, приходящуюся на «содержание» нервной системы. Однако в этих подсчетах, как правило, остается неучтенной масса его хвостовой части – спинного мозга с его периферическими ганглиями и нервами. «Х-онтобионт» понимает, что помимо себя постоянно в активном состоянии находятся все периферические отделы, поддерживающие тонус мускулатуры, контролирующие дыхание, пищеварение, кровообращение. Между тем, отключение хотя бы одной из таких систем приведет к гибели организма хозяина и его самого – «Х-онтобионта».
– «…Что же получается? „Х-онтобионт“ в процессе эволюции научился менять нагрузку на эти системы в зависимости от необходимости. Если организм хозяина и сам „Х-онтобионт“ активны, то активность всех системы возрастает и расходы на содержание их нервного аппарата также увеличиваются. То есть все заботы только для себя – питание, безопасность, энергия. Все для себя, причем всегда и везде на приоритетном уровне качества и сроках. Прям, как конченный эгоист…».
С нейроанатомической точки зрения, эволюция мозга у позвоночных животных происходил в несколько этапов, что было доказано М.А.Дерягиной.
На первом этапе в эмбриональной стадии на спинной стороне зародыша закладывается нервная пластинка, которая погружается под кожу и сворачивается в трубку.
На втором этапе у позвоночных животных в эмбриональной стадии та самая нервная трубка образует передний и промежуточный мозг, средний мозг, мозжечок и продолговатый мозг.
На третьем этапе у хрящевых акуловых рыб в связи с быстрым движением развит мозжечок, а сильно развитое обоняние привело к увеличению переднего мозга, который становится центром переработки обонятельных сигналов.
На четвертом этапе – у земноводных первичный мозговой свод – древняя кора.
На пятом этапе – у рептилий появляется зачаток новой коры. На шестом этапе – у млекопитающих новая кора больших полушарий служит центром высшей нервной деятельности. На седьмом этапе – появляются борозды и извилины.
В коре мозга всех млекопитающих появляются поля первичного коркового анализа. Однако, с нейрофизиологической точки зрения, не следует смотреть на эволюцию мозга от самых простых беспозвоночных до человека, как на линейный поступательный процесс.
Движение вверх по эволюционному древу, по мнению большинства специалистов, сопровождалось постепенным увеличением количества нейронов в мозгу, усложнением способа их связи. Развитие способностей центральной нервной системы и головного мозга обязано, в первую очередь, усложнению химического аппарата передачи нервных импульсов.
В романе «Икс-паразит» есть такая сюжетная завязка, когда Салимов упрекает Каримова:
– «Ну и завернул ты с гипотезой. Однако, пока твоя идея малопонятна, она чрезмерно закручена. У любого человека, который услышит твою концепцию, его мозг, то есть „Х-онтобионт“, готов выпрыгнуть из своей костяной тюрьмы, только бы не соглашаться со всеми твоими вымыслами о нем. Как бы то ни было, не забрасывай свои исследования. Дерзай! Доказывай свое предположение».
В науке известно, что ученые, как-то громко объявив о новой идее либо концепции со временем, не сумев доказать, концептуализировать и философско осмыслить полученные результаты, стыдливо прячут их концы в воду. А нужно совсем другое – настойчивость ученого, настырность и усидчивость исследователя, оперативность своего ума и напряжения интеллекта. Тогда-то и состоится новое в науке.
Интересно суждение Каримова на сей счет.
– «Х-онтобионт» всегда и при любом удобном случае окажет сопротивление полному пониманию своей же природы. – «Вероятно, „Х-онтобионт“ посчитает, нечего лишний раз привлекать на себя внимание. Люди у меня в заложниках. Для них я останусь загадкой, пусть ученый люд с пеной у рта с набором претензией мирового масштаба и глупости, тщетно попытаются разгадать».
Между тем и Салимов и Каримов проявляли снисходительность к своим суждениям и как бы оправдывались за свою дерзость.
– «Но это версия, именно версия, а не правда в последней инстанции. Понимаем, что вся наша версия состоит из нюансов – мелочей, совпадений, аналогий, воображений и фантазий. Ничего не скажешь, складно, но местами теряется логика. Поймите нас правильно, мы, возможно, не сделал важное открытие, но нас каким-то образом задела такая вероятность».
Знаменитый фантаст Р. Бредбери писал: – «История научной фантастики – это история идей, которые изменяли мир, но которые сначала были осмеяны и отвергнуты». В этом аспекте, разумеется, идея о мозге-паразите абсурдна, по сути. Тем не менее, любая художественная фантастика выступает своего рода ключом к реальности.
Р. Бредбери, придумывая различные абсурдные или гиперболизирующие ситуации, пытался донести до людей скрытые проблемы, недостатки и добродетели, которые проявляются только после более глубокого размышления и понимания. В этом отношении идея о «мозге-паразите» свидетельствует о таком преимуществе художественной фантастики – люди могут «посмотреть» на глобальные проблемы эволюции на одном живом примере. Потому, научная фантастика является той самой прикладной философией. Если утилитарной задачей первой является создание Мечты, то второй – осмысление взлета мыслей при попытках реализации той самой Мечты. Об этом говорилось уже в предисловии к книге.
Действительно научная фантастика запускает мечту. К примеру, фантазия Жюля Верна «Из пушки на луну» послужило поводом для разработки космической ракеты у Циолковского, а фантазия «тысяча лье под водой» – для разработки подлодок. Если первая фантастика была неправдоподобной, то вторая – вполне правдоподобной с точки зрения науки. Но в любом случае, они вызывали благородные мечты.
Безусловно, научная фантастика должна носить печать некоей правдоподобности. В противном случае, вряд ли, идеи и мысли, отражающие в нем, не захватят читателя и не выполнят свою главную функцию – не зажгут у него Мечту. В этом отношении, ученый ли, писатели ли, философ ли, пишущий научную фантастику должен ориентироваться в научных и технических вопросах.
Отсюда следует, что, именно ученые, безусловно, являются обладателями творческого дара, как по выдвижению фантастических идей, концепций, гипотез и теорий, как по популяризации достижений наук, а также как созидателей соответствующих технологий. В этом аспекте, интересен сам по себе феномен «Мозг Эйнштейна», как образцово-показательный орган – некогда носитель высочайшего интеллекта. Он сохранен в качестве музейного экспоната согласно завещания самого Эйнштейна. С позиции экстропии мозг Эйнштейна становится объектом исследований, имеющем то мифическую, то некую кибернетическую, то квантово-квазионную природу.
Разумеется, исходным является сама мысль о самом гениальном мыслителе и ученом А. Эйнштейне. Парадоксально, но его гениальность и величайший ум изображается как сверхсовершенный механизм, когда, во-первых, личность ученого, носителя непомерной интеллектуальной мощи изымается из сферы психологии и помещается в мир кибернетики; во-вторых, величайшая личность с выдающимися чертами гения и мыслителя изымается из сферы человеческого мира и помещается в мир Сверхчеловека. Между тем, известно, что в научной фантастике сверхчеловекам всегда присуща некоторая овеществленность. Так было с Эйнштейном, создавшему теорию относительности, так было и с другими гениальными учеными, создавшими, к примеру, теорию ядерного синтеза, что легло в основу создания атомной и водородной бомб.
Этих гениальных ученых обыкновенно характеризуют через их сверхпродуктивный мозг. В этом аспекте, Эйнштейн и другие, не менее легендарные чем он, ученые-физики макро и микромира, принадлежат материальному миру и лишь потом человечество поймет, что интеллектуальная сила атомщиков не в полной мере вышла на духовную орбиту.
Сам Эйнштейн описывает свою мышление как наподобие поточного производства мыслей. Сама мысль ему представлялась как материя, наделенная энергией, как поддающийся измерению продукт некоего сложного аппарата, преображающего мозговую субстанцию в силу. Будучи убежденным в этом, он бывал в качестве подопытного у физиологов, которые записывали волновые эффекты его мозга в состоянии думания над очередной проблемой физики.
Естественно, фантаст задумался бы, «А что если…?», раз Эйнштейн непрерывно вырабатывал мысль, и сама его смерть оказалась лишь остановкой в выполнении этой локальной функции, то есть «мощнейший в мире мозг перестал мыслить», нельзя ли было после смерти Эйнштейна извлечь его мозг и поместив в контейнер с жидкой средой продолжать «читать его мысли», включив режим диалога?
Если так, то додумать фантасту с помощью соответствующих ученых и специалистов, процедуру, во-первых, извлечения мозга из тела и помещения его в резервуар; во-вторых, налаживания его связи с внешним миром с помощью соответствующих технологий, не составит особого труда.
Кстати, так мы и поступили, когда писали научно-фантастический роман «Аватар» (Ашимов И. А., 2024). Более того, мы попытались додумать о том, что, во-первых, в целях повышения эффективности мыслительной деятельности создать интерфейс изолированного мозга («мозг в контейнере») с искусственным интеллектом; во-вторых, осмыслить на уровне киберфилософии высокопродуктивную мозговую деятельность вируализированной личности («аватара») в вируализированном мире.
Причем, предположили, что такая вечная жизнь «аватара» казалась хорошим вариантом, особенно, во-первых, по сравнению с непродолжительной жизнью в ее втором, разлагающемся теле, а во-вторых, по сравнению с обычной жизнью определенной продолжительности, вечное «проживание», кочуя в виртуальном прошлом, настоящем и будущем. Аватар уже мыслить совершенно другими категориями типа «по сути своей теперь я и есть мозг».
В другом научно-фантастическом романе «Пересотворить человека» [Ашимов И. А. (Кара Дабан). Пересотворить человека. Научно-фантастический роман / И.А.Ашимов. – Б.: «Гульчынар», 2012. – 222 с.] также говорится о том, что человек – это его мозг. Если мозг человека пересажен в другое тело, а точнее с точки зрения трансплантологии, если к мозгу человека пересажено другое тело, то разве он не будет там хозяином, а не пересаженным придатком? То есть тот человек, который обладает мозгом будет тем же самым человеком, но с чужим телом.
Следовательно, мы должны говорить, что мы – это наш мозг. Все это верно в отношении человеческого «я». В научно-фантастическом романе «Икс-паразит» (Ашимов И. А., 2024) говорится о том, что можно вообще с самого эволюционного зарождения нервные клетки, затем нервные ткани и узлы, как прообразов будущего мозга (головного и спинного), вживаются в тело примитивных простейших, переподчинив его, став, таким образом, хозяином организма. И такой вектор эволюции продолжился до формирования нынешнего человека. И если это так, то не предполагает ли подобное утверждение, что в конечном счете мы можем быть лишь мозгом, а мозг в свою очередь быть по своей биологии неким икс-паразитом?
Вообще, объяснимо ли происхождение мозга человека, с позиций дарвиновской теории эволюции? Ведь в основе эволюционного процесса лежат случайная изменчивость и естественный отбор. Прежде всего, читатель должен уяснить то, что дарвиновская теория построена, как негативный процесс, в котором не выживают сильнейшие, а погибают слабейшие. Так вот, согласно современных данных, в основе эволюции мозга лежит не дарвиновский отбор, не мутации, а индивидуальная внутривидовая изменчивость, которая существует постоянно во всех популяциях. Именно индивидуальная вариабельность дает основу для сохранения в популяции тех или иных функций. А сохранение, как известно, определяется генами.
Вообще, читатели, которые хорошо ориентированы в материалистической философии знают и понимают, что марксистский философский материализм в полном согласии с естествознанием учит, что мышление есть продукт мозга человека, а мозг – орган мышления. Человек мыслит только при помощи мозга, и нелепо с точки зрения науки отделять мышление от материи, которая мыслит. Между тем, философия идеалистического толка утверждает о том, что мышление не зависит от материального субстрата, доказывая первичность сознания и вторичность материи. Авенариус, Шеррингтон и другие писали, что мозг не имеет никакого отношения к мышлению, что мышление и сознание имеет сверхприродный генезис.
И.М.Сеченов, И.П.Павлов и другие провозгласили материалистическое положение о единстве «душевных» и телесных явлений, что ощущения, сознание, мышления являются результатом деятельности головного мозга. По их мнению, мысль есть функция материального тела – головного мозга, а именно коры больших полушарий, являющихся основным органом высшей нервной деятельности животных и человека. Безусловные и условные рефлексы, закрепленные наследственностью являются механизмом аналитико-синтетической деятельности мозга, проявляющейся вовне в виде ответного действия, имеющего характер целесообразности и направленного на поддержание единства организма с меняющимися условиями существования. Естественно, мозг исследован со всех сторон.
С точки зрения археологии, к сожалению, головной и спиной мозг не сохраняется в ископаемом состоянии. Хотя, время от времени в литературе появлялись сообщения о находках «окаменелого мозга» животных и человека. В последнем случае они, естественно, всегда вызывали сенсацию. Однако, при детальном осмотре устанавливалось, что принималось за «окаменевший головной мозг», оказывалось чем угодно, только не мозгом.
Хорошо зарекомендовал методика сохранения изолированного анатомического препарата реального головного и спинного мозга целиком в стеклянной банке с формалином. Любой предвзятый наблюдатель может убедится в том, что внешне он удивительно похож на неизвестное насекомое – не то клещ с хвостовым придатком, не то паукообразное существо.
Есть еще методика песочно-гипсовых отливов, то есть исследование слепков черепно-мозговой полости, довольно точно воспроизводящий размеры и форму основных отделов головного мозга, а также рельеф его извилин и борозд. Такую методику изучения содержимого мозговой коробки можно выполнить у насекомых, рукокрылых, мелких амфибий.
Разумеется, категорические выводы о значении всех пропорций или, вернее, «диспропорций» в развитии разных отделов мозга у низших и высших животных трудны. Можно ли по отливам и естественным слепкам, изучить эволюцию головного мозга и спинного мозга?
В настоящее время, особенно при разработанности представлений о головном мозге, его работе и о размещении функций на поверхности коры, изучение отливов мозга ископаемых млекопитающих представляет большой интерес, в том числе и низших позвоночных. Оно позволяет проводить сопоставление с современными позвоночными и наметить некоторые черты эволюции мозга для разных групп позвоночных.
Так или иначе, головной мозг – единственный отдел «мягких частей», форма и объем которого у млекопитающих доходят до нас из далекого прошлого с той же точностью, что и скелет. Отсюда, ограниченность данных, получаемых при изучении окаменевшего внутреннего ядра черепно-мозговой полости по сравнению с итогами изучения самого мозга, очевидна.
В науке известно, что ряд ученых прошлых эпох изучили историческое развитие мозга в той или иной группе различных видов. Так, что можно говорить об «истории» головного мозга. Причем, сущность историй заключалась в постепенном увеличении объема мозга, его извилин. На раннем этапе эволюции головной мозг вымершей группы достигал сравнительно высокого уровня развития, не меньшего, чем у доживших до более позднего времени родичей ископаемых животных, или у доживших до современности.
Таким образом, при всей важности роли головного мозга для животных в их эволюции, борьбе за существование, дело не только в нем одном. И если до последнего времени палеонтология ископаемых млекопитающих, в частности их систематика, оставалась в значительной степени палеонтологией зубов и конечностей, то теперь время приложить усилия к введению и данных о головном мозге.
В романе «Икс-паразит» есть эпизод, когда Каримов и его друзья выбрались на рыбалку в высокогорной реке. Один из друзей спросил:
– «А водятся ли здесь речные раки?»
– «Нет. В горах выживают лишь такие рыбы, как форель, а раки, которые относятся к членистоногим, с точки зрения эволюции попали в тупик в своем развитии. Им нужен комфорт тропиков или субтропиков».
– «А что же было причиной тому?»
– «По мнению ученых, именно ограниченность движений членистоногих завела их в „эволюционный тупик“, поскольку у них не было потребности в развитии „управленческого аппарата“ для сложных движений. То есть мозга».
Вообще, эволюция всего животного мира – есть не что иное, как результата целой серии ключевых «физиологических прорывов», нацеленных на развитие именно движений. Выделяют несколько прорывов. Первый прорыв – это дифференциация клеток и химическое управление. Вначале появились простейшие с примитивной химической реакцией.
Затем появились многоклеточные организмы, которые уже создают химическую среду, которая расщепит пойманные элементы. Так появились химические вещества – медиаторы, возбуждающие мышцу. В последующих поколениях появились специальные каналы их доставки. Что касается второго прорыва – электрического управления. Волна электрического импульса, в отличие от химического возбудителя, имеет гораздо большую скорость и точность доставки команды. И тут постепенно вычленялись специальные волокна для биотоков.
Получается, в эволюционной борьбе преимущество имели те организмы, которые более оперативно, более точно двигались. Речь идет о трех новых потребностей: первое – согласование движений различных частей тела, чтобы можно было двигаться в оптимальном направлении; второе – планирование движений, чтобы можно было выработать тактику поведения; третье – зачатки памяти для того, чтобы запомнить план действий.
– Ну, а почему раки оказались в эволюционном тупике, а, скажем, форель получил преимущество выжить?
– «Эволюция движения шла у членистоногих и позвоночных по-разному. К примеру, рак имеет жесткие внешние скелеты, наподобие рыцарских доспехов, а также внутри него поперечнополосатые мышцы. Напротив, позвоночные поместили твердый скелет внутри организма, «обмотав» его мускулами со всех сторон. Так вот, именно ограниченность движений членистоногих завела их в «эволюционный тупик».
Следовательно, новые степени свободы в движениях, появившиеся у позвоночных, создали предпосылки для развития у них высшей нервной системы. Есть еще один важный фактор – это развитие у позвоночных конечностей. Новый, молодой класс млекопитающих теплокровных, темпераментных, с очень обогащенными как мозгом, так, в связи с этим и двигательными средствами, оказался более жизнеспособным.
Физиологическая наука позволила изучить многие аспекты мозговой деятельности. Выявлены ряд физиологических принципов и законов работы головного мозга, каковыми является, в частности, иррадиация, концентрация, возбуждения, торможения и пр. Психическая деятельность есть результат физиологической деятельности коры больших полушарий головного мозга. В коре больших полушарий головного мозга происходит как высший анализ поступающих через органы чувств сигналов, так и высший их синтез.
Мышление человека – это обобщающее отражение действительности, неразрывно связанное со словом и понятием, являющимися в свою очередь продуктами абстрагирующей и обобщающей работы мозга. Вместе с тем мышление человека, неразрывно связанное с языком есть средство, орудие активного воздействия на внешний мир, орудие общения между собой объединённых в общество людей.
Вторая сигнальная система является закономерным продуктом дальнейшего усложнения высшей нервной деятельности животных и её материального субстрата – головного мозга. Будучи опосредованным, абстрактным и обобщённым отражением действительности, она неразрывно связана с языком, со словесным способом отражения внешнего мира. В мозгу человека посредством слов постоянно образуются новые, чрезвычайно сложные корковые связи, лежащие в основе абстрактного и обобщающего человеческого мышления, способного познавать не только то, что находится на поверхности явлений, но и сущность предметов внешнего мира.
Первая и вторая сигнальные системы у человека находятся в неразрывной связи и взаимообусловленности, они не могут существовать одна без другой. Первая сигнальная система – физиологическая основа непосредственного чувственного отражения мира, а вторая сигнальная система (физиологическая основа словесного, логического мышления) возможна лишь на основе первой сигнальной системы, на основе ощущений.
Как нельзя в процессе познания отделить мысль от чувственного её источника, так же нельзя отделить вторую сигнальную систему от первой. Первая сигнальная система человека существенно отличается от первой сигнальной системы животных. Будучи неразрывно связана со второй, первая сигнальная система человека социально обусловлена, и этим в первую очередь отличается от первой сигнальной системы животных.
Таким образом, данные современного естествознания целиком подтверждают истинность положения марксистского философского материализма о том, что человеческий мозг является органом мышления. Однако естественно-научные данные представляют лишь одну сторону в объяснении природы мышления.
В настоящее время в мире проводится огромное количество исследований человеческого мозга. Т.В.Черниговская, основываясь на своих многолетних исследований мозга, утверждает о том, что мозг принимает решение за несколько секунд до того, как мы это решение осознали. Так возникла дилемма: кто хозяин в доме – мозг или сознание? Автор пишет: – «Получается, что мы контейнер для мозга».
Возвратимся опять к вопросу об эволюции нервной системы. В монографии Б.Ф.Сергеева «Парадоксы мозга» есть глава, посвященная инфузориям. Оказывается, еще А. Левенгук обнаружил в водной среде анималькулы – одноклеточные микроорганизмы, по форме похожие на туфельку. Самые крупные из них – спиростомумы амбигуумы отлично видны невооруженным глазом. Однако, их реакция на изменения окружающей среды обусловлена лишь химическими механизмами. Как и когда у них появились признаки нервной регуляции до сих пор остается нераскрытой. Хотя, выдвигались разные версии.
Нервная система хордовых животных развивается из эктодермы и выглядит как нервная трубка с полостью – невроцелем. У ланцетника, так называемые глазки Гесса расположены внутри нервной трубки. Именно эта область является гомологом головного мозга более эволюционно развитых хордовых. У них, во время эмбриогенеза формируется передний и промежуточный мозг, затем средний и задний мозг. Лишь затем мозжечок и продолговатый мозг. Одним из самых примитивных простейших у которых впервые появились хорда – это ланцетник.