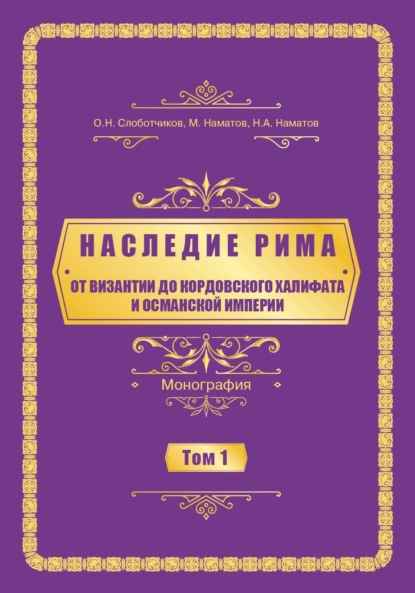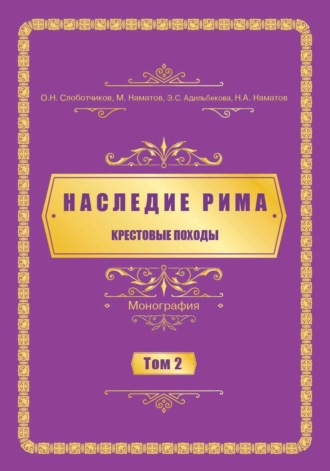
Полная версия
Наследие Рима. Том 2. Kрестовые походы
Неудивительно, что дипломатические связи между западным христианским миром и халифатом развивались медленнее и носили эпизодический характер. Самым известным эпизодом было посольство Карла Великого в Харун-аль-Рашид в 797 году. Речь шла о желании императора основать монастырь и хоспис в Иерусалиме. Доказательств этих контактов в арабских источниках нет, но кажется, что ответ был благоприятным, что разрешение было дано и что халиф послал несколько подарков, включая знаменитого слона, который произвел большое впечатление на императорском дворе. Монастырь и хоспис, несомненно, процветали, и когда в 867 году Бернард Монах (Bernardus Sapiens) посетил Иерусалим, он смог остаться «в общежитии самого славного императора Карла»27.
В 802 году император отправил еще одно посольство, и делегация из Багдада, принесшая подарки, возвратила благосклонность в 806 году, но эта имперская дипломатия не проложила путь для постоянных контактов. В 906 году маркграф Берта из Тосканы направила миссию халифу аль-Муктафи в Багдаде с подарками, в которые входили рабы мужчин и женщин из славянских земель и мечи. Понятно, что между религиозной пропастью были коммерческие контакты, но оценить масштабы их сложно. С тех пор, как Анри Пиренн утверждал, что приход мусульман вызвал почти полный разрыв торговых связей через Средиземное море, вопрос о торговле или ее отсутствии стал предметом более общих споров о происхождении средневековой западной экономики. Мы можем, однако, сделать некоторые обобщения с некоторой уверенностью.
По сравнению с коммерческими связями, которые должны были вырасти с XI столетия, контакты в раннем средневековье были очень спорадическими. Между христианскими и мусульманскими державами не сохранилось никаких коммерческих договоров, а также нет никаких постоянных торговых колоний. Похоже, что это не было результатом какого-либо отвращения среди мусульман к ведению торговли с христианами, а более просто потому, что христианский мир произвел очень мало того, чего хотели мусульмане.
Бедный Запад едва ли был рынком для тонкого текстиля и специй, которые были товаром для торговли на большие расстояния. Только спрос на североевропейских рабов был последовательным и плавучим, и они были приобретены насилием и захватом так же, как коммерческими отношениями. После низкой точки около 700 года спрос на товары (произведенные в мусульманском мире или транспортируемые через него) восстановился. Шелк был желанным предметом роскоши, и некоторые изделия из него сохранились до наших дней в церковных сокровищницах28.
Папы в конце VIII и начале IX веков были особенно щедрыми дарителями шелка в качестве наград и дипломатических подарков. В то время как некоторые из этих шелков были, без сомнения, византийского происхождения, другие, конечно, пришли из мусульманских стран. На произведении, сохранившемся в Хюе в Бельгии, имеется согдийская надпись о том, что оно было изготовлено недалеко от Бухары в VIII или IX веках. Специи, такие как перец и корица, высоко ценились не только для придания вкуса пище, но и в качестве ингредиентов в лекарствах и зельях, а некоторые рецепты этих зелий сами были мусульманского происхождения29.
Благовония были очень важны в ритуалах как Каролингской, так и Византийской церквей, и очевидно, что их употребляли в больших количествах30. Однако настоящий ладан исходит из очень ограниченного географического района на юге Аравии и Африканского Рога. Его могли привезти только в Средиземное море, а затем в христианские земли мусульманские купцы, однако этот процесс практически не виден в исторических записях. Использование благовоний в таком большом масштабе должно было подразумевать непрерывные и гармоничные отношения на границах христианского мира, но кто их провел и где, это отнюдь не ясно.
Этот обширный импорт, похоже, не привел к кризису торгового баланса. Присутствие очень значительного числа мусульманских дирхамов и динаров в Западной Европе и почти полное отсутствие христианских монет на Ближнем Востоке позволяют предположить, что Европа, возможно, на самом деле имела избыток. Христианский мир, конечно, экспортировал пушнину и древесину в исламский мир, но наиболее важные и наиболее опасные взаимодействия были связаны с работорговлей. С середины VIII столетия в странах исламского мира был явно неисчерпаемый спрос на европейских рабов.
Торговля, возможно, получила толчок от сокращения населения, вызванного последним спазмом чумы раннего средневековья, которая поразила Ближний Восток после 747 года, но работорговля продолжала развиваться после того, как демографическая чрезвычайная ситуация изменилась. С первых дней мусульманского завоевания византийские военнопленные были важным источником рабов в мусульманском мире.
По крайней мере, некоторые из них были освобождены и стали вольноотпущенниками, а некоторые стали играть важную роль в политике и управлении.
Они были важными сторонниками семьи Омейядов, и именно мавали, сами бывшие рабы или сыновья бывших рабов, сформировали основную опору первого из правителей Омейядов в Кордове Абд аль-Рахман I в 756 году, когда он впервые вошел в аль-Андалус. Византийские рабыни высоко ценились в гаремах аббасидских халифов IX и начала X веков. По крайней мере, один из них, аль-Мутадид (892–902), говорил по-гречески так же, как и по-арабски, поскольку это был буквально его родной язык.
С конца VIII века рабов покупали издалека. Рабы из Западной и Северной Европы стоили дорого в Византии и еще выше в странах ислама. Христианские и мусульманские купцы могли бы получать огромную прибыль, покупая рабов на северных берегах Средиземного моря и продавая на юге. Основным торговым центром была Венеция, куда мусульманские купцы приходили закупать рабов из Восточной Европы, но была также более неформальная торговля в других итальянских портах, таких как Неаполь, и просто на лиманах, куда людей, захваченных в ходе местных набегов, привозили на продажу.
Когда в 867 году Бернард Монах (Bernardus Sapiens) из Шампани и два его товарища отправились в паломничество в Святую Землю, они отправились в Бари, тогда находившийся в руках мусульман, чтобы найти корабль, который отвезет их в Александрию. Они получили гарантии безопасности от арабского эмира Саудана и были отправлены в Таранто, чтобы сесть на корабль.
Здесь они нашли 9000 несчастных пленников-христиан, недавно захваченных во время мусульманских набегов на Венафро и Монте-Кассино, которые находились на борту шести кораблей, готовых отправиться на невольничьи рынки Туниса и Египта.
Удивительно, но Бернард и его спутники были взяты в качестве платных пассажиров и, защищенные документами, которые Содан предоставил им, отправились в прямую поездку в Александрию в течение месяца, по-видимому на том же судне что и их жалкие единоверцы. Когда они покинули судно, моряки потребовали по два золотых с каждого из них в качестве платы за проезд, и они продолжили свое паломничество без всяких забот31.
Больше ничего не слышно о судьбе заключенных. Рабы, которых видел Бернард, были итальянскими горожанами и сельскими жителями, но многие из рабов, которые проходили через Венецию, были славянами из Восточной Европы, захваченными или купленными там, а затем проданными в Венеции. В течение всего периода Каролингов церковь неоднократно предпринимала, без сомнения, искренние попытки предотвратить продажу христиан в руки мусульман.
Многие из славян были язычниками, поэтому их можно было купить и продать с чистой совестью. Однако спрос был настолько высок, а потенциальная прибыль настолько соблазнительна, что венецианцы и другие итальянские купцы постоянно нарушали эти церковные запреты. Как и в случае паломничества, в XI веке произошло качественное и количественное расширение торговли с мусульманским миром. К 1000 году в Александрии и Фуста-те (Старый Каир) были итальянские купцы. В XI веке документы в Генизе полны ссылок на «франков», их значение для рынка специй и древесины, а также их готовность принимать товары более низкого качества32. Города Египта были не единственными точками соприкосновения: когда Насир-и-Хусрав путешествовал из Ирана в Египет в середине XI века, он обнаружил, что Триполи в Ливане часто посещали западноевропейские корабли33.
Между тем флоты Генуи и Пизы все активнее действовали в Тунисе и вдоль мусульманских побережий Испании. В раннем средневековье отношения между христианами и мусульманами были прерывистыми. На Востоке и в Испании были области, в которых локализованные незарегистрированные контакты были обычным явлением.
Наиболее зафиксированные контакты были военными. На самом раннем этапе мусульманское государство джихада основывалось на политике непрерывных набегов и экспансии, в ходе которой трофеи, как товары, так и рабы, обеспечивали доход и вознаграждение военной элиты. Эта фаза завершилась на востоке к 720 году, на Пиренейском полуострове к 750 году, а на Сицилии и на юге Италии к 900 году, хотя она сохранилась на аванпостах, таких как Фрежюс и река Гарильяно, вплоть до X века.
На смену государствам джихада пришли государства, в которых профессиональная армия получала зарплату за счет налогов, взимаемых как с мусульманского, так и с христианского населения.
Джихад стал институционализирован и использовался правителями для утверждения своего престижа и легитимности.
Третий этап – постепенная христианская экспансия за счет мусульман, начиная с середины X века на востоке и до середины XI века в Испании и Португалии. Паломники, торговцы и послы также наладили связи. Что касается торговцев и паломников, то их число было небольшим, и, похоже, не было организованных учреждений, за исключением общежития Карла Великого в Иерусалиме.
В XI веке картина изменилась с растущей быстротой по мере увеличения масштаба и частоты контактов. Корабли из западноевропейских портов находились в постоянно увеличивающемся количестве в портах Леванта и Египта. На Пиренейском полуострове христиане севера добивались военных успехов за счет разделенных королевств Тайфы, и норманны начали освобождение Сицилии от ее мусульманских правителей. Не может быть никаких сомнений в том, что границы христианского мира значительно расширились за полвека до Первого крестового похода.
4
Средневековая геополитика: истоки джихада и исламские завоевания
В своей досовременной концепции джихад был разработан для расширения и защиты исламского государства, сделав социальным долгом мусульман активно «сражаться на пути Аллаха» и тем самым доказывать подлинность своей веры. Этот социальный долг был воплощением на протяжении всей жизни усилий Пророка Мухаммеда, который не только возглавил раннее исламское движение, но и возвестил политическую революцию, которая спровоцировала преобразования, необходимые для того, чтобы исламские завоевания установили контроль над тремя пятыми христианского мира1.
Исламские завоевания произошли во время правления Мухаммеда, с 622 г. до его смерти в 632 г. За это долгое десятилетие в политической динамике Аравийского полуострова произошли три основных преобразования, которые создали условия, необходимые для завоеваний.
Рассмотрим исторический контекст завоеваний и три основных преобразования, которые сделали их возможными.
Во-первых, арабские племена объединились вокруг новых идеологических и институциональных структур ислама, что привело к возникновению революционного исламского государства, способного решать логистические задачи завоевания. Во-вторых, обращенные в ислам приняли идентичность как члены мусульманского сообщества, или уммы, что поставило их в антагонистические отношения с немусульманами. В-третьих, Мохаммед и другие религиозные элиты сформулировали концепцию джихада, которая быстро стала фундаментальной социальной обязанностью исламского общества. Без этих преобразований исламские завоевания были бы исторически невозможны.
Истоки исламских завоеваний уходят корнями в политические и религиозные революции, возглавляемые пророком Мухаммедом и его последователями. Раннее исламское движение тяготело к дискурсу радикального монотеизма во главе с Мухаммедом, который отчасти был духовной реакцией на материалистические элементы в языческом мекканском обществе. Как религиозные реформаторы, Мохаммед и его последователи стремились заставить всех мекканцев принять его заявление о том, что он является исключительным апостолом Бога, и исламские ценности религиозной преданности, нравственной чистоты и дисциплины. К началу 630 г., после многих лет сопротивления со стороны более могущественных мекканцев, мусульмане захватили Мекку и основали новый центр моральной и политической власти в Аравии. Спустя годы некогда раздробленная племенами Аравия превратилась в единое государство.
Структурные реформы, связанные с объединением Аравии, глубоко трансформировали конфликт в раннем средневековом ближневосточном мировом порядке. Мусульманская Аравия превратилась в полностью автономный религиозно-политический институт, который превратился в мощную военную силу. И в отличие от других властей в регионе и своих противников, он развил способность мобилизовать рассредоточенные арабские племена благодаря своей монополии на власть в духовных владениях Аравийского полуострова. Существовал не только один универсальный и неделимый Бог, чей моральный авторитет существовал в одном месте земной власти (пророк Мухаммед), но также существовала исключительная единая исламская община.
Мусульмане назвали эту общину «уммой». Хотя сама концепция уммы не объединяла Аравию, ее обещание награды в загробной жизни в обмен на набожную преданность усиливало привлекательность послания. Построение уммы как основной групповой идентичности для всех, кто присоединился к религии Мухаммеда, заменило чувство лояльности и идентичности, которое арабы давали своим племенам. Последовавший за этим союз племен под властью уммы возвел ислам не просто в религию, а в политический институт, способный продвигать и защищать свои интересы за рубежом.
Умма дискурс неизбежно влечет за собой социальный порядок, дифференцированный между мусульманами (привилегированное положение как людей, обладающих моральным авторитетом) и немусульманами, которые были восприняты как морально несостоятельные. Все мусульмане были призваны объединиться против немусульман, или «неверующих».
С этой позицией мусульманские религиозные деятели в конечном итоге провели различие между теми, кто населяет Дар аль-Ислам, или территория Ислама, и Дар аль-Харб, или территория войны. Это поместило верующих в Дар аль-Ислам, состоящий из территории, управляемой мусульманами, которая символизировала мир, вместо идеала уммы. И наоборот, Дар аль-Харб был составлен на территории, контролируемой немусульманами, кощунственной общиной, которая, как считается, отвергла ислам и тем самым утверждала состояние конфликта с мусульманами. Это было далее разделено, чтобы различать враждебных и пассивных немусульман. Исламские лидеры поручили своим армиям встретить силой только враждебных немусульман, тогда как пассивных немусульман нужно было сначала пригласить принять ислам и жить в Дар-аль-Ислам. Это сделало цели и интересы мусульман и немусульман по своей сути противоречивыми и обреченными на конфликт.
Чтобы эти структурные антагонизмы переросли в беспрецедентную форму насилия, должно было кристаллизоваться одно последнее условие: эволюция института джихада. Несмотря на противоречивость в качестве предмета (западных) академических исследований, мусульманские ученые, а также его первые последователи рассматривали джихад как разновидность войны, имеющую духовное значение. Созданный для расширения и защиты исламского государства, джихад сделал борьбу общественным долгом и фактически сакрализовал борьбу в исламской структуре войны. Это дало мусульманам военную идентичность, которая позволила им стереть свои грехи, взяв в руки меч. Грешники могли засвидетельствовать чистоту своей веры, умирая в битве мученической смертью, которая гарантировала переход в Рай.
Таким образом, индивидуальная борьба была связана с борьбой государства. Таким образом, джихад определил моральную цель войны в исламском обществе, а на более глубоком уровне – способ выражения человеком значения своей человечности как продолжения воли Бога. Как концепция и действие, санкционированные Богом, джихад создал войну как законный ответ на политическую жизнь в исламском обществе. Джихад родился из чувства преследования Мохаммеда и его последователей со стороны языческой элиты Мекки в первые годы ислама. Ранние коранические откровения давали мусульманам разрешение нападать на арабов-язычников, но позже это было истолковано как включающее всех враждебных немусульман. Как сказано в Суре 2: 190: «Сражайтесь на пути Бога, те, кто сражаются с вами; Но не выходите за рамки. Бог не одобряет агрессоров!» Таким образом, законный джихад был ответом только против тех, кто стремился подорвать мирное распространение ислама посредством обращения, а не вооруженной силы.
Именно эта особенность исламского института войны позволила превратить основной структурный антагонизм ислама (верующие против неверующих) в насильственные конфликты при определенных религиозно предписанных обстоятельствах. Новое социальное построение справедливости войны в сочетании с вышеупомянутыми онтологическими измерениями джихада определили природу и условности, а также транслокальные нормативные и идеальные структуры, которые определили легитимность и моральную цель того, что стало известно как исламские завоевания.
5
Краткая хронология Крестовых походов
По определению главного редактора исторического сайта «Путешествия во времени» Павела Чайки: крестовые походы – вооруженное движение народов христианского Запада на мусульманский Восток, выразившееся в целом ряде походов в продолжение двух столетий (с конца XI до конца XIII в.) c целью завоевания Палестины и освобождения Гроба Господня из рук неверных; оно является могущественной реакцией христианства против усилившейся в то время власти ислама (при халифах) и грандиозной попыткой не только завладеть некогда христианскими областями, но и вообще широко раздвинуть пределы господства креста, этого символа христианской идеи. Участники этих походов, крестоносцы, носили на правом плече красное изображение креста с изречением из Святого Писания (Лук. 14,27), благодаря чему и походы получили название «крестовых».
Причины крестовых походовПричины крестовых походов лежали в западноевропейских политических и экономических условиях того времени: борьба феодализма с возрастающей властью королей выдвинула, с одной стороны, ищущих независимых владений феодалов, со другой – стремление королей избавить страну от этого беспокойного элемента; горожане видели в движении в далекие страны возможность расширения рынка, а также приобретения льгот от своих ленных сеньоров, крестьяне спешили участием в крестовых походах освободиться от крепостной зависимости; папы и вообще духовенство нашли в руководящей роли, которую им предстояло играть в религиозном движении, возможность осуществления своих властолюбивых замыслов. Наконец, во Франции, разоренной 48-ю голодными годами в короткий промежуток времени с 970 по 1040 годы, сопровождаемыми моровой язвой, к вышеуказанным причинам присоединилась надежда населения найти в Палестине, этой стране, еще по ветхозаветным преданиям «текущей млеком и медом», лучшие экономические условия.
Другой причиной крестовых походов была перемена положения на Востоке. Уже со времен Константина Великого, воздвигшего у Святого Гроба великолепную церковь, на Западе вошло в обычай путешествовать в Палестину, к святым местам, и халифы покровительствовали этим путешествиям, доставлявшим стране деньги и товары, позволив пилигримам построить церкви и больницу. Но когда Палестина к концу X столетия подпала под власть радикальной династии Фатимидов, начались жестокие притеснения христианских пилигримов, еще более усилившиеся после завоевания Сирии и Палестины сельджуками в 1076 году.
Тревожные известия о поругании святых мест и о дурном обращении с богомольцами вызвали в Западной Европе мысль о военном походе в Азию для освобождения Святого Гроба, вскоре приведенную в осуществление благодаря энергической деятельности папы Урбана II, созвавшего духовные соборы в Пьяченце и Клермоне (1095), на которых вопрос о походе против неверных был решен утвердительно, и тысячеголосый возглас народа, присутствовавшего на Клермонском соборе: «Deus lo vult» («Такова воля Божия») сделался лозунгом крестоносцев. Настроение в пользу движения было подготовлено во Франции красноречивыми рассказами о бедствиях христиан в Святой Земле одного из пилигримов, Петра Пустынника, присутствовавшего также и на Клермонском соборе и воодушевившего собравшихся яркой картиной виденного на Востоке угнетения христиан.
Первый крестовый походВыступление в Первый крестовый поход было назначено на 15 августа 1096 года. Но раньше чем приготовления к нему были окончены, толпы простого народа, под предводительством Петра Пустынника и французского рыцаря Вальтера Голяка, отправились в поход через Германию и Венгрию без денег и запасов. Предаваясь по пути грабежу и всякого рода бесчинствам, они были отчасти истреблены венграми и болгарами, отчасти достигли греческой империи. Византийский император Алексей Комнин поспешил переправить их через Босфор в Азию, где они окончательно были перебиты турками в битве при Никее (октябрь 1096 г.). За первой беспорядочной толпой последовали другие: так, 15 000 немцев и лотарингцев, под предводительством священника Готшалька, отправились через Венгрию и, занявшись в прирейнских и придунайских городах избиением евреев, подверглись истреблению со стороны венгров.
Настоящее ополчение выступило в Первый крестовый поход только осенью 1096 г., в виде 300 000 хорошо вооруженных и превосходно дисциплинированных воинов, под предводительством самых доблестных и знатных рыцарей того времени: рядом с Готфридом Бульонским, герцогом Лотарингским, главным предводителем, и его братьями Балдуином и Евстафием (Эсташем), блистали: граф Гуго Вермандуа, брат французского короля Филиппа I, герцог Роберт Нормандский (брат английского короля), граф Роберт Фландрский, Раймунд Тулузский и Стефан Шартрский, Боэмунд, князь Тарентский, Танкред Апулийский и другие. В качестве папского наместника и легата войско сопровождал епископ Адемар Монтейльский.
Участники Первого крестового похода прибыли различными путями в Константинополь, где греческий император Алексей вынудил у них ленную присягу и обещание признать его феодальным сеньором будущих завоеваний. В начале июня 1097 г. войско крестоносцев появилось пред Никеей, столицей сельджукского султана, и после взятия последней подвергалось чрезвычайным трудностям и лишениям. Тем не менее, им были взяты Антиохия, Эдесса (1098) и, наконец, 15 июня 1099 г., Иеру-салим, бывший в то время в руках египетского султана, безуспешно пытавшегося восстановить свое могущество и разбитого наголову при Аскалоне.
Взятие Иерусалима крестоносцамиПо окончании Первого крестового похода Готфрид Бульонский был провозглашен первым иерусалимским королем, но отказался от этого звания, называя себя лишь «защитником Гроба Господня»; в следующем году он умер, и ему наследовал брат его Балдуин I (1100–1118), завоевавший Акку, Берит (Бейрут) и Сидон. Балдуину I наследовал Балдуин II (1118–1131), а последнему Фульк (1131–1143), при котором королевство достигло наибольшего расширения своих пределов.
Под влиянием известия о завоевании Палестины в 1101 г. двинулось в Малую Азию новое войско крестоносцев под предводительством герцога Вельфа Баварского из Германии и два других, из Италии и Франции, составившие в общей сложности армию в 260 000 человек и истребленные сельджуками.
Второй крестовый походВ 1144 году Эдесса была отнята турками, после чего папа Евгений III объявил Второй крестовый поход (1147–1149), освобождая всех крестоносцев не только от их грехов, но вместе с тем и от обязанностей относительно их ленных господ. Мечтательный проповедник Бернард Клервоский сумел, благодаря своему неотразимому красноречию, привлечь ко Второму крестовому походу короля французского Людовика VII и императора Конрада III Гогенштауфена. Два войска, составлявшие в общей сложности, по уверениям западных хронистов, около 140 000 латных всадников и миллион пехотинцев, выступили в 1147 г. и направились через Венгрию и Константинополь и Малую Азию. Вследствие недостатка продовольствия, болезней в войсках и после нескольких крупных поражений план отвоевания Эдессы был оставлен, а попытка нападения на Дамаск не удалась. Оба государя возвратились в свои владения, и Второй крестовый поход окончился полным неуспехом.
Государства крестоносцев на Востоке. Третий крестовый походПоводом к Третьему крестовому походу (1189–1192) послужило завоевание Иерусалима 2 октября 1187 г. могущественным египетским султаном Саладином. В этом походе участвовали три европейских государя: император Фридрих I Барбаросса, французский король Филипп II Август и английский Ричард Львиное Сердце. Первым выступил в Третий крестовый поход Фридрих, войско которого по пути возросло до 100 000 человек; он избрал путь вдоль Дуная, по дороге должен был преодолевать происки недоверчивого греческого императора Исаака Ангела, которого только взятие Адрианополя побудило дать свободный проход крестоносцам и помочь им переправиться в Малую Азию. Здесь Фридрих разбил в двух сражениях турецкие войска, но вскоре после этого утонул при переправе через реку Каликадн (Салеф). Сын его, Фридрих, повел войско далее через Антиохию к Акке, где нашел других крестоносцев, но вскоре умер. Город Акка в 1191 г. сдался французскому и английскому королям, но открывшиеся между ними раздоры принудили французского короля вернуться на родину. Ричард остался продолжать Третий крестовый поход, но, отчаявшись завоевать Иерусалим, в 1192 г. заключил с Саладином перемирие на три года и три месяца, по которому Иерусалим остался во владении султана, а христиане получили прибрежную полосу от Тира до Яффы, а также право свободного посещения Святого Гроба.