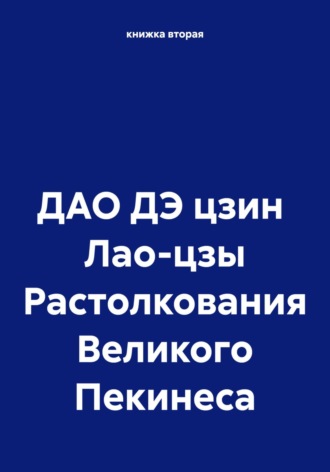
Полная версия
ДАО ДЭ цзин Лао-цзы Растолкования Великого Пекинеса
Относительно иероглифов строки (8) «復фу 歸гуй 於юй 無у 物у», мы вынуждены тихо взвизгнуть, что «фу гуй» обозначает регрессивные передвижения – отступление, возвращение and so on. «Юй» – универсальный предлог (в, на, из, по направлению к), а «у у» – отсутствие вещи или «не вещь». Отечественный производитель толкует «фу гуй юй у у» в стиле, который вислоухий кролик Пи-Пу называет «задней лапкой в синее небо»: «И вновь возвращается туда, где нет вещей» (Малявин В.В.); «Оно снова возвращается к небытию» (Ян Хин-шун); «Оно возвращается к тому, что не имеет сущности» (Маслов А.А.). Заслышав таку лирику, нам, с Великим Пекинесом, не терпится поскорее всплакнуть. Какое, к китайскому Аллаху, небытие без вещей и сущности? Куда и откуда может возвращаться Великое Одно? Вот ведь Роберт Хенрикс, переводя те же иероглифы, не впускает себе в мысли подобные фантасмагории: «And returns to the state of no-thing» (И возвращается к состоянию не вещи). Ох-ох.
Дао можно легко сравнивать с «Black Hole», поскольку внутренности этого астрономического объекта так же недосягаемы для понимания граждан, как и Дао. Последняя информация о «Черной Дыре» способна поступать с ее «поверхности» или «горизонта событий». Так в первой главе Лао-цзы, еще не догадываясь о существовании «Черных Дыр», уже извещает домохозяек о «границе» Дао (徼цяо 道дао). Вот промеж чего мог пролегать сей неприступный Рубикон? Осмелимся возмечтать, что с его «внешней» стороны мирно паслись проименованные заботливыми китайцами десять тысяч вещей и зверюшек. Внутри же пряталась безымянная (下бу 可кэ 名мин), но непрерывная сингулярность (繩шэн 繩шэн) того, что Не Вещь (無у 物у), о содержании которой знать что-либо было уже нельзя. Квантовая неопределенность Дао-ума запрещает его лучезарному носителю окунаться всей своей пушистой головой в недра Дао-реальности. Сознание хомоособи, донырнувшей до этаких «глубин», будто пульсирует на «границе» Дао, то прикасаясь к божественной Недуальности, то вновь отступая во «внешнюю сферу» ее двойственного восприятия, откуда ему и кажется, что отступает (復фу 歸гуй) от него именно Дао. Куды Дао отступает? Да туды, вдаль, за «горизонт событий», в то, что «Не Вещь» (於юй 無у 物у).
В следующей главе Лао-цзы без всякой квантовой физики уверенно заявляет, что проникновение в Дао-глубины находится под строгим запретом (深шэнь 不бу 可кэ 識ши) – глубину Дао знать нельзя. Почему? Потому, что у Дао нет никаких глубин: Дао непрерывно и постоянно в своей мистической непроницаемости точно так же, как сингулярность «Black Hole». Причем, если вернуться к началу главы, то всматриваться и вслушиваться в Дао способны многие восприимчивые домохозяйки. Однако Совершенномудрый в строке (3) уже прикасается к Дао, правда, не успевая его ухватить и трепетно осмыслить. Так не пульсируй Дао-ум на «горизонте событий» фундаментальной Реальности, появиться «пяти тысячам иероглифов» и всем Сутрам Праджняпарамиты было бы просто неоткуда.
(9). (10). Характеристика Дао «無у 状чжуан 之чжи 状чжуан» и «無у 物у 之чжи 象сян», представленная Лао-цзы в этих грандиозных строчках, дословно выглядит как «Не иметь (отсутствие); Форма (состояние); Его; Форма (состояние); Не иметь (отсутствие); Вещь; Его; Образ». Поэтому Дао с равным успехом может быть, как «бесформенной формой» (или «формой бесформенного»), так и «состоянием вне состояний». Разумеется, если Дао не является вещью, то и не пребывает в каком-либо состоянии, о котором сознание домохозяйки формирует условное представление как о «состоянии». По этой простой причине Праджня и зовется мышлением вне мыслей или абсолютной мудростью, свободно-текущей за пределами какого угодно содержания. Честно взвизгнуть, в «Дао Дэ цзин» нет ничего более мощного, чем главы 14 и 25 (в первой ее части). Причем, роднит их именно наличие иероглифа «чжуан», неожиданно появляющегося в первой строке главы 25 годянской версии текста. Вслед за этим «чжуан» там следует иероглиф «混хунь» – нечто хаотически беспорядочное, что дословно выливается в «форму хаотического» или «хаотическую форму». По нам, сие звучит хоть и многозначительно, но очень по-дурацки: в конце концов, или хаос, или форма. Тем не более, принимая в невнимание тот философский факт, что все мутно-хаотическое бесструктурно и бесформенно, мы из соображений лирической краткости на фоне смысловой целесообразности поспешим приравнять «無у 状чжуан 之чжи 状чжуан» (гл.14) к «状чжуан 混хунь» (гл.25), получая в обоих случаях «форму бесформенного». Ах-ах.
(12). (13). В текстах Ван Би, Хэшан-гуна и Фу И строки говорят, что, идя навстречу или приветствуя Дао, не видно его головы (首шоу). Следуя же за ним, не видно его задне-филейной части (後хоу). Мы, с Великопушистым, застенчиво уклоняясь от «филейной части», послушно следуем за товарищем Ян Хин-шуном: «Встречаюсь с ним и не вижу лица его, следую за ним и не вижу спины его». В мавантуйских текстах строки стоят в обратном порядке.
(14). (15). Cтрока (14) в своем стандартном варианте (執чжи 古гу 之чжи 道дао 以и 御юй 今цзинь 之чжи 有ю) советует держаться древнего Дао (古гу 之чжи 道дао), а мавантуйские шелковые свитки предпочитают Дао настоящее, сегодняшнее (今цзинь 之чжи 道дао). Строка (15) также записана по-разному. В стандартном исполнении наблюдается «能нэн 知чжи 古гу 始ши 是ши 謂вэй 道дао 紀цзи» – способность знать древнее начало называется «нить Дао». В мавантуйских текстах нет иероглифа «нэн» (способность, быть способным) – «以и 知чжи 古гу 始ши 是ши 謂вэй 道дао 紀цзи» или «знание древнего начала зовется «нить Дао»». Lau Din-cheuk (стандартный текст): «Hold fast to the way of antiquity in order to keep in control the realm of today. The ability to know the beginning of antiquity is called the thread running through the way» (Держись пути древности, чтобы контролировать настоящее. Способность знать начало древности называется нить, бегущая сквозь путь). Иероглиф «紀цзи» кроме прочего означал шелковую нить, снующую за челноком в процессе производства ткани. Поэтому и «the thread running through the way».
Иероглиф «御юй» из строки (14), переводимый как «управлять, повелевать» (Малявин В.В.) или «владеть» (Ян Хин-шун) в древнекитайские времена означал как управление колесницей, так и приручение сварливой домохозяйки. Править колесницей – искусство, требующее от возницы быть одним целым с тем, чем он управляет. Приручать нудно-спесивую женщину значит любить ее столь интенсивно, чтобы, в принципе, утруждать себя ее воспитанием. Это кухонное «дзюдо» способно привести к положительным результатам лишь при полном непротивлении сторон, по меткому выражению измученного нарзаном мудромонтера из бессмертного творения Евгения Петрова и Ильи Ильфа. Вот и глава 59 намекает всем любителям восточных единоборств, что «заранее подчиниться значит вдвойне запасти Дэ». А уж как запасся им, так и нет ничего, что не смог бы преодолеть. Ух!
Что касается «нити Дао» (道дао 紀цзи) из строки (15), то философствовать вокруг нее можно аж до третьего англосаксонского завтрака. А схимникам-огородникам завтра спозаранку картошку палкой-копалкой выкапывать. Так накануне любознательные вкрапления соседских кур обнаружили причастность Дао-нити к мудрокосмическим вопросам, рассматриваемым Лао-цзы в максимально потрясающей главе 43. Поэтому, учитывая, что дождливая осень у всех на носу, мудропушистые схимники решили отложить всестороннее обнюхивание этой загадочной Нити куда-нибудь в дальнюю даль.
На фоне всего вышесказанного, прочтение стандартного текста Артуром Уэйли привело Великого Пекинеса в совершенно не свойственное ему щенячье восхищение: «Yet by seizing on the Way that was, you can ride the things that are now» (Ухватив Дао прошлого, ты можешь ехать верхом на вещах, что есть сейчас). Разве можно сравнить его потрясающее «to ride the things» с «to keep in control» в исполнении Lau Din-cheuk или «to manage» в переводе Роберта Хенрикса? Уй?
P. S.
Если не полениться и взять в передние лапы Сутру Сердца Праджняпарамиты, то сразу становится понятно, что Бодхисаттва Арья Авалокитешвара изучал Буддизм не только по веселым книжным картинкам. А, что в итоге? «Нет страдания, нет причины, нет прекращения, нет Пути» (Buddist Wisdom Books, The Diamond Sutra and The Heart Sutra, Translated and explained by Edward Conze, Harper Torchbooks, New York, 1972). Все Благородные Истины коту под хвост? Ай?
Почему вершиной буддийской мудрости провозглашаются столь экстремальные взгляды? Именно потому, что отдельные граждане буддизм знают, а иногда и любят. Но Арья Авалокита его реализует, причем, не в плюшевых мечтах, а на собственной непушистой шкурке. Реализация же истинного Буддизма предполагает избавление от всего относительно-обусловленного, включая и сам буддизм как религиозную дисциплину и учебное пособие. Почему? Да Дхарма Великого Тождества не поддается фиксации сознанием, и даже самое совершенное учение не более чем утлое плавсредство для гипотетической переправы на «другой берег». Праджняпарамита – это не математика, и обучить ей возможным не представляется. Опять, почему? Потому, что мудрорыцарь всегда действует как «желудок», а гордый обыватель, сколько бы умных книжек он ни прочитал, всегда действует как «глаза» (гл.12).
Все просто и ясно! Пока мы на «этом» берегу, мы всматриваемся, вслушиваемся, медитируем, поем псалмы и молитвы, преспокойно продолжая различать пять цветов, звуков и вкусных ароматов (шашлык, цыпленок табака, французский коньяк и более того). Только весь коньяк не выпьешь, а цыпленок с шашлыком рано или поздно наградят целым букетом отвратительных болезней. Мечты же о «другом береге» тихо поблекнут в повседневной суете, оставив в сердце лишь горьковатый привкус собственной никчемности.
Но, прочь уныние! Всем, кому наплевать на коньяк; всем, кому безразличен шашлык; всем, кому «другой берег», что дом родной – вам, и только вам адресованы «Дао Дэ цзин» и все без исключения Сутры Буддизма. Это ради вас Победитель Смерти решился на проповедь Дхармы,* а Лао-цзы уступил просьбе хранителя пограничного перевала, оставив ему бессмертную книгу в пять тысяч иероглифов.
Всматриваться и вслушиваться в Дао, концентрируя собственную сосредоточенность, можно хоть до заговенья на свекольной ботве. Но, если ты счастливчик! Если, о чудо из чудес, легкий ветерок с «другого берега» вдруг донесет до тебя божественный аромат не имеющий запаха, ты непременно Увидишь (с большой буквы), как привычное восприятие трансформируется в нечто волшебно-Единое, чему уже никогда не найти названия.
* По преданию, Будда Шакьямуни, оказавшись темной ночью под древовидным фикусом глубоко в «ануттара самъяк самбодхи», наутро испытал приступ сострадательной растерянности. Он отчетливо осознал, что беспокоить озабоченных домохозяек рассказами про недуальную Дхарму – дело бесполезное и в высшей степени неблагодарное. Ужаснувшись такому развитию событий, четырехголовый Бог Брахма Сахампати предстал пред Победителем Смерти в образе отшельника и трижды кряду, пуская горячую слезу, обильно сморкаясь и жалобно всхлипывая, уговаривал его, ради тех «белых ворон», что способны воспринять светоносную Дхарму, идти в народ и проповедовать без сомнений и устали. Спасибо Брахме Сахампати.
ГЛАВА 15
(1) Те, древние, в делании Дао искусные,
(古 гу 之 чжи 善 шань 為 вэй 道 дао 者 чжэ)
(2) Несомненно, проницали «тончайше-непостижимое».
(必 би 微 вэй 妙 мяо 玄 сюань 通 тун)
(3) Глубина [Дао] не может быть познана.
(深 шэнь 不 бу 可 кэ 識 ши)
(4) Именно потому, что не может быть познана,
(夫 фу 唯 вэй 不 бу 可 кэ 識 ши)
(5) Вынужден описать ее внешние проявления:
(故 гу 強 цян 為 вэй 之 чжи 容 жун)
(6) Нерешительные! Будто реку зимой вброд переходили.
(豫 юй 兮 си 若 жо 冬 дун 涉 шэ 川 чуань)
(7) Бдительные! Будто бы с четырех [сторон] опасались [своих] соседей.
(猶 ю 兮 си 若 жо 畏 вэй 四 сы 鄰 линь)
(8) Торжественные! Будто [важные] гости.
(儼 янь 兮 си 其 ци 若 жо 容 жун)
(9) Уступчивые! Будто тающий лед.
(渙 хуань 兮 си 其 ци 若 жо 冰 бин 之 чжи 將 цзян 釋 ши)
(10) Искренние! Будто целое древо.
(敦 дунь 兮 си 其 ци 若 жо 樸 пу)
(11) Открытые! Будто долина.
(曠 куан 兮 си 其 ци 若 жо 谷 гу)
(12) Непроницаемые! Будто мутные [воды].
(混 хунь 兮 си 其 ци 若 жо 濁 чжо)
(13) Что же способно посредством покоя мутное мало-помалу очистить?
(孰 шу 能 нэн 濁 чжо 以 и 靜 цзин 之 чжи 徐 сюй 清 цин)
(14) Что же способно то, что в покое, посредством движения медленно оживить?
(孰 шу 能 нэн 安 ань 以 и 久 цзю 動 дун 之 чжи 徐 сюй 生 шэн)
(15) Тот, кто хранит это Дао, не желает [себя] наполнить.
(保 бао 此 сы 道 дао 者 чжэ 不 бу 欲 юй 盈 ин)
(16) Человек лишь [ничем] не наполнен –
(夫 фу 唯 вэй 不 бу 盈 ин)
(17) Вот и может [одно и то же] изнашивать без успехов и достижений.
(是 ши 以 и 能 нэн 敝 би 而 эр 不 бу 成 чэн)
«SUPERIOR PEOPLE TRANSFORM,
INFERIOR PEOPLE CHANGE ON THE SURFACE»
Liu I-ming, «The Taoist I-ching», translated by Thomas Cleary, (49, Revolution, top yin)
Возможно, на заре «Дао Дэ цзин» главы 14, 15, 16 составляли единое целое, и мы, с Великим Пекинесом, не первые в этом смелом предположении. Рихард Вильгельм еще в 1910 году отмечал смысловое единство первых строк главы 15 с заключительной частью главы 14. Ведь именно «знание» древнего Дао позволяло мудрым китайцам жить в абсолютной гармонии с изменчивым многообразием феноменального Сущего, передавая бессмертную Дао-нить из рук в руки богоизбранным представителям следующего поколения.
(1). В мавантуйском тексте «А» две первые строки не сохранились. В версии «В» и у Фу И мы видим «古гу 之чжи 善шань 為вэй 道дао 者чжэ» – тот, кто в древности хорошо делал Дао. В текстах Ван Би и Хэшан-гуна – «古гу 之чжи 善шань 為вэй 士ши 者чжэ» – тот, кто в древнекитайские времена был хорош и искусен как правитель, воин, ученый или служилый муж. Примечательно, что «шань вэй ши чжэ» присутствует и на годянских бамбуковых дощечках, отчетливо указывая на древнейшее происхождение этого разночтения.
Первая строка стандартного текста в переводе Лукьянова А.Е.: «В древности те, кто, воплощая доброту (шань), стали учеными мужами (ши)…» Маслов А.А.: «С древности искушённый муж видел…» Ян Хин-шун: «В древности те, кто был способен к учености, знали…» Конечно, иероглиф «ши» можно понимать разнообразно, но откуда в этих переводах появляются такие глаголы, как «знать», «видеть» и «воплощать», остается большой пионерской тайной. Не испытывая желания ее разгадывать, мы бодрой рысью проследуем за вторым мавантуйским текстом с его кристально однозначным «善шань 為вэй 道дао 者чжэ» (тот, кто хорошо делал Дао).
(2). Только на годянском бамбуке строка имеет пять иероглифов, начинаясь со знака «必би» (конечно, несомненно, обязательно). Следующие четыре иероглифа «微вэй 妙мяо 玄сюань 通тун» представляют собой крайне любопытное сочетание. В главе 14 «微вэй» – это нечто крошечно малое, нежно ничтожное и тайно неощутимое. Иероглиф «妙мяо» обозначает все тончайше очаровательное и восхитительно чудесное (гл.1). Причем, «вэй мяо» в виде идиоматического бинома, обычно, символизирует что-либо в высшей степени изящное, а иероглиф «玄сюань» привносит в этот утонченный пейзаж зыбкий аромат мистической неопределенности, сокрытой от посторонних глаз в таинственных глубинах фундаментальной Реальности. Так наличие на китайских просторах «искусных в делании Дао» субъектов в первых двух строчках и зафиксировано. Иероглиф «通тун» (в мавантуйских вариантах – «達да», в годянском – «造цзао»), имеющий значения «проходить сквозь, to go through, penetrate, comprehend, to know well» прямо указывает на тот факт, что отдельные китайские товарищи были способны проницать Великое Дао-тождество до самого его бездонного дна. Уж ежели Лао-цзы воспевает им хвалу, то, похоже, эти человеческие существа представляли собой совершенно удивительное явление на общем древнекитайском фоне.
(3). (4). (5). В этих строчках мы, с Великим Пекинесом, предпочитаем их стандартный вариант, между прочим, полностью совпадающий с текстами Хэшан-гуна и Фу И. Строка (3) – «深шэнь 不бу 可кэ 識ши» говорит, что «глубина» (шэнь) не может быть познана (бу кэ ши). Что это за глубина в тексте не уточняется, но во множестве переводов утверждается, что это глубина мудрокитайцев: «Столь глубоки они были, что познать их нельзя» (Малявин В.В.); «[Они] сокрылись в такой глубине, что [их] невозможно постичь» (Лукьянов А.Е.); «Их глубины не различить» (Семененко И.И.); «Но другим их глубина неведома» (Ян Хин-шун). При всей высокопарности этаких заявлений в безразмерном богатстве как китайского, так и русского языка одинокая глубина не несет никакой смысловой нагрузки в качестве характеристики двуногой особи, требуя себе хоть какого-нибудь дополнения: глубина душевных качеств, вдумчивого чего-либо понимания или откровенной глупости. Да и знак «深шэнь» (радикалы – вода и пещера) в унисон с иероглифом «玄сюань» из строки (2) повествует о глубине, надежно сокрытой от меркантильных обывателей в густом тумане абсолютной неощутимости. Вот мы и осмелимся робко взвизгнуть, что в строке (3) речь идет о той же глубине Дао, что ветхозаветные китайцы пронзительно проницали (通тун) в строке (2). Знать Дао нельзя, но проницать, минуя все подвиды сансарического восприятия – запросто и con mucho gusto! Это и есть Ясное Видение Дао-реальности или Праджня как квинтэссенция истинного буддизма. Соответственно, в строках (4) и (5) Лао-цзы констатирует вполне очевидное, а именно то, что из-за невозможности сформировать условные представления о Дао (不бу 可кэ 識ши), он вынужден (強цян) ограничиться зарисовкой (為вэй) внешних проявлений (容жун) его бездонной глубины (深шэнь), видимых невооруженным глазом в повседневном поведении древнемудрых мудрокитайцев.
В строке (3) мавантуйских и годянской версий текста вместо знака «識ши» (знать, понимать) в «шэнь бу кэ ши» присутствует иероглиф «志чжи», обладающий в качестве глагола значениями «стремиться, записывать или запечатлеть (в сердце), to remember». То есть, строка в своих наидревнейших вариантах повествует либо о том, что «глубины Дао» нельзя зарисовать с помощью имен и иероглифов (Шестой Патриарх Чань демонстрирует те же радикальные настроения в начале седьмой главы Сутры Помоста), или о том, что трепетно устремляться к Дао-реальности и сохранять в своей пушистой голове послевкусие от счастливого с ней знакомства крайне нежелательно. Как говорит вислоухий мудрокролик Пи-Пу, нет ничего более ботанически дурацкого, чем, съев рыжую морковку, на потеху соседским курам таскать по огороду ее бесполезную ботву.
В годянском тексте строка (4) «夫фу 唯вэй 不бу 可кэ 識ши» отсутствует, а на обоих мавантуйских шелковых свитках вместо «ши» снова заметен иероглиф «чжи». Что касается строки (5), то на годянском бамбуке вместо обычного «вынужденного описания» (故гу 強цян 為вэй 之чжи 容жун) наблюдается совершенно уникальное «воспевание хвалы» (是ши 以и 為вэй 之чжи 頌сун). Однако и здесь кроме иероглифа «сун», сообщающего о хвалебных песнопениях, никаких указаний, в каком направлении они звучат, не имеется. Строки (3) и (5) в переводе Роберта Хенрикса (годянский текст): «So deep that they can not be known. For this reason we praise them in the following way…» (Они столь глубоки, что не могут быть познаны. По этой причине мы восхваляем их следующим образом…) Мавантуйские копии и версия Фу И отличаются от остальных вариантов «Дао Дэ цзин» стоящим в конце пятой строки иероглифом «曰юэ» (говорить, сказать). Роберт Хенрикс: «That therefore were I forced to describe him I’d say…» (Поэтому, будь я вынужден описать его, я бы сказал…)
(6) – (12). Великий Пекинес, как прямой наследник древнекитайских идей поголовного просветления всех честных зверюшек, миролюбиво пасущихся на просторах планеты Земля, никогда и не скрывал своего восхищения этими строками. Не осмеливаясь перекладывать ответственность за их толкование на «презренную» прозу, он вдруг заговорил сочными стихами под бурные аплодисменты хоть и неустойчивых в вере, но иногда склонных к прогрессивному прогрессу соседских кур.
Grave.
Так коллеги, пора решительно разобраться
С этими странными господами.
Что это они все простые, да все пустые?
Какие-то нерешительные …
Может, они мало каши съели?
Так отправить им гуманитарную помощь!
Побольше тушенки и одеял, чтобы всем хватило.
Да пару братков, чтоб обучили их реальному существованию.
Вроде пока незаметно, чтоб крутость, наглость и сила
Вышли из моды у населения.
Так подтянем и тех – малохольных.
Пусть бодро шагают в ногу!
К сведению милых граждан, крутость, наглость и сила –
Стандартные признаки вырождения Духа;
Признаки его утомления и поражения тяжким недугом.
По-простому недуг сей зовется эгоцентризмом.
В буддизме – неведением и погружением в сансару.
В христианстве – гордыней и грехопадением.
Да мои дорогие, Небеса не штурмуются силой,
И по знакомству не выпустят вас из сансары,
Дух Святой уж точно за деньги с Небес не сходит.
В остальном все у всех просто великолепно.
Только старуха с ее корытом немного смущает.
Да ну ее к черту, старую ведьму!
Кому еще не надоело,
Предлагаю вернуться к тем, древним.
Вот с чего они нерешительны?
Что, в конце концов, это значит?
Нерешительны они потому, что насквозь пропитаны Дао:
Оно как детей ведет их «за ручку»,
Не позволяя заглядывать в следующее мгновение.
Вот они и не ведают, что им следует делать,
С радостью принимая все, что Дао им уготовит.
В Колее Дао нельзя принимать решений.
Ведь решение – это выбор,
А выбор раскалывает Дао-единство.
Осторожность? Вовсе она не от страха.
Это чуткая бдительность Вечного Духа,
Того, что пронзает все миры и пределы,
Сдвигает горы и на кресте не умирает.
Ну а торжественность? Это неясно…
Да, что вы, торжественность – это просто!
Обрести Дао – все равно, что стать центром вселенной.
Помните, Будда, едва родившись,
Вдруг объявил, что в мирах бесконечных,
Он лишь, один, почитания достоин.
Вот потому и торжественность на их лицах.
Уступчивые?
Потому, что им чуждо деление Сущего на себя и все остальное.
Пустые?
Потому, что любая наполненность – лишь иллюзия жалкого эго.
Бездонные?
Так ведь Великая Пустота не знает предела.
Непроницаемые?
Они же не обладают ничем, что проницаемо быть способно.
Про мутную воду и так все ясно.
Обрести окончательную завершенность
Уж очень напоминает забивание крышки гроба.
Даже глупость и та беспредельна.
Дух Святой разве может быть чем-то заполнен?
Да и за пазухой пребывая у Бога, что же нового вам еще надо?
Этого, «одного и того же», вполне достаточно на целую Вечность.
(10). (11). (12). В стандартном варианте текста, а также у Хэшан-гуна и Фу И строка (11) про гостеприимную долину выглядит как «曠куан 兮си 其ци 若жо 谷гу», где иероглиф «куан» имеет значения «открытый, свободный, огромный и пустой». Столь широкий спектр его значений позволяет беспрепятственно сравнивать с долиной различные грани лучезарности мудрокитайского субъекта. Маслов А.А. полагает, что он был «пустотен, подобно долине». Ян Хин-шун уверен, что «они были необъятными подобно долине». Лично нам импонирует именно «открытость», поскольку это прекрасное качество Дао-ума предполагает и его бескрайнюю пустоту, и необъятную ширь, вместе взятые. Сие толкование строки не является чем-то особенным, и переводы Lau Din-cheuk, Wing-tsit Chan и Томаса Клири легко это подтверждают.
Что касается строки (12) «混хунь 兮си 其ци 若жо 濁чжо», то знак «хунь» означает нечто хаотически запутанное и как попало смешанное, в данном случае подобное мутным и грязным водам (чжо). Мы, с Великопушистым, уж рапортовали, что в монолитном тождестве Дао-реальности нет никаких точек отсчета, опираясь на которые, эго-субъекту удалось бы там что-то отфильтровать, зафиксировать и навести правильный порядок. Обычно, бытовые граждане обладают легко читаемыми, но разнообразными чертами характера. Остро торчащие выпуклости и вогнутости их гордой душевной конституции в первую очередь определяются их перекошенным восприятием Реальности и тем ослиным упрямством, с которым они преследуют собственные заблуждения. Мудрокитайцу, отхлебнувшему «эликсира бессмертия», хвастаться крутым нравом было не с руки. Ведь, согласно главе 4, Дао стачивает заносчивую остроту и смягчает индивидуальную яркость как мудрых, так и глупых двуногих зверюшек.
Честно заимствуя глубокомыслие у Льва Николаевича Толстого, мы поспешим скромно взвизгнуть, что все, плескающиеся в сансаре граждане, несчастливы разнообразно, а светлые мудрорыцари всегда счастливы одинаково. Короче, в соответствии с простейшей терминологией, принятой в «Дао Дэ цзин», Дао-философ был прост, искренен и мудронаивен как дикорастущее древо (пу), еще не знакомое с жестокими лесорубами и безжалостными плотниками (гл.19). Не желая себе выгоды и привилегий, он оставался открытым ко всему и даже каждому как гостеприимно цветущая долина (гу) посреди колючих и неплодородных горных эго-вершин. Для снующих туда-сюда домохозяек его внутренний мир казался им кромешными «потемками» или, как метко подметил Лао-цзы, «мутными водами» («метко подметил» – литературная находка вольнокота Кости после удачной ночной охоты на серых мышек). Роберт Хенрикс, анализируя особенности характера китайского мудрогероя изнутри мутной хаотичности сточных вод, слышит строку чуть иначе: «Merged, undifferentiated was he! Like muddy water». Про «undifferentiated» все ясно, но вот «merged» китаец, если честно, уже вызывает определенную степень медицинской задумчивости. Мы, с Великим Пекинесом, в переводе этой строки покорно следуем за товарищем Ян Хин-шуном: «Они были непроницаемыми подобно мутной воде».

