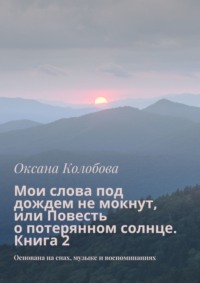Полная версия
Граница с Польшей. II часть

Граница с Польшей
II часть
Оксана Колобова
© Оксана Колобова, 2024
ISBN 978-5-0064-3978-8 (т. 2)
ISBN 978-5-0064-2703-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
XIX Черная цапля и белый ворон
Когда мы вышли из заведения, мои часы показывали четыре утра. Во рту до сих пор оставался вкус томатной пасты и потом, уже фоном, отдаленный привкус водки. Перед выходом я выпил еще один коктейль и теперь чувствовал себя так, будто все мои ноги и руки двигались на шарнирах, но управлял ими не я. Хорошо, что мой проводник тут же взял меня под руку и мы пошли по тротуару уже вдвоем. Он шел, а я повторял его движения, повиснув на нем всем телом. Нам сопутствовали эти странные фонари. Даже будучи пьяным я отчетливо видел, что они были какие-то не такие. Перед глазами все расплющивалось в лепешку, но их свет оставался стабильным, будто он был нарисован на отдельном слое моего зрения. И чем дольше я смотрел на них, тем основательнее и прочнее во мне поселялась тоска, которую я отгонял от себя как мог. Наверное, пить в этом месте было ошибкой, но иначе я просто не мог. Я пил везде, где был алкоголь. Это было моей проблемой и моей ответственностью, от которой я всячески отрекался.
Весь путь мы проделали молча и у меня появилась возможность подумать о своем. Я думал о Марке и о том дне, когда я помогал ей распутывать спутанные цепочки, сидя возле нее на коленях. Я думал о своих , думал о том, что мне мешало, не называя самого предмета – все потому, что я его еще не нашел. Видно, то пряталось где-нибудь ну очень глубоко внутри, в центральной части моей души, своеобразном ядре, куда под толщиной материи ни под каким предлогом не проникал свет. Я думал о словах Аси и о ее айсбергах. Думал о свободе и своем кресле. Думал о том, как сильно хочу вернуться домой и искупаться в реке. Все эти мысли не шли мне на пользу. Мне было бы лучше, если бы он говорил и заполнял мою голову чем-нибудь посторонним. Оно бы забилось в мой мозг как ватные спонжи и не давало бы вытекать наружу тем мыслям. Почему-то в ту секунду мне казалось, что именно они делали мое тело непреподъемно тяжелым. соснах
Пейзаж вокруг менялся. Красивые декоративные дома, наверняка приспособленные под пабы, кафе и бутики, незаметно для меня слились с горизонтом, резко исчезнув из моего поля зрения. И через какое-то время пошли другие, снова жилые и приземистые, с цветными рамами и резными фигурами. При виде них мне стало немного спокойнее. Снова начинался лес с его соснами и елками. попеременно сжимал мою руку, а потом снова ослабевал хватку. Должно быть, тоже думал о чем-нибудь своем. Мистер Филин
Когда мы приблизились к нужному месту, я заранее это понял. Мы шли одной и той же дорогой строго вперед, а потом мой проводник медленно стянул меня в сторону, так, что я поначалу этого не заметил. Он отпустил мою руку и мы один за одним пошли по узкой тропке, спрятанной в высокой траве. Филин с человеческим телом шел впереди и я плелся следом за ним, расталкивая от себя заросли осоки. Кругом была тишина. Было слышно лишь поскрипывание кожи на его ботинках и грохот моих тяжелых подошв. Я хотел заговорить с ним, чтобы отвлечься от этих звуков, но не знал о чем. Так мы и шли друг за другом в этой тишине, не говоря друг другу ни слова, пока не дошли до места.
– Ну вот, мы с вами почти пришли.
Следуя за ним, я завернул за угол и из-за травы моему взгляду постепенно открылось озерцо. Небольшое, всего десять моих шагов в длину и ширину. По краям его украшали камни разных размеров, гладкие и плоские. Такими хорошо было бы пускать блинчики по воде. Я остановился рядом с ним, плечо к плечу, и тогда грохот моих ботинок смолк. Тишина вокруг была чиста и абсолютна, и это навело меня на мысль, что у меня вдруг заложило уши. Но стоило мне лишь согнуть руку, как я услышал пронзительное трение ворсинок ткани друг о друга и последующую тишину, более тяжелую, исчерпывающую и пустую. Я так и замер с согнутой пополам рукой, пораженно глядя на воду.
Мы были тут не одни. По озеру расхаживала черная, как уголь, цапля. Ее оперение лоснилось, будто глянцевая обложка журнала, и потому ярко поблескивало в темноте, как если бы где-то здесь мог быть тот странный фонарь или другой источник света. От того я мог разобрать ее туловище на отдельные перышки, из которых было соткано это мягкое на вид одеяние, ни ни что не похожее и ни с чем ни сравнимое. Они выглядели и мягкими, и одновременно острыми, как боевые клинки. В какой-то момент смотреть на нее со стороны перестало быть возможным и я было хотел подойти и дотронуться, но вовремя остался на месте – по прежнему остерегался пораниться. На конце длинной изящной шеи, выгнутой по форме канализационной трубы, сиял невероятной красоты глаз, томный взгляд которого, как мне показалось, был устремлен точно на нас. Он был похож на круглый ровный камешек, отражающий в себе водную гладь этого озера.
Филин стоял не шевелясь, должно быть, с замиранием сердца наблюдал за озером и цаплей. И я тоже старался не издавать ни звука, но чем больше я об этом задумывался, тем хуже у меня получалось. Все это дошло до того, что я еле сдерживал себя, чтобы не переступить с ноги на ногу, не сжать пальцы в кулак или как следует не прокашляться. Этих действий будто требовало само мое тело. Тем временем черная цапля не торопясь перемещалась по воде. Ее согнутые в коленях ноги были погружены под воду, отчего и казалось, что она плыла, совсем как утка или какой-нибудь лебедь. Но я точно знал, что она шла по дну, и делала это настолько искусно и медленно, что казалось обратное. Но это было не все. Сверху на ней сидела какая-то белая птица. И цапля, словно не замечая ее, плыла по своим делам, если в этом маленьком озере они вообще у нее могли быть. Та птица сидела не шевелясь и молча повиновалась действиям своей черной цапли. Мы простояли так минут десять, опустив глаза в озеро, и та картина ни разу не поменялась. Они плыли по одному и тому же направлению. Птица сидела верхом на цапле, цапля же плыла по часовой стрелке по краю озера, ни разу не спустив с нас своего взгляда. И это зрелище незаметно загипнотизировало меня, постепенно доведя до оцепениния. Все во мне стало ощущаться так, словно снова стало каменным. Спустя минуты молчания я все-таки решился на вопрос.
– А что это за птица на цапле?
– Это ворон.
– Точно, ворон. И как я сразу не понял… Белые цапли и черные вороны…
У меня в голове сразу материализовалась картина из кухни моего соседа, на которой все было так же. Вопреки и правде художника, и заложенным миром порядкам, вороны на той репродукции были изображены белыми, а цапли черными. А я-то помнил, что на оригинальном полотне все было как надо. Теперь, пожалуй, все встало на свои места. Я понял, почему на той копии, до странного похожей на первозданную картину, те птицы изображались именно так. Да и что там, я понял, и чего она висела у моего соседа на кухне. Наверняка он сам здесь бывал и видел все это своими глазами. Но для чего здесь нужен я сам? Здесь, прям таки перед живым повторением той картины? почему для
– Совершенно верно. Белые цапли и черные вороны.
– А где цапли? Где вороны? Почему здесь только одна цапля и один ворон?
– Я уже рассказывал вам, что это и есть главное хранилище этого места. Здесь и был рожден сгусток темноты, которому позже было суждено разделиться и поселиться в людях, если вы помните. Изначально оно охранялось целой стаей цапель и ворон. С того времени прошло огромное количество веков и уже после того, как появился сам человек, остальные представители этих видов сгинули. По счастливой случайности здесь остались только две особи, те, которых вы можете наблюдать.
– А что это были за причины?
– Ухудшение экологии, противоправные действия человека.
– Противоправные действия?
– Браконьерство, если говорить проще. Ведь эти птицы очень красивы, да и что уж там говорить, необычайно редки благодаря своему окрасу. К тому же, эти двое – последние представители своих видов. Надо сказать, среди браконьеров о них слагают легенды. Поговаривают, что их мясо может привести человека к бессмертию, а оперение может избавить от многих неизлечимых болезней. Я не знаю, так оно на самом деле и не так. Пожалуй, никто не знает.
Я посмотрел на него, но он ко мне не повернулся. Его взгляд был направлен точно в озеро. В этих круглых красных глазах, которые я мог наблюдать сбоку от себя, я видел тень грусти и сожаления, что, как мне казалось ранее, было им совсем не свойственно.
– Они существуют вместе как единое целое. Ворон и цапля представляют собой неразрывную связь живого и его теневого обличья. Эти ребята, можно сказать, последнее, на чем держится мир. И ваш, и наш, безусловно. Пока они оба здесь, в этом озере, пока эта черная цапля ходит по дну озера и несет на себе этого белого ворона, все, можно сказать, хорошо. У нас точно есть наше завтра.
– А что будет, если это все прекратиться?
– Никто не знает. Они всегда были. А самое главное, они всегда были до человека. Так что, утверждать или догадываться о чем-то бесполезно. Скажем так, все это совершенно туманно. Ясно, пожалуй, только одно – с истреблением этих птиц вместе с ними уйдет тот элемент, что регулирует поведение человека и отвечает за стойкость его психики. От меня вы уже наслышаны о том, что в человеке уживается и свет, и тьма. Однако, они сосуществуют друг с другом таким образом, что не мешаются между собой, но самое главное, не мешают друг другу. Можно сказать, что между ними есть кое-какая стена или что-то, что выполняет похожую функцию разграничения. Ясно, что без них эта стена перестанет существовать и тьма со светом сольются друг с другом. У них не будет преград.
Я стал смотреть на птиц. В их движениях чувствовалась неимоверная гармония. Так гармонично могло быть лишь то, что существовало в системе, как часовой механизм – одно следует за одним, другое за другим и так далее. Гармония была в синхронности и неразрывной зависимости ее частей, замыкающих друг друга бесконечным кольцом. Те элементы могли быть самостоятельны и иметь собственное значение, и оттого их связь была только прочнее, потому что лишь в совокупности они приумножали собственную значимость. Озеро, цапля и ворон представляли собой одну из таких цепей. Пока здесь было это озеро, была цапля, а пока была цапля, был и ворон. Без цапли и ворона озеро осталось бы просто озером, заброшенным и зеленым от тины. Но без озера не было бы цапли, как следствие, и ворона тоже. Озеро было фундаментом, цапля была связующим звеном, а ворон был завершением цепи. Одно шло за вторым, второе за третьим…
– Мы с вами знаем человека с определенным психическим строем. Черное, белое и стена. Ничего лишнего. Все действует как ему и положено и отвечает за свои функции. Что будет, если стена будет нарушена, неизвестно. Какого человека мы получим? Лишь один элемент выйдет из строя, но сможет ли в этом случае человек оставаться прежним? Что будет с его психикой, непредсказуемо. Но я, все же, могу кое-что добавить. Прежде, когда цапель и ворон было больше, все было немного иначе. Как вы можете догадаться, стена между светом и тьмой была прочнее, потому что хорошо охранялась птицами. Отсюда вытекало вот что. Психика человека была куда прочнее и практически стремилась к идеалу. Он был полностью уравновешен как личность. В нем все было сбалансировано, как и задумывалось высшими изначально. Человек ничего не боялся и потому не ощущал себя одиноким. Он знал, куда он идет, он знал, на что он идет и что у него впереди. Его перспективы были ясными. Ничто не угрожало ему. А прежде всего, он сам. Тогда его внутреннее существо представало перед ним как нечто беззлобное, безопасное и просматриваемое со всех сторон. Он был счастлив.
Все это время тишина оставалась с нами, лишь его голос раздавался поверх нее, как одно из ее обличий. Во всяком случае, он не звучал в ней чем-то лишним. Неожиданно переступил с ноги на ногу и его ботинки опять заскрипели. Он сделал это без всякого сожаления, должно быть, так же как и я выбирал момент, когда можно снова ожить и дать телу свободно двигаться так, как оно этого хотело. Он посмотрел на меня и я непроизвольно в ответ на него оглянулся. Мистер Филин
– Пожалуй, у меня все.
– И что теперь?
– Я провожу вас.
Он привычно взял меня под руку и мы пошли тем же самым путем к дороге. Снова эти заросли, бьющая в лицо осока, невыносимый грохот моих ботинок. И вот, наконец, тротуар, выложенный треугольными плитами. Мы пошли в каком-то направлении – я уже не мог разобрать, в какую сторону мы пошли из забегаловки, куда мы шли теперь и где должны были оказаться в итоге. Все вокруг было одинаковым. Те же простенькие и ничем неприметные жилые домики, фонари и вездесущая треугольная плитка, которая, как мне казалось, была проложена всюду, где еще не ступала моя нога. Я шел, крепко сжимая в руке холодный и слегка влажный материал его пиджака, и размышлял о тех птицах, что мне пришлось наблюдать.
– А эти птицы, почему они остались, а другие нет?
– Везение, а может, и судьба. Смотря как на это смотреть.
– А как на это смотрите вы?
– Итак, и так. У меня два глаза. Но я могу смотреть ими лишь по отдельности, а не сразу обоими, как вы, люди. Можно сказать, вся картина мира разделяется для меня на две части, правую и левую.
Пожалуй, он был прав. Люди, в том числе и я, – потому что вне зависимости от того где я был, я к ним по-прежнему относился, – не принимали в счет существования чего-либо другого, отличного от того, к чему они привыкли. И у нас на все про все был только один большой глаз, состоящий сразу из двух. Они смотрели куда мы захотим, но делали это одновременно, таким образом, охватывая одно и то же поле зрения. Так что, у нас определенно не было шансов смотреть на все с разных сторон.
Мы шли вот так уже около двадцати минут и домики, наконец, стали подходить к концу. Наверное, я скоро должен был оказаться дома, в своей долгожданной привычной обстановке. Как раз уже начинало светлеть. Небо стало на пару оттенков светлее, вот и все. Никакого солнца, наверное, на Границе с Польшей не было и в помине. Максимум какие-нибудь желтенькие пятна, похожие на разводы.
– А почему они такого цвета?
– В смысле, не такого, как вы привыкли?
– Ну да.
– Когда-то оба этих вида всегда были таких цветов. Но в процессе эволюции это изменилось.
– А этих эволюция не затронула?
– Точно.
– И что это? Везение?
– Наверное, все-таки, судьба. Быть может, именно из-за своего первоначального окраса они и стали хранителями. И ведь чаще всего, именно то, что остается прежним до скончания веков, и может стать тем, что будет запечатывать и хранить в себе реальность – ту, что была с самого начала, ту, что мы видим сейчас, и ту, на чем все закончится. Это своеобразный духовный посредник. То, что для течения времени становится невидимым. Оно не меняется. Оно словно камень, что может лежать где-нибудь на дне реки целую вечность, но между тем помнить о всех проплывающих мимо рыбах и водорослях, пальцах ног, что до него все это время дотрагивались.
– Так все-таки, они хранители чего?
– Человека.
Мой провожатый остановился, а я на автомате продолжил тащить его за собой. Он так и остался стоять на месте и тогда я все же оглянулся по сторонам. Оказывается, мы уже были на месте, но я не сразу это подметил. Пейзаж вокруг был таким, каким был в ту первую минуту, когда я научился , закрыв глаза и посмотрев . Вот шла та самая тропа, до самого горизонта, а вон там вдали виднелся сосновый лес. Вот только автобуса нигде не было. Я остановился. видеть внутрь себя
– Человека?
– Человеческой сущности, его теневой стороны и их связи. Озеро, цапля и ворон… Озеро как среда, ворон как человек, а цапля как его тень.
Я кивнул ему, до сих пор до конца не понимая, что я здесь забыл и почему вынужден слышать все эти вещи. Посмотрев на горизонт, который уже едва пожелтел с рассветом, я увидел приближающийся к нам автобус. В этот раз мне даже удалось рассмотреть его номер – жирными синими буквами. Я посмотрел в лицо проводнику. 1331
– Тогда почему это не одни и те же птицы?
– Потому что человек и тень неодинаковы. Это отдельные существа, имеющие право на личную жизнь. Но в тех рамках, что они существуют, иметь право на свою личную жизнь может лишь один из них. Так или иначе, что так, что эдак, один из них должен существовать на правах отражения. А другой – на правах самого субъекта. В мире все распределено таким образом. Кто-то живет на правах подчиняющего, кто-то на правах тени, его подчиненного. Подчиненный, как нам уже с вами известно, выступает как отражение воли подчиняющего – в вашем мире, в переносном, а здесь, как вы уже поняли, в самом что ни на есть прямом. Кто-то будет самой цаплей, что работает ногами, идя по дну озера, а кто-то будет вороном, что будет восседать на этой самой цапле и диктовать ей свои условия. С одной стороны, без цапли ничего бы не получилось. Вороны с водой ведь не дружат. Но посредством той цапли ворон и добивается своего, понимаете? Цапля позволяет ему быть в течении жизни, так и не прикладывая к этому руку. Ворон не заботится о тех многих вещах, о которых заботится цапля. Он смотрит по сторонам, а она смотрит на свои ноги в том озере. Она думает только о том, что ей надо выполнять свою работу и шевелить ногами, а ворон о таких вещах даже не беспокоится. Он думает о том, как добыть себе корм, и даже, возможно, размышляет о жизни за пределами этого озера. Его голова занята всем тем, что ни под каким предлогом не попадет в голову цапле.
Автобус все приближался. Я чувствовал, как внутри нарастала паника. Что-то надо еще было успеть сделать или сказать, но я не мог сказать ни слова. Пустой автобус почти беззвучно катился по земле, но приближался довольно таки скоро. Вместе с ним ко мне приближались будто бы и сами сосны. Мне чудилось, что они шли ко мне на встречу, сбиваясь в кучки, так и норовя принять меня в свой круг. Это видение меня так и не оставляло, хотя те сосны все еще оставались на местах, в своем сосновом лесу. Но я то знал, что они были как здесь, так и глубоко у меня внутри, где-то в толще всего этого неопознанного. 1331
Я посмотрел на . Заглянул в его красные, будто бы угрожающие всему свету, глаза, оценил костюм, на самом деле все же бордовый, и выступы перьев над его головой, похожие на антенны. Потом рассмотрел ладони и шею, белые-белые, опустился к ботинкам. Весь его внешний вид вызывал во мне чувство, будто бы я очень сильно к нему привязан. Так, словно стоит нам только разойтись, как я буду какое-то время что-то . Я не мог предположить, видел ли я его первый и последний раз, но стоило мне лишь об этом подумать, как он тут же опустил свою человеческую руку в брючный карман и протянул мне картонный прямоугольник, по всей видимости, визитку. Я взял ее, и даже не посмотрев, сунул в карман. Мистера Филина испытывать
– Звоните, если захотите еще раз приехать. Я вас встречу.
– Хорошо.
– А вот и автобус. Что же, всего доброго вам. И спокойной ночи.
Я оглянулся на пустую машину позади себя. Автобус чуть протрахтел и остановился, секундами позже распахнув передо мной свои шаткие двери, похожие на гармошку. Я замешкался. Мне нужно было ехать домой. Туда, где все то, о чем он мне говорил, так же существовало, но было покрыто завесой тени.
– Всего доброго. И спокойной ночи.
– О, я еще не собираюсь. Здесь до рассвета еще далеко.
– Ну он же когда-то настанет.
– Верно. Спасибо.
Филин проводил меня до дверей и на секунду сжал мой локоть в своей ладони. Я поднялся по металлическим ступенькам наверх и оглянувшись на своего провожатого, проследил, как за мной захлопнулись двери. Я достал мелочь и было хотел положить ее на тот же столик, как увидел на нем еще одну стопку монет. Безусловно, это были мои монеты, еще с первой поездки. И что, за это время этот автобус никого помимо меня не возил? Садясь на то же самое место, я подумал, что все нормальные люди в это время и спали, и уж точно не подозревали о существования этого места. Глядя в окно на еловые ветви, бьющие по стеклу точно так же, как в предыдущий раз, я думал, что все же хотел бы оказаться в их числе. Пожалуй, это было не так уж и сложно. Для этого порой более чем достаточно не совать нос туда, куда не следует. А точнее, сидеть целый день дома и выполнять свой привычный каждодневный план, ни грамма не отличающийся от того, что был вчера. В принципе, я так и жил, изо дня в день. И чего только меня угораздило связаться с этим стариком?
Вторая поездка выдалась спокойной. Я уже знал часть маршрута и то, что в этот раз обойдется без приключений, ведь я ехал домой. Мы ехали так двадцать минут, полчаса. На моих часах было пять утра. И правда, вскоре из-за горизонта показалось солнце. Но это произошло так быстро, что я не мог поверить своим глазам. Вот оно вышло, потом поднялось все выше и выше, пока небо не стало желтым. Эти перемены произошли не более, чем за пять минут. Чем ближе мы приближались к дому, тем стремительнее небо загоралось рассветом. На Границе с Польшей рассвет действительно ожидался еще не скоро. Почему-то у меня было ощущение, что он там никогда не настанет. Небо так и будет таким же желтоватым, каким я его тогда застал – так, будто небо было пуховым одеялом и через это одеяло кто-то близко светил фонарем. Правда, какой-то след все же оставался, но для слова его все-таки было довольно мало. рассвет
Постепенно солнце в моих глаза все тускнело и тускнело, пока через какое-то время и вовсе не сошло на нет. Потрепанные сидения, брюки, кардиган, ладони и отдаленный пейзаж за окном в виде горных пиков и утесов – все постепенно теряло свою яркость, словно кто-то выключал мирскую подсветку. Через пару минут картинка в моих глазах полностью погасла, и лишь тогда я додумался их открыть. Видать, так долго пробыл с закрытыми глазами, что совсем позабыл о том, что в моем мире с закрытыми глазами можно увидеть лишь слизистые. Чем ближе ко мне была точка прибытия, тем этот факт был очевиднее. Теперь при взгляде я мог увидеть лишь свои фактические внутренности, но никак не то, что могло по настоящему во мне находится. Смотреть на все вокруг открытыми глазами было непривычно. Глаза заболели от яркого света, будто я только что проснулся и не отводя взгляда смотрел прямо на солнце. А его свет только усиливался. Рассвет был в ударе. Должно быть, впереди предстоял солнечный день. внутрь себя
Возможно, я был всему этому рад. Все-таки, гораздо спокойнее жить, зная, что все, что тебя окружает, легко и просто, как кусок сыра с огромными дырами. Одна сторона от меня – мой дом, мои книги, жена, ее собака и наши постоянные стычки, с другой – мой друг Николаша и его возлюбленная Асия, с которой мне хотелось созвониться еще раз, и к стыду своему, перечитывать письма, которые, к слову, от жены я никуда так и не спрятал. Не знаю, что мне было за дело до той молодой блондинки. Может, новизна ощущений или кризис среднего возраста, может и что похуже – изрядное самолюбие и стремление к самоутверждению. К людям, которым я нравился, я испытывал ответное влечение. Но было ли это то самое, что притягивало меня к ней?
Вскоре мы проехали серпантин, откуда хорошо было видно рассвет. Солнце, словно обезумевшее, светило в полную силу. От этого огромного шара по небу во все стороны расплывались яркие красно-оранжевые полосы, похожие на порезы. Следуя маршруту, автобус туда-сюда перекатывался и перекатывал меня внутри себя. Сосны снова били и царапали окна. Поверх их ветвей были обозначены горы Азрацт. Их вершины голубели и местами желтели, если солнце попадало на доступные ему изломы. Тогда свет все же побеждал тьму.
Когда автобус остановился, чтобы выбросить меня на остановку, я только и хотел, что упасть в свою подушку лицом и ближе к обеду как ни в чем ни бывало проснуться, будто все осталось таким, как прежде. Идя от остановки к своему дому, я поймал себя на мысли, что весь вечер и вся последующая ночь никак не уложились у меня в голове. Все то казалось мне не то чтобы нереальным, но маловероятным. При всей реальности гор и реки на горизонте, родного полосатого шезлонга и цветов Марки, все то, что я увидел до этого, было похоже на выкройку или первоначальные мазки краски, которые прежде делал Николаша при написании каждой новой картины – они были нужны для обозначения и основ цветовых решений. Это были все равно что неосторожные наброски, которые в моей памяти так и останутся набросками. Все потому, что замысел художника возник у него в голове так же стремительно, как в ней же и потерялся. Эти штрихи остались на бумаге, но вот дальше из них ничего не получится. Они так и будут просто штрихами, но никак не самой реальностью. Возможно, в каком-то плане это она и была, но лишь в своем менее реальном проявлении. Моя же реальность была сейчас со мной. Я уехал, а она так и осталась меня дожидаться. теней