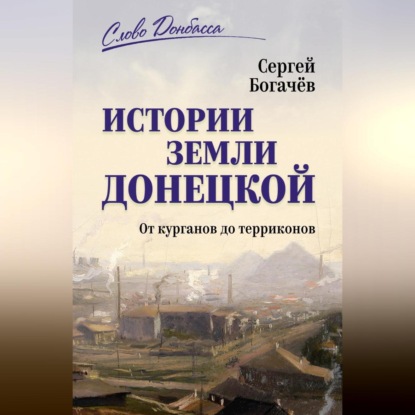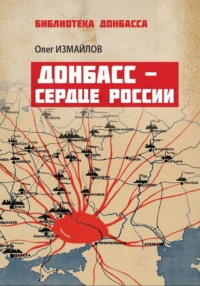Полная версия
Донбасский декамерон
Читать написанное о них можно и нужно как своеобразный, правда, очень и очень пристрастный, путеводитель. При этом надобно проявлять известную осторожность, памятуя, что мемуар свой Константин Георгиевич очень сильно олитературил, что-то напутал по старости лет – писал-то уже на исходе жизни. Ну и приукрасил моментами действительность. На то и писатель: не приврешь – красиво не расскажешь.
По понятным причинам больше всего места в «Повести о жизни» отведено Киеву: детство – отрочество – юность. Здесь жили родители и сестра, братья, сюда он вернулся в разгар Гражданской войны, чтобы послужить в караульном полку армии Скоропадского и удрать при первой возможности на юг.
Родной город Паустовский, равно как и его земляк и почти ровесник по Первой, имени Александра Первого Благословенного, мужской гимназии, Михаил Булгаков, описывает сдержанно, почти газетно. При этом как настоящий мастер слова дает картинку, по которой мы можем судить о том, каким был Киев начала двадцатого века.
Вот, к примеру, зримая прогулка:
«Я свернул по Глубочице на Подол. Холодные сапожники стучали молотками по старым подошвам. Молотки высекали из кожи струйки пыли. Мальчишки били из рогаток по воробьям. На дрогах везли муку. Она сыпалась на мостовую из дырявых мешков. Во дворах женщины развешивали цветное белье.
День был ветреный. Ветер вздувал над Подолом мусор. Высоко на холме подымался над городом Андреевский собор с серебряными куполами – нарядное творение Растрелли. Красные картуши колонн могуче изгибались».
Или вот такой карандашный набросок:
«Пыль дымилась над Сенным базаром. Над скучной Львовской улицей плыли одинаковые круглые облака. Едко пахло конским навозом. Седая лошаденка тащила телегу с мешками угля. Измазанный углем человек шел рядом и уныло кричал:
– Уголля надо?»
* * *Заметим, что украинской речи до самого описания Киева в Гражданской войне тут не обнаружить. А помните, Панас, Леонида Киселева. Вы ведь киевлянин, по глазам вижу, что помните:
Я позабуду все обиды,
И вдруг напомнят песню мне
На милом и полузабытом,
На украинском языке.
– К чему вы это?
– К тому, что украинцы были у Паустовского, и мова была, но он ее относил к фольклору и этнографии, рупь за сто.
Панас отвернулся к окну, за которым ярились волны Черного моря:
– Вы лучше продолжайте, знаете, что нам лучше не распространяться на эту тему.
– Ладно, проехали.
* * *У многих исследователей жизни и творчества Паустовского сложилось стойкой убеждение, что самым любимым городом его молодых лет была Одесса. И хотя в Южной Пальмире Константин Георгиевич провел не самые спокойные годы (1919–1921), она вышла на страницах его книг невероятно солнечной, уютной, философической и снисходительной к человеческим слабостям.
Паустовский не был «человеком длинной воли», но упрям, везуч, находчив, образован. Похоже, та Одесса (от нее мало что осталось в наши дни) любила этого невысокого и лобастого человека. И он платил ей пламенной любовью.
Описания одесской жизни времен Первой мировой и Гражданской войн – одни из самых приятных страниц в его рассказах «за жизнь». Иногда просто верится, что писал коренной одессит. Вот, например, начало рассказа «О фиринке, водопроводе и мелких опасностях»:
«Фиринка – маленькая, с английскую булавку, черноморская рыбка – продавалась всегда свежей по той причине, что никакой другой рыбы не было, и вся Одесса ела (или, говоря деликатно, по-южному, “кушала”) эту ничтожную рыбку. Но иногда даже фиринки не хватало.
Ели ее или сырую, чуть присоленную, или мелко рубили и жарили из нее котлеты. Котлеты эти можно было есть только в состоянии отчаяния или, как говорили одесситы, “с гарниром из слез”».
И вот такой момент, поднимающий в воображении образ незабвенного сына турецкоподданного Остапа Сулеймана Берта Мария Бендер-бея:
«Одесса была удивительна в тот год невообразимым смешением людей. Одесские мелкие биржевые игроки и спекулянты, так называемые лапетутники, стушевались перед нашествием наглых и жестоких спекулянтов, бежавших, как они сами злобно говорили, из “Совдепии”.
Лапетутники только горько вздыхали – кончилась патриархальная жизнь, когда в кафе у Фанкони целый месяц переходила из рук в руки, то падая, то подымаясь в цене и давая людям заработать “на разнице”, одна и та же затертая железнодорожная накладная на вагон лимонной кислоты в Архангельске».
Просто «Геркулес» какой-то ильфо-петровский на горизонте вырисовывается, сразу ясно, откуда взялись и «пикейные жилеты», и Берлага, и зиц-председатель Фунт. С той самой Одессы, только согретой лучами НЭПа.
Читали Бабеля? Про Беню Крика и прочих персонажей гангстерской саги? Так у Паустовского есть про них как бы продолжение их послереволюционной жизни:
«Три тысячи бандитов с Молдаванки во главе с Мишей Япончиком грабили лениво, вразвалку, неохотно. Бандиты были пресыщены прошлыми баснословными грабежами. Им хотелось отдохнуть от своего хлопотливого дела. Они больше острили, чем грабили».
Или вот рассказ о вечной одесской (да и крымской, донбасской и т. д.) беде: нехватке воды – лапидарно, но красок и не надобно:
«В то время в Одессе было очень плохо с водой. Ее качали из Днестра за шестьдесят километров. Водокачка на Днестре едва дышала. Ее много раз обстреливали разные банды. Город все время висел на волоске – ничего не стоило оставить его совсем без воды.
Вода в трубах бывала, да и то не всегда, только в самых низких по отношению к морю кварталах города. В эти счастливые кварталы тянулись с рассвета до позднего вечера вереницы людей со всей Одессы с ведрами, кувшинами и чайниками».
Хотите той Одессы – найдете ее у Паустовского, а мы пойдем дальше. И дойдем-таки до моего несчастного Донбасса.
Во время Первой мировой войны Константин Паустовский потерял двух братьев: армейские офицеры-добровольцы, они погибли в один день.
Сам Константин Георгиевич по сильной близорукости смог пойти на войну только санитаром в поезде, перевозившем раненых. С 1916‑го после ранения осколком снаряда он работает приемщиком снарядов на военных заводах Юга России – в Екатеринославле и Таганроге.
Не миновала его и Юзовка, где как раз в тот год правительство и Общество Путиловских заводов, секвестрированное правительством из-за саботажа военных заказов армии, построили огромный завод по выпуску снарядов. Так и хочется поерничать: «имени Паустовского».
Паустовский, который был отправлен в Юзовку чуть не в ссылку за несанкционированную поездку в Севастополь, о которой чуть позже.
Юзовка (или, как ее ошибочно называл тогда Паустовский, Юзово) не радовала будущего писателя. В письме своей невесте Екатерине Загорской он так описал свое свидание с будущей столицей Донбасса:
«В глубокой яме, в выжженной степи, в туманах пыли – грязное, полуеврейское Юзово. Заводы и шахты. Желтое небо и черные от копоти люди, дома, деревья, лошади. Гиблое место. А завод напоминает одну из самых суровых и мрачных грез Верхарна».
В «гиблом месте» он застрял на несколько недель, хотя рассчитывал на десять дней. Благодаря этому обстоятельству мы имеем замечательный рассказ «Гостиница “Великобритания”», который столь же хорош, сколь и неприятен, хотя типы, в нем выведенные, – превосходны и реалистичны. Наблюдательность Константина Георгиевича оставила нам и яркие социальные срезы Юзовки:
«Трудно было сразу понять, кто населял Юзовку. Невозмутимый швейцар из гостиницы объяснил мне, что это “подлипалы” – скупщики поношенных вещей, мелкие ростовщики, базарные торговки, кулачье, шинкари и шинкарки, кормившиеся около окрестных рабочих и шахтерских поселков».
Тут нет никакого противоречия, поскольку швейцар рассказал новенькому про, собственно, Юзовку – местечко, существовавшее отдельно от многочисленных заводских и шахтерских поселков, всех этих Александровок, Григорьевок, Масловок и Семеновок, Рыковок и «Веток», позже составивших новый город Сталино (Донецк).
Паустовский оставил нам и картину поселковых нравов:
«С неба сыпалась жирная сажа. Из-за дыма и сажи в Юзовке исчез белый цвет. Все, чему полагалось быть белым, приобретало грязный, серый цвет с желтыми разводами. Серые занавески, наволочки и простыни в гостинице, серые рубахи, наконец, вместо белых серые лошади, кошки и собаки. В Юзовке почти не бывало дождей, и жаркий ветер днем и ночью завивал мусор, штыб и куриный пух.
Все улицы и дворы были засыпаны шелухой от подсолнухов. Особенно много ее накапливалось после праздников. Грызть подсолнухи называлось по-местному “лузгать”. Лузгало все население. Редко можно было встретить местного жителя без прилипшей к подбородку подсолнечной шелухи.
Лузгали виртуозно, особенно женщины, судачившие около калиток. Они лузгали с невероятной быстротой, не поднося семечки ко рту, а подбрасывая их издали ногтем. При этом женщины еще успевали злословить так, как умеют злословить только мещанки на юге, – с наивной наглостью, грязно и зло. Каждая из этих женщин была, конечно, “в своем дворе самая первая”».
Можно только представить отчаяние Паустовского, приехавшего в «Юзово» из Севастополя, который, ах, был совсем другим, из другого, пропахшего йодом, рыбой и кораблями, мира. Мы вот с вами сейчас сидим в 20 километрах от этого города, о котором одна проницательная дончанка сказала: «Если Москва лучший город на земле, то Севастополь – лучший город на море».
О городе русской военно-морской славы Паустовский заметил:
«Мне пришлось видеть много городов, но лучшего города, чем Севастополь, я не знаю».
Как тут не вспомнить графа Льва Толстого, который тоже не так уж и долго был в Севастополе в военную пору юных лет, а, поди ж ты, писал, что только в двух городах, выходя из поезда на вокзале, он может сказать, что чувствует себя как дома: в Петербурге и Севастополе.
Первое, яркое (оно же связано было и с молодой любовью) впечатление о Севастополе у будущего писателя было такое:
«Черное море подходило почти к самым подъездам домов. Оно заполняло комнаты своим шумом, ветром и запахами. Маленькие открытые трамваи осторожно сползали по спускам, боясь сорваться в воду. Гудение плавучих бакенов-ревунов доносилось с рейда».
* * *Донна прокашлялась. Взяла кружку, сделала большой глоток «скотча», выдохнула:
– Ответствуйте.
Но прежде Панаса ответил Палыч. Он как-то очень легко вышел из тяжелого своего кресла у камина («выпорхнул», – подумала Донна), громко стукнул пустой водочной стопкой по столу.
– Видите, – эти стопки называются севастопольскими, батя говорил мне, что он в молодые годы почему-то мечтал иметь такие, бог знает почему такая хотелка была у него. И вот еще что. Не знаю, кто нас выбрал, не ведаю, есть ли сценарий у этого действа в разбитой гостинице…
– Апартаментах, – вставил Панас.
– Что?
– Это все называлось до войны апартаментами.
А… да не важно, но посмотрите на рисунок нашей беседы – как одно вплетается в другое, и выходит из третьего, которое в свою очередь, оказывается, имеет отношение и к первому, и к третьему. И думаю, что лекало Киев – Донбасс – Крым в наших попытках составить из старых рассказок, кто-то подкинул нам. Что скажете, Панас? И еще – почему в нашей компании киевлянин? Я слышал, что обычно с вами работают отдельно.
Панас развел руками:
– Может. Потому что я из «обновленцев»?
Наступила напряженная пауза из числа тех, что надо преодолевать сразу, чтобы спасти беседу или компанию.
– Что ж, – сказал Палыч, – про этого вашего Измайлова из Донецка я тоже слышал. Равиль, помните говорил о братике фронтовом, рассказывал. У меня даже в электронном блокноте есть одна история, им написанная. Она меня задела в свое время. Слушайте.
История о последнем ХерсоноситеВ 1949 году в Севастополе неожиданно был арестован хранитель музея-заповедника «Херсонес Таврический», видный археолог Александр Тахтай. Неожиданно, потому что всего пять лет назад именно Александр Кузьмич встречал в разбитом в щепки городе-герое экспонаты, вернувшиеся из эвакуации.
Это о нем тогда по свежим следам написала в очерке «Ленинград – Севастополь» поэтесса Ольга Берггольц. Коллеги-археологи, знавшие, что Тахтай остался в оккупированном Севастополе, удивлялись: «Он разве еще жив?»
К началу Великой Отечественной Тахтаю было уже за пятьдесят. Он родился в 1890 году в провинциальном городе Ромны Полтавской губернии.
Крохотный город дал русской культуре и науке несоразмерно своему населению число деятелей самых разных сфер жизни. В числе его уроженцев знаменитые советские физики Иоффе и Эпштейн, один из новаторов театральной режиссуры Таиров, революционный деятель, павший жертвой сталинских репрессий, Сокольников, герой Гражданской войны командарм Федько и, наконец, знаменитый скульптор Кавалеридзе, автор монументальной статуи Артема в Святогорске. Иван Петрович, кстати, поставил в родном городе первый в мире памятник Тарасу Шевченко.
Путь в науку у Тахтая был обычным – реальное училище, потом историко-филологический факультет столичного университета, из которого перескочил – по родившемуся интересу – в соседний Петербургский археологический институт, где очень быстро стал любимым учеником светила археологической науки Александра Спицина.
Быстро определился круг интересов будущего ученого – проблемами памятников скифско-сарматской, античной и средневековой культур, античной эпиграфики и нумизматики Александр Тахтай занимался до самой смерти.
Научные изыскания, экспедиции в районы Северного Причерноморья – рай для исследователя его тематики – были грубо прерваны Первой мировой войной.
Тахтай возвращается домой, на Полтавщину, вступает в санитарный отряд так называемого Земского союза. В одном из санитарных поездов он знакомится со студентом Московского университета, мечтающим о писательстве, Константином Паустовским. Затем дороги их разошлись – Паустовский с головой ушел в журналистику, а Тахтай летом 1918 года стал красноармейцем.
К ученой деятельности он вернулся только в 1923 году.
Пролистаем ряд страниц его жизни и перейдем сразу к 1935 году. Археолог Александр Тахтай получил назначение в Севастополь, на работу в музей-заповедник «Херсонес Таврический».
Жизнь средневековых херсонеситов так увлекла его, что он не замечал, как летели годы. Путеводитель Тахтая по средневековому Херсонесу, подготовленный им как руководителем Музея Средних веков, стал классическим. Именно Тахтай в предвоенные годы организовал и провел первые масштабные раскопки в Херсонесе исключительно по научным методикам, жестко пресекая любительство и «черную археологию».
Тут жизнь снова столкнула археолога с Паустовским, уже именитым писателем. В самой романтической книге о Севастополе на русском языке, повести «Черное море», Константин Георгиевич не забыл и про старого знакомого:
«Он провел нас на место последних раскопок и показал пласты почвы разных эпох. По ним, как химик по спектральным линиям, археолог читал прошлое этих берегов. Верхний слой был полон гигантских камней от обвалившихся стен Херсонеса и новых могил – в прошлом веке в Херсонесе было устроено карантинное кладбище. Второй слой принадлежал византийской эпохе. Здесь нашли много монет Византии. Ниже лежал третий слой, где было много остатков римских времен. И наконец, в самом низу, на материковой скале, лежал слой эллинских вещей, главным образом черепков посуды, покрытых тусклым черным лаком.
В одной из стен нашли мраморную голову юноши, очевидно, творение великого мастера четвертого века до нашей эры. Сотрудник показал нам эту голову. Она была покрыта чешуей окаменелой пыли. Кто-то из диких жителей Херсонеса времен Византии, какой-то христианин, замуровал ее в стену жалкого дома вместо строительного камня».
Клятва херсонесита – это самое потрясающее из истории Тахтая.
Никто из нас не знает, где может оказаться место его подвига. Археолог Тахтай не смог уйти с войсками из Севастополя из-за тяжелой болезни жены. Он остался. В конце концов, он был хранителем Херсонеса, он сам себя им назначил. О сделанном Тахтаем в годы оккупации можно узнать в основном из очерка ленинградской писательницы Ольги Берггольц. Она писала:
«Ученый, хранитель музея и старый археолог Александр Кузьмич Тахтай тщательно на большой лист ватманской бумаги переписал текст древнейшей человеческой присяги родному городу, повесил его над столом в своем рабочем кабинетике и один остался в Херсонесе.
– В каждом аду должен быть свой цербер, – рассказывал он нам. – Я остался таким цербером около этих священных камней, повторяя мою присягу: “Ничего никому, ни эллину, ни варвару, но буду сохранять для народа херсонеситов…”»
Одно время в археологическом заповеднике встала на постой красноармейская часть. И ученый в перерывах между боями рассказывал бойцам о той роли, которую сыграл Херсонес, Корсунь древних русских летописей, в истории нашей страны.
А потом в город вошли войска Манштейна.
Первое, что сделали оккупанты в Херсонесе, – выбросили чету Тахтаев из казенной квартиры. Потом стали грабить нашу историю.
Процитируем еще раз очерк Ольги Берггольц: «Они рассовывали по карманам драгоценные греческие терракоты, стеклянные сосудики для благовоний и вдовьих слез, они царапали на амфорах свастику, разводили на древних мраморных плитах варварские костры. Отчаяние владело старым ученым столь сильно, что делало его бесстрашным.
Он шел к немецкому офицеру, командующему частью, и кричал на него, и требовал унять солдат. Увидев в руках солдата какую-либо музейную вещь, Тахтай шел прямо на него и начинал мягко, но настойчиво отнимать эту вещь.
– Камрад, – говорил он, пытаясь разжать цепкие пальцы грабителя, – камрад! Это нельзя. Это принадлежит прошлому. Это достояние человечества. Это не ваше…
И иногда солдат так изумлялся тому, что слабый, очень старый, морщинистый и седобородый старичок отнимает вещицу у него, вооруженного здоровяка, которому достаточно только дунуть, чтоб старичок покатился с ног, что, хохоча и изумляясь, отдавал украденную безделушку.
«Ничего никому, ни эллину, ни варвару, но буду охранять для народа херсонеситов», – упрямо твердил он присягу своего города – единственный херсонесит, единственный человек среди занявших Херсонес варваров».
Вскоре немецкой армии стало не до Херсонеса и его хранителя. И Александр Кузьмич начал прятать наиболее ценные экспонаты из того, что музей не смог увезти в эвакуацию.
Верхом дерзости Тахтая стало похищение из-под носа оккупационных властей ящиков с артефактами Херсонеса, подготовленными для подарка Манштейну. На ящиках уже написали: «Победителю Севастополя барону фон Манштейну». Но ящики бесследно исчезли. И только Кузьмич, как звали его жители окрестных хуторов, да его помощницы из числа севастопольских женщин знали, куда были спрятаны археологические сокровища.
Под ежеминутной угрозой ареста, лагеря, смерти Тахтай берег и хранил музей. И сохранил.
Севастополь был освобожден Красной армией 9 мая 1944 года. Фронтовой фотокорреспондент, уроженец, кстати, вашей Юзовки, Донна, да? – Евгений Халдей, вошедший в город с передовыми частями морской пехоты, снимал пленку за пленкой, запечатлевая для истории то, что было сделано с прекрасным белым городом у моря.
Усилиями варваров Севастополь сравнялся видом с Херсонесом – и там, и там лежали руины. Но уже в ноябре 1944 года Херсонесский заповедник устроил первую большую выставку античных и средневековых древностей, сохраненных археологом Александром Тахтаем.
А пять лет спустя случилась черная история. Увы, столь обычная для той эпохи.
Сразу два доноса были написаны на археолога в соответствующие органы. В первом он обвинялся в сотрудничестве с оккупационными властями (!), а второй был и того лучше – Александру Кузьмичу вменяли в вину русский национализм.
Дали ему много – аж 25 лет. Тут впору удивиться такому огромному сроку. Но мы не все рассказали о его биографии.
Дело в том, что для советской фемиды Тахтай в 1949 году был рецидивистом. Он уже проходил советскую тюрьму дважды. Первый раз в 1930‑м, второй – в 1934 году. Оба раза быстро отпускали – по полгода «всего-то» и сидел. Оба раза, вы будет смеяться, за украинский буржуазный национализм. То есть Тахтаю выпала редкая судьба – получить наказание за две разновидности национализма – украинский и русский.
До смерти Сталина он сидел в городе Сталино. Вашем любимом Сталино, Донна.
Срок Тахтай отбывал в лагере честно, каждый день ходил на работы по разборке развалин домов, оставшихся после войны. Горькая усмешка судьбы – археолог, всю жизнь разбиравший завалы истории, разбирал завалы современности.
Отпустили досрочно, сразу после смерти Сталина. Но в Херсонес он уже никогда не вернулся. Не мог. Решил остаться в шахтерском городе.
Здесь с кадрами было очень туго, поэтому маститому археологу, пусть и отсидевшему по опасной статье, обрадовались в областном краеведческом музее. Но, понятное дело, в штат брать не спешили. Зачислили ученым консультантом на общественных началах.
Старый археолог получал свою скромную пенсию, ездил с молодежью на раскопки, учил ремеслу, печатал статьи в профессиональных изданиях. Последняя, о загадочной статуе с неизвестными науке письменами, найденной при строительстве Карловского водохранилища под столицей Донбасса, вышла в февральской книжке «Советской археологи» за 1964 год. А в четвертом номере журнала появился запоздалый некролог:
«25 июля 1963 года скончался один из старейших археологов Украины Александр Кузьмич Тахтай. Умер он, можно сказать, с пером в руке. В последние дни жизни он работал над текстом доклада “О погребении знатной кочевницы начала II тысячелетия н. э.”, который он намеревался прочесть на 3‑м общем собрании Одесского археологического общества…»
В последний день своей жизни он зашел в краеведческий музей. Он тогда располагался в здании областной библиотеки им. Крупской – в самом центре города, всего два года носившего тогда имя Донецк. Пообщался с коллегами, вышел на улицу, и… не выдержало сердце.
Удивительно, что при такой судьбе оно прослужило ему 73 года.
* * *Палыч подошел к бутылке, не спеша отвинтил пробку, налил до краев ребристую севастопольскую стопку, и «махнул» ее, не чокаясь ни с кем.
Задымил своей трубкой и сказал:
– Как-то я видел кладбище морских торпед. Обычных 533 мм, тех, что уже давно перестали использовать. Допотопное оружие былой эпохи, когда-то они, знаете, смотрелись хищными рыбками, смертоносными акулами. А тут лежат такие насквозь ржавые, краска облезшая. Не только забытые и не нужные, но и напрочь бесполезные.
Палыч покрутил в руках пустую рюмку, поднял глаза на собеседников.
– А знаете, почему эти стопки, почему они севастопольскими называются? Когда-то каждому нижнему чину во флоте российском вообще и в Черноморском в частности ежедневно наливали казенную чарку – 130 граммов водки. Но началась война и в Морском министерстве какой-то светлой голове пришла мысль о стандартизации, норму подняли до 150 граммов. Ну, и натурально, Петербургскому казенному заводу достался «госзаказ» на «высокую севастопольскую стопку».
Мда… Если мы уж на войну вышли в своих разговорах, на историю войн на землях Донбасса и Таврии, по всей огромной дуге новороссийской от Харькова до Одессы, цепляя Запорожье, Елисаветград и прочие русские земли, не могу не вспомнить поразительные судьбы тех, кто выжил и возвеличился до национальных кумиров, – проговорил минуту спустя Панас, и было видно, что он гнет какую-то, одному ему известную линию.
– Вот послушайте несколько историй про советских актеров, которые выжили в Донбассе, чтобы стать великими в Союзе.
История о талантах, выживших на войне в ДонбассеИ очень просто – Донбасс во времена Великой Отечественной стал местом, откуда начался путь в большое искусство театра и кино некоторых из знаменитых наших актеров. Начался трагически: с ранения и госпитальной койки.
Великий русский комик Юрий Никулин, как известно, оттрубил в армии 6 лет. Его призвали еще в 1939 году, а демобилизовали в 1945‑м. Его компаньон по комедии «Бриллиантовая рука» Анатолий, «Лелик», Папанов прошел только Великую Отечественную. Доброволец Папанов был тоже зачислен в зенитчики.
Увы, боевой путь старшего сержанта Папанова, командира взвода зенитчиков, был недолог. Дело было в мае 1942 года, аккурат в те жуткие две недели, когда из-за нерасторопности Генштаба советским войскам под командованием маршала Семена Тимошенко не удалось завершить начавшуюся было успешно операцию по освобождению Харькова и Донбасса. Подразделение, в котором служил Анатолий Папанов, попало под контрудар немецких войск.
Часть, в которой служил будущий актер, была почти полностью окружена под Краматорском, но сумела вырваться и начала отход в сторону Изюма. В одном из боев Папанов был тяжело ранен.