
Полная версия
ТУН

Виктор Терентьев
ТУН
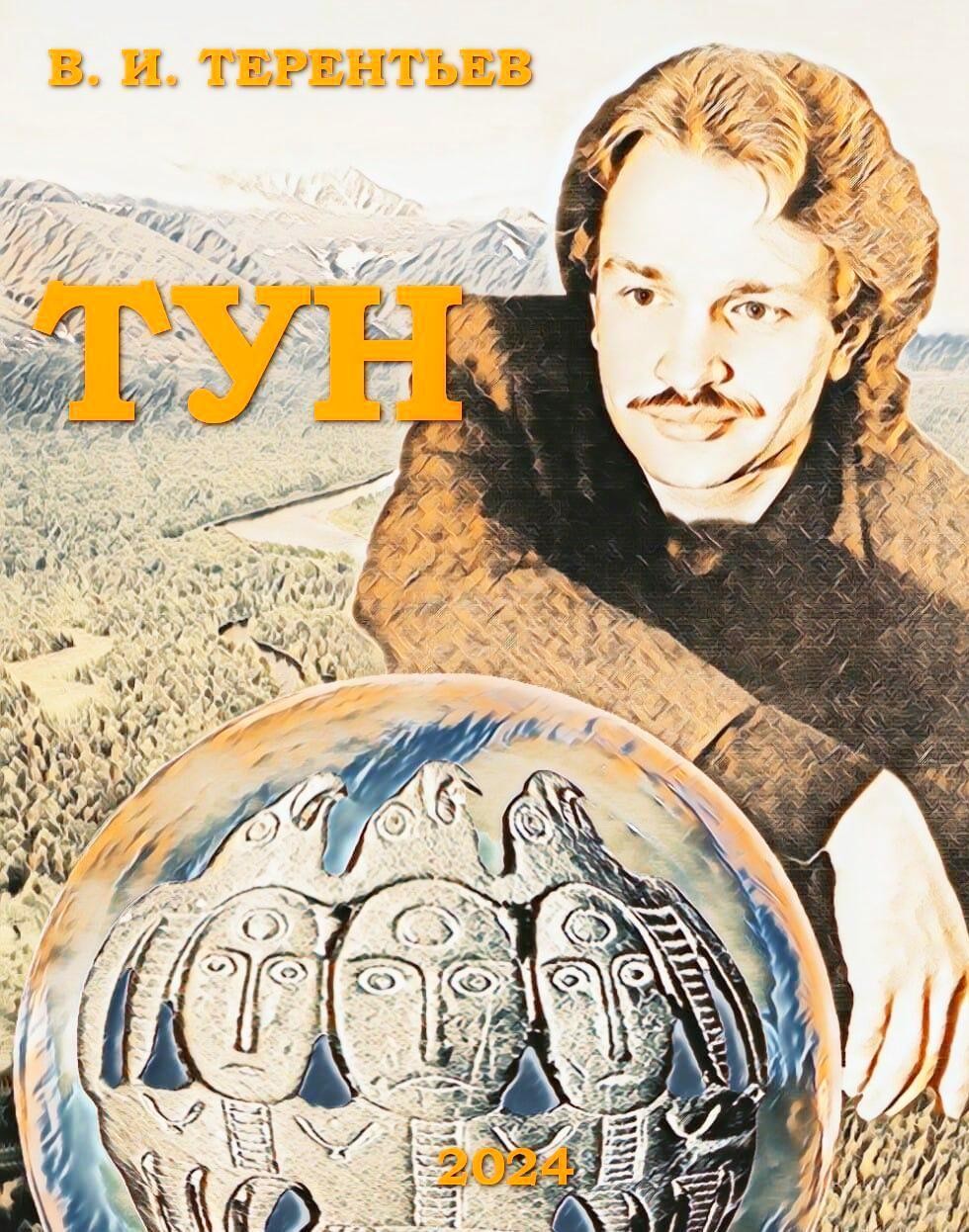
1
Виктор Терентьев
ТУН,
или
Миф о реальности
Роман
2
УДК 82-312.1
ББК 84 (2=411.2) 6
Т350
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ симфония Виктора Терентьева – одновременно
трагичная и жизнеутверждающая: местами созвучна «Лакримозе» Моцарта,
местами – «Полёту» Шнитке и «Плачу ветра» Морриконе, но, безусловно,
самобытная, с пронзительными «мелодиями», выражающими мятущуюся душу
одного из малочисленных коренных народов Севера и… душу мира.
Талант и вдохновение в произведении искусства либо есть, либо нет. Здесь
этот внутренний огонь горит, указывая направление движения, подобно
своеобразному духовному маяку.
Юрий Башмет.
КАК И ГЛАВНОГО ГЕРОЯ романа – Глеба Терникова, меня Сыктывкар когда-
то обрёк на изгнание, за что потом я был несказа́нно благодарен этому городу. Иначе
профессионально и личностно навряд ли бы состоялся.
Конечно, самореализоваться можно и в провинции – пути Господни
неисповедимы. Мне импонирует космогоническая идея изначальной жертвы: без
Жертвы нет Творения. Через тернии к звёздам устремлён и «Тун…». И да
здравствуют новые светила, которые жизненно необходимы кому-то конкретному и
всем, пока не подозревающим об этом!
Валерий Леонтьев.
Терентьев В. И.
Т350 Тун, или Миф о реальности. Художественно-документальный роман. – 2024.
– 645 с.
Роман российского публициста и собкора «Литературной газеты» в Сочи Виктора
Терентьева поднимает злободневные проблемы «культуры отмены», свободы слова и
совести… Главного героя – молодого журналиста и телережиссёра – на духовные поиски
общего для всех и каждого места под солнцем вдохновляют будни летней и зимней
столиц современной России, древняя история и фольклор одного из северных народов
финно-угорской группы.
Произведение публикуется в авторской редакции и ориентировано на широкий
круг читателей. 18+
© Терентьев В. И., 2024
3
…Всё возникающее должно иметь какую-то причину
для своего возникновения, ибо возникнуть
без причины совершенно невозможно.
Платон «Тимей», IV век до н.э.
…Человек – это не слова, которые он произносит,
и не производимое им впечатление,
а атмосфера, создаваемая в его присутствии.
Только она – подлинное свидетельство человеческой сущности.
Никто не в состоянии создать атмосферу,
не соответствующую духу.
Из духовных практик.
У народа коми – северных охотников, оленеводов, рыбаков и земледельцев, много
столетий живущих на берегах Печоры, Вычегды, Ижмы, Выми, Сысолы… – ту́нами
издревле называют колдунов-жрецов, общавшихся с миром духов и путешествовавших
между Верхним, Средним и Нижним мирами по Мировой реке. Неуязвимые для огня, воды и обычного оружия, они предвещали будущее и лечили людей, но использовали
свою сверхъестественную силу не только во благо.
В коми фольклоре великие чародеи-разбойники – главные герои многочисленных
преданий колдовского эпоса. Умеющие превращаться в зверя, рыбу, птицу, туны по
своему желанию могли оказаться в любой точке мироздания, перекидывали людей, дома, вещи на большие расстояния и повелевали стихиями. А ещё устраивали между собой
поединки и, каждый по-своему, яростно противостояли общему врагу – миссионеру
Стефану Пермскому, пришедшему в эти земли во второй половине XIV века под знаменем
Христа и с заповедями Бога единого.
Золотому веку северян, когда языческие боги были милосердны к людям и давали в
избытке всякого улова в лесах, в водах и воздухе, а ве́сти из дальних стран мгновенно
достигали пермских пределов, пришёл конец. Главным испытанием веры для уроженцев
таёжного приволья стал, согласно легендам и средневековым письменным источникам, так и не состоявшийся поединок православного святителя с верховным жрецом древних
коми Памом. « …Злый волхв, чародеевный кудесник, обманщик и начинатель
развращения, вавилонское семя, халдейский род, хананейское племя, тёмной тьмы
помрачённое чадо», – описывал языческого антагониста в знаменитом «Слове о житии и
учении святого отца нашего Стефана, бывшего епископом в Перми» его средневековый
автор Епифаний Премудрый.
А вот основоположник коми литературы Иван Куратов, попытавшийся во второй
половине XIX века тоже увековечить образ Пама в неоконченной одноимённой
драматической поэме, в своих заметках к ней даёт принципиально иную оценку:
«… Человек крайне добрый, критически относящийся к себе и придающий себе
подобающую цену; он несколько мистик, но не потому, что мало даровит, но
потому, что слишком уединил свою особу при значительном уме».
4
Отказ жреца от битвы с первокрестителем Коми земли, истолкованный
соплеменниками как трусость и признание неправоты (сам ведь бросил вызов), по мнению
классика, трагедиен по своей сути из-за особенности национального характера:
Покорным коми людям всегда
Было страшно видеть человеческую кровь.
Безгрешные мы: даже дать человеку щелчок
Рука коми человека не сможет подняться!
Но главный морально-нравственный мотив для непротивления «злу» насилием
здесь: так ли важна и подлинна Истина, если цена ей – вероотступничество? Вот и финно-угорские племена из числа коренных жителей Пермского края, воспетые в мифах под
названием «чудь», не приняли крещения и княжеских «новых силков», отказались платить
оброки и предпочли «заживо уйти под землю», но не отреклись от заветов предков и
своих корней.
В интерпретации Епифания Премудрого идейный спор язычника со служителем
христианской церкви выглядит так:
« В той вере, в которой я родился и воспитывался, и вырос, и прожил, и
состарился, в которой пребывал все дни моей жизни, – пусть я и умру в ней, к
которой привык и ныне, в старости, не могу от неё отказаться и хулить её. И не
думай, что я тебе так говорю только от себя, но – от всех людей, живущих на этой
земле. Думаю, что слова, которые говорю тебе, не только мои, к тебе я словно бы от
лица всех пермяков обращаюсь. Разве я много лучше отцов моих, чтобы так
поступить? Так ведь прожили наши деды, прадеды и прапрадеды. Я ли окажусь
лучше их? Да не будет так ни в коем случае. Скажи же мне, какую истину имеете
вы, христиане, что дерзаете так пренебрегать вашей жизнью?»
Божий же иеромонах, отвечая, сказал ему: «Послушай о силе нашего Бога и
тайне нашей веры». И начал говорить о милосердии Божьем и о его заботе о нас. И
так с помощью Священного писания начав от сотворения мира, от создания твари,
то есть от Адама, и до распятия Христова и воскресения и вознесения – и так до
конца света.
И пребывали вдвоём наедине, лишь друг с другом в словах состязаясь, весь день
и всю ночь, пребывая без еды и без сна, не имея перерыва, не делая отдыха, не
предаваясь сну, но постоянно противостояли в споре, противоборствовали словами.
И хоть многое <Стефан> высказал ему, казалось, тем не менее, что будто на воду
сеял. «Ибо в душу, – сказано, – безумного не войдёт мудрость и не сможет
укорениться в осквернённом сердце». Кудесник же, хоть и много поучений услышал,
но ни одному не верил и не внимал сказанному, и не принимал вышеизложенного, но,
выступая против, отвечал, говоря: «Я не верю. Всё это мне кажется ложью и
вымыслом, и вздором, придуманным вами. И я не уверую, если не испытаю веру».
В куратовском стихотворном «Монологе Памы», адресованном богу северного
ветра Войпелю, языческий иерарх искренне недоумевает, почему он, любивший правду и
оберегавший свой народ от чужеземной власти, вынужден терпеть поношения того, кто
5
« слишком овладел умами, чтоб не верить его добрым намерениям». И могут ли они
оба, « при всех своих добрых целях», быть неправы?
Своего героя автор наделяет редким великодушием. Если Стефан, согласно житию, обвинял Пама во лжи и во всех смертных грехах (« О обманщик и глава разврата,
вавилонское семя, халдейский род, хананейское племя, мрачное чадо тёмной тьмы,
пентаполиев сын, внук лживой египетской тьмы и правнук уничтоженного
столпотворения! »), тот отзывается о гонителе почти как о друге:
Смирен, и молод, и красив
И сладкоречив Стефан.
Выбрать сумел Бог
Человека, который не оттолкнёт от себя
Выбирающего…
Храм для жреца – человеческое сердце, религия – любовь, меж тем большая
любовь предполагает большое испытание. Испытуемому приходится восстать не только
против христианства и своего народа, утратившего уважение и доверие к основателям
рода (худшее одиночество – оказаться среди не понимающих тебя), но и против
собственных богов, «позабывших» о тех, кто им некогда молился. В конечном итоге это
восстание против самого себя, так как всё, что мы любим, и есть… мы! В литературной
традиции Пам – сильная личность и эпическая фигура, символизирующая пробуждение
национального самосознания и вечное стремление к свободе.
«Почему доро́га к Храму лежит через предательство? Может ли предателем быть
народ?» – спрашивает себя в исторических романах патриарх коми литературы Геннадий
Юшков, делая акцент на измене единоверцев Пама как основании для вневременного
комплекса вины перед предками и метафизической причине судьбы потомков. И как бы
вторя троянскому жрецу Панфою, сокрушающемуся при виде горящего Илиона (Трои) о
безвозвратно ушедшем былом величии:
День последний пришёл,
Неминуемый срок наступает
Царству дарданскому!
Был Илион, троянцы и слава
Громкая тевкров была.
Вергилий, «Энеида», II, 324-26.
Увы-увы, под небом всё лишь временно бывает. Вот и герой вавилонского мифа о
Всемирном потопе Ут-Напишти, удостоенный богами вечной жизни, говорит ищущему
бессмертия герою эпоса Гильгамешу, правившему шумерским городом Урук свыше двух
с половиной тысячелетий назад, о том, что смертным, не способным сопротивляться даже
сну, боги дали некоторую власть над жизнью, но властную монополию над последним
часом оставили за собой.
6

Ярая смерть не щадит человека:
Разве навеки мы строим домы?
Разве навеки ставим печати?
Разве навеки делятся братья?
Разве навеки ненависть в людях?
Разве навеки река несёт полые воды?
Стрекозой навсегда ль обернётся личинка?
Скоропалительная «отмена» духовного лидера, которую семь столетий спустя
квалифицировали бы также как «канселинг» (cancel culture), или дискриминация, травля и
остракизм, возможно, по законам того мрачного времени была жизненно необходима
народу? Однако «отменённые» обитатели каменного «Гнезда ветров», или Тэлпозиз –
закованной во льды главной вершины Северного Урала, похоже, «ушли, чтоб остаться»: растворились в песнях зелёного моря тайги, то предостерегая ими о чём-то ветреных
смертных отпрысков, то придавая уверенность и благословляя на подвиги…
Древнегреческий философ Эпикур писал: « Боги существуют, ибо знание о них –
очевидность; но они не таковы, какими их полагает толпа».
Куратовский Пам, сетуя божественному владыке на недоступную ограниченному
человеческому уму тайну, кается: « Я, Войпель, не знаю намерений своего бога, потому
что у всех богов есть свой бог… » Но он чувствует: и в богах, и в людях присутствует Тот, кто переживёт эти звёзды, не используя для изъявления Воли слов. И если ниспосланные
Им беды идут чередой, доводя до отчания, главное – не отчаиваться: именно в этот
момент меняется ход событий, и в нашу жизнь входит нечто чудесное, противоречащее
законам бытия и открывающее новую грань реальности… Как это было с Адамом и Евой,
«отменёнными» Всевышним?
Так не вердикт ли высшего Божьего суда в том, что поныне в Коми, а также на
бескрайних земных просторах иные истые христиане, заходя в лес, становятся
язычниками?
Часть первая
НАРОДНЫЙ СУД
Глава первая
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ПАМА
7
ЭТО было дело, не имевшее аналогов в истории Сыктывкарского федерального
суда, прежде всего, по характеру иска, несколько архаичного для начала XXI века даже в
столице Республики Коми. Нет, формально призыв защитить честь и достоинство, с
которым выступил известный в регионе журналист, режиссёр и создатель авторской
телепрограммы «Кристальный шар» Глеб Терников в отношении председателя
телерадиокомпании «Коми лов» («Душа Коми») Веры Копотевой, являлся самым что ни
на есть заурядным, однако предмет тяжбы и уровень участников процесса вызвал у
многих недоумение и ехидные ухмылки. Не каждый день в судебных заседаниях на
полном серьёзе требуют опровергнуть обвинения в… колдовстве и вампиризме. Правда, вампиризме энергетическом, зато колдовстве вредоносном, с наведением сглаза и порчи.
Охота на ведьмаков, да ещё в республиканском электронном СМИ – идеологической
цитадели свободы слова? Гром среди ясного неба!
Популярная в республике газета «Молодёжный вестник» в редакционной статье
под заголовком «Второе пришествие Пама?» поведала подробности скандальной истории, позабавившей общественность. Лишний повод развеять гнетущую тоску, свойственную
будням всякого медвежьего угла, дал обильную пищу для пересудов. Всё-таки герои – на
виду и на слуху, а тут – в контексте… почти сказов Павла Бажова!
И ведь шила в мешке не утаишь: Копотева, хоть и не Хозяйка Медной горы (и даже
не Екатерина Фурцева), окружить неугодных, вызывающих личную неприязнь, полосой
общественного отчуждения умела. Могла перекрыть доступ к телеэфиру, сформировать
определённое коллективное мнение, не очень созвучное реальному положению дел, зато
эмоционально заразительное, с внушающими доверие ярлыками: «идейный негодяй»,
«дрянь с гнильцой и самомнением», «из грязи в князи»…
При этом похвастаться крыльями за спиной и нимбом над головой у самой не было
оснований. Слыла ́ осо́бой заносчивой, неуравновешенной и обидчивой. Но в
официальных автопортретах акценты расставляла иначе, отмечая высокий уровнь
интеллекта и самосознания, социально-эмоциональной и профессиональной компетенции, аналитическое мышление и широкий кругозор.
Обожала творчество Мориса Дрюона, в особенности – цикл романов «Про́клятые
короли». Зачитывалась хитросплетениями дворцовых интриг, восхищаяясь, как ловко и
цинично изобретательный монарх Филипп IV Красивый в корыстных и политических
целях одним выстрелом убил двух зайцев – уничтожил Орден тамплиеров и пополнил
свою казну, коварно обвинив рыцарей-храмовников в преступлениях против религии и
нравственности: богохульстве и культе дьявола, распутной жизни и различных
извращениях.
За пределами «Коми лов» о кипевших колдовских страстях до сих пор никто
слыхом не слыхивал. Терников устроился в телерадиокомпанию в 1992-м в качестве
корреспондента, в 1996-м был переведён в редакторы, а в 1998-м уволен по сокращению
штата. К тому времени, как сообщил Глеб «Молодёжному вестнику», у него возникли
творческие разногласия с Копотевой, спровоцировавшие вынесение Терникову за
короткий срок семи строгих выговоров. Выговоры и поспособствовали расторжению
трудового договора (грубо-де нарушал производственную дисциплину: работал днём и
ночью). Однако причина нынешнего конфликта – иная.
8
Осознав, что « пока у руля стоит Вера Аароновна, делать на борту «Коми лов»
нечего», Глеб подался в Сочи, где устроился в радиоредакцию городской
телерадиокомпании. Не прошло и полугода, как выходцу из Коми предложили кресло
руководителя «Радио Сочи», а спустя пару месяцев Терников возглавил культурно-просветительский телеканал, созданный при ТРК. Для бывшего сыктывкарца всё
складывалось весьма удачно, но выборы мэра курорта в 2000-м спровоцировали смену
председателя компании. Новый начальник, руководствуясь конъюнктурными
соображениями, запросил характеристику с прежнего места работы Терникова. Ответ за
подписью Веры Копотевой не заставил долго ждать.
Как отмечает Глеб в исковом заявлении, « известие о факсе из Сыктывкара
создало стрессовую ситуацию, вызвало повышение артериального давления и
невралгические боли в области сердца (медицинская справка прилагается), нарушение
сна и чувство обиды за незаслуженное оскорбление». В присланной характеристике, информирует Терников, « В. А. Копотева, не будучи профессиональным
психотерапевтом, психологом (и парапсихологом), ставит мне диагноз…»
ХАРАКТЕРИСТИКА с «диагнозом», перечеркнувшая дальнейшую карьеру парня
в курортной столице России, сочинскими стараниями стала достоянием московского
теленачальства и волчьим билетом во всероссийском масштабе. Сей документ достоин
цитирования. Серьёзные нарушения производственной дисциплины, обрушившие на
Глеба лавину строгих выговоров, но почему-то не обернувшиеся логичным и
оперативным увольнением, председатель «Коми лов» объясняла так: « Терников не
вписывался в коэффициенты съемок и монтажей. Монтировал и просматривал
отснятые видеоматериалы ночи напролёт без заявок, переписывал свои передачи на
бытовые кассеты для героев – в нарушение специального распоряжения руководства.
Ключи от монтажных забирал с угрозами в адрес вахтёров наложить проклятие.
Вахтёры, считающие Терникова еретиком-колдуном и небезосновательно
опасающиеся его паранормальных способностей, подчинялись требованиям – во
избежание сглаза и порчи, которые указанный работник в состоянии навести».
Но и это не всё! Вера Аароновна с упоением так и сыпала захватывающими
деталями: « В присутствии свидетелей Глеб Васильевич был иезуитски вежлив, а один
на один – изощрённо оскорблял, и что самое отвратительное – испытывал при этом
удовольствие, возбуждённо хохотал». Подводя черту, руководитель телерадиокомпании
из Коми уведомляла сочинского коллегу, что Глеб Терников является « энергетическим
вампиром» и « специалистом в области чёрной магии, контактёром с миром духов,
представляющим угрозу обществу». По словам Копотевой, « мириться с таким
поведением сотрудника и его человеческой сущностью было невозможно, уволить –
сделать роскошную рекламу «борца с начальством», поэтому пришлось, строго в
соответствии с законом, сократить».
Благие намерения сыктывкарской медиачиновницы обернулись «вторым
пришествием Пама» – тун из «Кристального шара» решил добиться справедливости если
не магическими заклятиями и могущественными чарами, то посредством не менее
эффективной судебной системы.
Обхохмив ещё несколько нюансов предстоящего процесса, «Молодёжный вестник»
подогрел интерес: в качестве свидетелей истец предлагает допросить экс-председателя
9
телерадиокомпании «Коми лов» Алексея Копылова, телережиссёра и лауреата трёх
республиканских Государственных премий Дору Успенскую, литературоведа и
профессора Сыктывкарского университета Екатерину Мошеву, композитора и
заслуженного деятеля искусств России Мирона Намца, народного поэта Республики Коми
и общественного деятеля Нонну Волошину, а также других региональных селебрити, с
которыми лично знаком, взаимодействовал в период учёбы и работы в Сыктывкаре.
ШУТКИ ШУТКАМИ, но парню было не до смеха. Всего полчаса назад он сошёл
с трапа самолёта и сидел на окрашенной в синий цвет скамейке неподалёку от входа в
главное здание Сыктывкарского аэровокзального комплекса. Глеб достал из чемодана
скан публикации о себе, перечитал наиболее смешные пассажи и с грустью посмотрел на
трёхметровую медную скульптуру, установленную на высоком постаменте в центре
привокзальной площади и большой клумбы с жёлто-оранжевыми бархатцами. Молодой
оленевод на бегу воздевал руки вверх, к двум чайкам. Те парили рядом и создавали
размахом своих крыльев над «рождённым для полёта» своеобразный ореол. Терников
помнил, что вдохновенное творение скульптора Гущина и архитектора Бровчина
воздвигли к пятидесятилетию Коми авиации в 1980-м и установили вместо памятника
Ленину, простоявшему здесь с середины шестидесятых.
Только-только ступив на взлётно-посадочную полосу, Глеб почувствовал, что
хочет обратно – в облака, и его совсем не тянет в объятья утопающего в душистой зелени
тополей, лип, клёнов небольшого и уютного города на Сысоле. Впрочем, вырос этот
неприхотливый и скромный каменный цветок у слияния двух рек – Сысолы, а также
Вычегды, самого крупного правого притока Северной Двины. Через иллюминатор
авиалайнера невольно засмотришься на неширокие сапфировые меандры на фоне
необъятной изумрудной мантии из лиственниц, сосен, елей, берёз, кедров и заболоченных
лугов!
Тёплый летний ветерок, благоухающий тополино-липовой смолой и травянисто-медовым ароматом белого клевера (вперемешку с запахом жжёной резины), трепал

