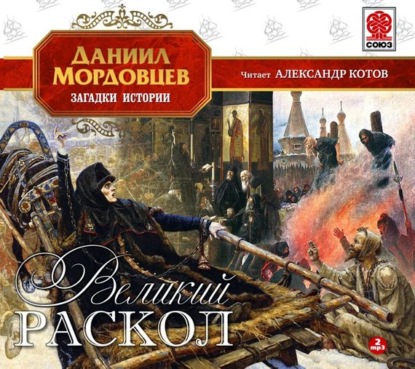Полная версия
Холоп-ополченец. Часть II
На другой день москвичи узнали, что власть над ними уже есть. Пока, до выбора нового царя, государством будут править семь бояр – князь Мстиславский с товарищами, и первым после Мстиславского стоял князь Воротынский.
Михайла руками всплеснул. Для него этого было довольно. И вообще он, побывав у Болотникова, боярам не верил, а уж коли его враг Воротынский замешался, тут уж добра не жди. Так он и сказал Патрикею Назарычу.
Патрикей Назарыч промолчал, но через два дня с торжеством рассказал Михайле, что он сам, своими глазами, читал посланье, какое бояре разослали по всем городам, приказывая всем людям, собравшись, прислать на Москву выборных, чтоб сообща избрать нового царя.
– Вот видишь, – говорил он, – выборных зовут, а народ разве попустит, чтоб ляхам поддаться. Да бояре и сами про то говорят. Ты слушай. Они там сказывают, как Василья свели за то, что за него кровь хрестьянская зря лилась и что не люб он всему народу и никто его на царство не хочет. А дале пишут, чтоб нам всем вместе стоять против польских и литовских людей, чтоб Московским государством литовские люди не завладели. Видишь? И про тушинского вора тоже пишут, чтоб и его на царство не хотеть.
– То так, – подхватил, немного смягчившись, Михайла, – Дмитрий Иваныч и сам из польских рук глядит. Они им всё одно как холопом помыкают.
– Ну вот, сам говоришь, одобрил его Патрикей Назарыч. Хоть ты бояр и не жалуешь, а всё русские люди и они тож. Аль они нашим исконным ворогам поддадутся? Вот погодим малое время, съедутся выборные с городов, и выберем себе царя по мысли, чтоб он ляхов прогнал и порядок на Руси завел. Нам, посадским, без порядка пропадать.
Михайла промолчал. Ему не одного порядка от нового царя надо было, но он уже начал смекать, что посадским про холопью долю говорить зря. Хоть у самих у них холопов и нет, а как там бояре холопов жмут, то не их забота. «Холопам только царь помочь может, – думал Михайла. Ему что бояре, что посадские, что мужики – одна стать, все ему служить должны, его волю блюсти. Прикажет боярам, чтоб не жали холопов или хотя бы и вовсе на волю отпустили, они должны слушаться. Только бы доброго царя выбрать, который бы до черного народа милостивый был. Надо бы того Ляпунова поглядеть, какой он есть», – подумал еще Михайла.
Но уходить из Москвы пока ему не хотелось. Чуял он, что здесь все дело, решится. А уйдешь, как знать, проберешься ли вновь?
VII
Прошло около месяца. Михайла все жил у Карпа Лукича, а Степка так и не вернулся. И никто не знал, куда он девался.
В Москву прибыли гонцы из Перми Великой. Они получили посланье из Казани и приехали в Москву показать свой ответ и держать совет с московскими посадскими. Пермичи звали казанцев посылать ратных людей под Москву, помогать москвичам очищать русскую землю от польских и литовских людей. А тут как приехали на Москву, прознали про них бояре-правители, призвали к себе и дали им новое посланье, какое они рассылали опять по всем городам.
Посланье это гонцы принесли показать Карпу Лукичу, как гостиному сотнику, которого все посадские уважали. Пришел и Патрикей Назарыч, и еще кое-кто из посадских послушать, что седмъ бояр пишут вновь по городам. Месяца не прошло, как они одно посланье разослали, а ноне, гляди, второе. Видно, торопят выборных присылать.
Михайла попросил Карпа Лукича позволить ему тоже послушать.
Передали свиток Карпу Лукичу.
«В Пермь Великую, – начал густым, дьяконским басом Карп Лукич, – воеводе Ивану Иванычу Чемоданову да подьячему Пятому Филатову и Пермских городов посадским и волостным людем: бояре князь Федор Иваныч Мстиславской с товарищи челом бьют. Писали мы есмя к вам преж того, что по челобитью всего Московского государства государь, царь и великий князь Василий Иванович всея Руси царство оставил и ныне в чернецах, а вам велено всех чинов людем ехати к Москве, чтоб выбирать государя на Московское государство…»
Карп Лукич остановился и спросил пермичей:
– Вы то боярское посланье получили уж?
– Нет, – ответил подьячий Филатов Пятой. – Разминулись мы, стало быть. Мы с Перми июля в тридцатый день отбыли. А то посланье когда с Москвы отправлено было?
– Да не преж чем июля в двадцатый день, – сказал Патрикей Назарыч. В семнадцатый день Ваську свели, в осъмнадцатый в чернецы постригли и бояр седмерых выбрали. В девятнадцатый, стало быть, писали, а в двадцатый, может, и гонцов рассылали, а, может, и попоздней деньком либо двумя.
– Ну, так к нам, видно, только лишь и дошло ныне, – сказал Пятой Филатов. – Ну, Карп Лукич, читай дале, сделай милость.
«А гетман Желтовский [Жолкевский – Прим. ред.], – продолжал Карп Лукич, – со всеми литовскими людьми и Иван Салтыков с русскими людьми стоит под Москвою на Сетуни [Река под Москвой – Прим. ред.]. Из городов по ся место никакие люди не бывали…»
– Где ж поспеть? – перебил Карпа Лукича Филатов. – Чай, не до всех городов гонцы и доехать поспели. Ну, читай дале.
…И мы, всем Московским государством, посоветовав с Ермогеном патриархом с митрополитом, и с архиереями, и со всем освященным собором, с бояры, с окольничьи и с дворяны, и с детьми боярскими, и с гостьми, и с торговыми людьми, и с стрельцами, и с казаки, и со всякими служилыми и жилецкими людьми всего Московского государства, целовали крест королевичу Владиславу Жигмунтовичу…»
– Ой, да что ты! – крикнул на всю горницу Михайла.
В иное время Патрикей Назарыч, может, прикрикнул бы на него как он смеет Карпа Лукича обрывать. Но тут не до того было. Все глядели на Карпа Лукича во все глаза, не веря своим ушам, точно это он выдумал то, что стояло в грамоте.
– Да как же то может статься? – заговорил Патрикей Назарыч. – Когда ж то было-то? Нас, торговых людей, и не созывал никто, да и Ермоген патриарх на то в жизнь согласу своего не дал бы.
Карп Лукич даже как будто виноват оказался, что он такие слова прочитал.
– Так тут все и прописано, как я читал, – проговорил он с недоумением. – А только не было того. С митрополитом Филаретом, может статься, и держали совет бояре, он давно королевичеву руку тянет. А с иных людей и спросу не было.
– Крест целовали ляху? – вскричал подьячий Филатов. – Да ведь еретик он! Нашу веру, стало быть, нарушит.
– Дай срок, – прервал его Карп Лукич, – дальше почитаем. Может, в толк мы не взяли. Послушайте уж, а там рассудим: «… целовали крест, – повторил он, – Владиславу Жигмунтовичу…» Общий ропот опять прервал его, но он махнул рукой и продолжал: «…на том, что ему, государю, быть на Владимирском и на Московском и на всех государствах Московсково царствия великим государем, царем и князем всея Руси в нашей православной крестьянской вере греческого закона!..»
– Как же так, – опять прервал Карпа Лукича на этот раз Патрикей Назарыч, – еретик же он, латынской веры?
– Окстится [Окрестится, т. е. примет православную веру – Прим. ред.], стало быть, – неуверенно проговорил Карп Лукич. – Ну, слушайте дале: «…а съезд был под Москвою с гетманом Станиславом Станиславовичем Желтовским и по договору с гетманом записи меж себя розняли и крест целовали, что нам послати бити челом Жигмунту, королю польскому, чтобы он пожаловал дал нам сына своего Владислава на Московское государство… А по которой крестной записи мы крест целовали и тое запись послали к вам, подпися под сю грамоту и вам бы со всеми людьми по той записи крест целовати и как крест поцелуете, и вам бы о том к нам отписати».
Далее и впрямь была приложена крестная запись и все подписи бояр седминачальных, – Карп Лукич развернул лежавший перед ним свиток.
Все сидели ошеломленные. Московские посадские переглядывались между собой, а пермичи смотрели на Карпа Лукича, ожидая от него дальнейших разъяснений. Но Карп Лукич молчал. Он был человек осторожный и высказываться перед приезжими не находил удобным. Михайла с ожиданием смотрел на Патрикея Назарыча. Его так и распирало, до того хотелось крепко выругаться на проклятых бояр, обдуривших весь православный народ и продавших Московское царство проклятым ляхам.
Патрикей Назарыч был совершенно подавлен. Он никак такого не ждал. Выходит, Михайла-то прав был. Нельзя боярам веру давать. Он поглядел на Михайлу. Тот сидел красный, запустив пальцы в спутанные волосы.
– Чего ж нам-то делать? – спросил Пятой Филатов. – Как мы с сей грамотой на Пермь поедем? Да нас там на сходе изобьют. Веры нам не дадут. Скажут – ляхам продались.
– Того не может статься, – возразил Карп Лукич, – тут своеручные подписи седми бояр. А по моему разумению, – прибавил Карп Лукич, немного помолчав значительно поглядев на пермичей, – вот бы как сделать: по первой грамоте, какая после вас получена была в Перми, послать выборных на Москву царя выбирать, а на Перми собирать ратных людей, чтоб по времени на Москву послать ляхов прогонять, и с иными городами о том ссылаться. А сию грамоту, что я чел, ровно бы и не получали. Никому про нее и не сказывать.
– Как же, Карп Лукич, – возразил Пятой Филатов, – нам ведь сия грамота под наш подпис дадена, с нас, стало быть, и взыск будет.
– До вас, до Перми Великой, покуда доберешься. Коли сомнение вас берет, вы с теми выборными на тот раз не приезжайте… Пущай иной кто едет. А я так полагаю, что долго тем седми боярам не процарствовать. Уж царя московский народ скинул, так неужто боярам поддается? Ты как полагаешь, Патрикей Назарыч?
Патрикей Назарыч уж давно с одобрением кивал на речи Карпа Лукича. «Ишь ведь как ловко пермичам присоветовал. Голова!» – думал он.
– Ведомо, не попустит народ московский ляхам поддаться, – уверенно проговорил он, поглядев на Михайлу. – Назавтра нам, посадским, собраться надобно и обо всем том совет держать.
* * *Вскоре после ухода пермичей услыхал раз Михайла из своего чулана, как в поварне бабы вдруг громко заговорили, заахали, и тотчас мужицкий голос незнакомый загудел. Горестно так незнакомый тот говорит, чуть что не плачет, и Мавра Никитична за ним ахает. Потом словно ушла она в горницу, а немного погодя сам Карп Лукич в поварню входит. Голос у него зычный – все слышно.
– Здорово, – говорит, – Наум. Неужто правда, Мавра сказывает?
…«Наум, – соображал Михайла. – Так это ж будто Козьмы Миныча старший приказчик. Аль нет?»
Что тот говорил, не разобрать было.
– Всех перебили, черти окаянные! – крикнул Карп Лукич.
Тут уж Михайла выскочил в поварню. Так и есть – Наум от Козьмы Миныча. Оборванный, встрепанный, словно его цепами молотили. Тулуп весь в крови. Лицо раздулось. На Михайлу он и не посмотрел.
– Ишь чортовы ляхи! Провалиться им в преисподнюю! – сердито сказал Карп Лукич. – И гурт угнали? Убыток-то какой!
Наум с отчаяньем махнул рукой.
– И как я Козьме Минычу на глаза покажусь? – проговорил он плачущим голосом. Три года, почитай, гуртов не посылали. То мордва, то черемиса, ровно волки голодные, круг Нижнего рыскали. Ноне, как тушинского воеводу Вяземского повесил о Рождестве Алябьев наш, поспокойней стало. Гадали мы – ноне можно.
Науму, видно, хотелось все высказать и, главное, перед собой оправдаться, что его вины тут не было.
– Охрану большую дал Козьма Миныч, – продолжал он. – Десять человек работных людей с пищалями. Правда, они к пищалям-то непривычны. Может, лучше бы топоры. А то, как наскочил на нас ляшский отряд – уж недалеко от Москвы, кричат чего-то, саблями машут, – наши кинулись было на них, пищалями словно дубинками отбиваются. Те, черти, живо пищали у них выбили, секут их саблями, а иные скот окружают и угнать ладят. Тут я как закричу: «Не давайте, братцы! Хозяйский ведь! Что хозяин с нами сделает!» Наши-то опять к скоту кинулись. Кабы разбежались все, может, и не стали бы гнаться, а как они с ляхами сцепились, так и порубили те их, дьяволы. Меня было тоже схватили двое, вязать хотели. Ну, меня силой бог не обидел, он расправил широкие плечи с вырванными почти напрочь рукавами, отшвырнул я их, а сам в канаву скатился. Тут старшой их чего-то крикнул, вроде, «казаки». Они нас-то побросали, окружили скот и погнали. Наум замолчал.
– Неужто всех до смерти убили? – спросил Карп Лукич.
– Почитай что всех, – горестно проговорил Наум. – Один-то, Семейка, живой был, рука лишь отсечена. Да больно кровь хлестала. С того, верно, и помер, как я ни бился, себя лишь окровянил. Двоих еще недосчитался, Прова да Надейки. Должно, убегли, как те напали лишь. Ну, а иные убитые лежали. Кто заколот, у кого голова рассечена, у кого и вовсе срублена. Ох! Как вспомнишь, сердце зайдется! А пуще всего – скотина! Полсотни голов! Ведь это какой убыток! Незадешево и куплены. Дорожатся поне все. Что только хозяин скажет? Как я ему на глаза покажусь?
– Что ж будешь делать? – заметил Карп Лукич. – Не твоя вина. Ишь нанесло дьяволов на наши головы. Мы тут тоже одни убытки терпим. И по всей Руси то ж. Покуда не выгоним их, не будет нам житья. При Василье Иваныче худо было, а как свели его, и того хуже. Удержу нет бесовым ляхам.
– Как ты скажешь, Карп Лукич? – заговорил Наум. – Может, мне до старшого ихнего торкнуться, чтоб мне за скотину уплатили?
Карп Лукич даже захохотал. Первый раз Михайла слышал, как он хохочет. Все брюхо заколыхалось, хоть и не сильно толст он был. Наум с удивленьем смотрел на него.
– Ну и насмешил ты, Наум, хоть видит бог, как мне тебя жаль. С кого ж ты требовать станешь? Аль они тебе расписку дали? На роже лишь расписались. Благодари бога, что сам-то жив, да уноси ноги. Ничего у нас тут хорошего не дождешься. И везде так. Доконают чортовы ляхи нашу Русь-матушку. Так и скажи Козьме Минычу.
Михайле сильно хотелось расспросить Наума про Нижний, да тот его не признал, а сам назваться не хотел он. Еще про Степку станет спрашивать, а он и не знает ничего. Потом уж падумал он, что и не знают они, верно, что он со Степкой встретился. Да и то, как знать, может, Невежка побывал, рассказал.
На другой день Наум домой собрался, хоть и уговаривал его Карп Лукич отдохнуть. Михайле, как он ушел, еще тоскливей стало. «И чего не ушел я с ним, – корил он себя. Чего я тут сижу, дожидаюсь? Карп Лукич ничего не говорит. Гибнет все, и никто не ведает, что делать и на кого надежду иметь».
VIII
Ничему Михайла больше не верил и ничего хорошего не ждал. Четыре года как он из дому ушел, а воля от него, да и от всех холопов, дальше прежнего. И еще ляхи проклятые на русскую землю кинулись и не сегодня завтра совсем ее растерзают. Уж и в Москву они захаживать стали. И не гнали их оттуда, точно не самые они лютые вороги. Михайле даже в город ходить не хотелось. Как увидит ляха, так бы и кинулся на него, а другие идут и ничего, точно так и надо. В лавки ляхи заходят, и купцы им товары продают, не чем взашеи гнать. Как это можно поганых ляхов в город пускать! А посадские – ничего, точно не их это дело.
Невмоготу стало Михайле смотреть на то. С утра уходил он со двора и норовил забраться подальше на пустынный берег Москвы-реки. Там он сидел часами и ни о чем не думал, глядя на реку. Тут она еще узкая была. Подальше, где в нее Яуза вливалась, пошире она становилась, а здесь, где он себе местечко облюбовал, вроде ихней Имжи.
Сначала просто он сидел, обхватив руками колени, а там как-то пришло ему в голову, что живет он у Карпа Лукича на хлебах, словно так и надо. Вот он и спросил раз у приказчика, нет ли у них во дворе удочки, он бы им, может, рыбки наловил, на уху хоть.
Приказчик Ферапонт с удивлением посмотрел на Михайлу, но ничего не сказал. Давно он диву давался, чего тот парень у них проживает и ни к какому делу его хозяин не приспособит. Но Карп Лукич не такой был человек, чтоб к нему с расспросами лезть. Велел ему жить, – стало быть, пусть живет. А когда Михайла обратился к нему с такой странной просьбой, он только головой покачал и пошел в сарай, где у него в уголке сложена была вся рыболовная снасть. Он и сам любил в воскресный день, когда время не сильно горячее было, побаловаться с удочкой. Ну, не в будни же. Но этого он Михайле тоже не сказал, а только вынес ему уду с лесой, ведерко, жестянку да еще указал, что у них за огородом, куда лишний навоз сваливают, можно червей накопать там их много.
Михайла поблагодарил, прошел за огород, накопал червей и, закинув уду за плечо, отправился на свое излюбленное место. Там он насадил червя на крючок, закинул уду и сел глядеть на поплавок.
Теплый день выдался, хоть и осень уж была – последние деньки. Но тут, где он сидел, ивняк разросся, солнце до него недоставало, да и от реки свежестью тянуло. А главное-ниоткуда его видно не было, хоть и так никто почитай сюда не заходил. Такое уж он насмотрел тихое местечко, словно ему прятаться от кого надо было. Хоть он, правду сказать, про Воротынского на ту пору начисто забыл. Чорт с ним со всем, что ни есть. Не хочет он ни про что думать, все одно ничего не придумаешь. Пусть они там как знают устраиваются. Кто «они» – он и сам бы не сказал, а только в большой обиде на кого-то он был.
Он и на Карпа Лукича сердился. Хотел он Михайлу гонцом посылать самое бы время, а он и не говорил с Михайлой ни о чем. Видел Михайла, что посадские ходят к ним в дом, о чем-то советуются, ляхов часто поминают, а Михайле ничего не говорят. Ну, не надобен он им, так он вязаться не станет. И то, какая от него польза? Вот будет, коли так, сидеть да рыбу ловить.
Раз как-то так он затосковал, сидя на берегу, что, сам того не замечая, засвистал горько да жалобно-того и гляди, слезами заплачет. Тут вдруг затрещали за его спиной кусты, точно продирается кто к нему. Лошадь заржала. Михайла вскочил, выронив уду, и ждал, кто это там ломится, ровно медведь. Но вот последние ветки расступились, и на Михайлу глянули из-под нависших бровей смеющиеся глаза, а длинные висячие усы раздвинулись, показывая крепкие желтоватые зубы.
– Так и е, Мыхайла! Чую, свищет кто-сь. Уж не наш ли, гадаю, Мыхайлушко? Та и впрямь вин. Ты чого ж тут робить? Рыбку ловить надумал? Не богато у тебе в ведерце. Та и уда-то, дывись, за сук зачепилась.
Михайла невольно глянул вниз, отцепил уду и закинул за плечо. Он с удовольствием посмотрел на Гаврилыча. Это, пожалуй, был единственный человек теперь, на кого он не злобился.
– А ты сам-то чего сюда заявился? – спросил он. – Ты ж, верно, в Калуге со своим царенком? И пошто не в папахе да не в свитке? Да и меня как разыскал? – прибавил он, с удивленьем глядя на русскую рубаху и гречневик, плохо державшийся на косматой гриве Гаврилыча.
Гаврилыч значительно подмигнул.
– Я ноне не простой чоловик. Я со справой до вас посылан, чтоб москалив от польского королевича отбивать и до нашего царя приворачивать. Эге! Чуешь? А тебе я и не шукав. Стал через Москву-реку переправляться, слышу будто как ты свищешь.
Михайла посмотрел на Гаврилыча, и ему сразу вспомнилось, как его Карп Лукич посылал с гонцами калужского вора спорить. Но спорить с Гаврилычем у него не было никакой охоты. Пускай себе своего вора нахваливает. Чай, тот не хуже королевича Владислава, а, может, и получше.
Гаврилыч, видимо, не слишком торопился выполнять свое поручение. Он снял гречневик, отер вспотевший лоб и с удовольствием уселся на бережок рядом с Михайлой. Вдруг он хлопнул себя по лбу, повернулся к Михайле и весело крикнул ему:
– А ты чуешь, кто к нам прийшов? А?
Михайла отрицательно покачал головой.
– Нэ чув? Та сокольничий твий.
– Степка? – оживившись, переспросил Михайла. – Да ну? Слава господу, а я уж думал, что сгиб он где ни то.
– Чого ж сгиб. Вин до Митрия Иваныча добрався, и тот ему знову билый жупан повелив пошить, и Степка за ним на пирах стоить. Тильки сокола у его немае.
– Молодец Степка, – задумчиво проговорил Михайла. «Чего хотел, того и добился», – подумал он про себя.
Гаврилыч с некоторым удивлением взглянул на Михайлу. Раньше он будто не так радовался, что Степка все к царю пролезает.
– Дуже задаеться, – прибавил Гаврилыч. – Та нехай соби. А у нас свое дило. Знаешь ты, Мыхайла, князя Голицына?
– Князя Голицына? – точно даже обиделся Михайла. – Никаких я князьев не ведаю, кроме Воротынского князя, да и того б лучше век не знать.
Гаврилыч стал объяснять Михайле, что Воротынский то одно, а Голицын вовсе другое. Воротынский полякам в ножки кланяется, а Голицына поляки рады б со света сжить, да не смеют: за него многие стоят. Дмитрий Иваныч, да и не так он сам, как казачий атаман Заруцкий, про то знает. Вот они и послали его к тому Голицыну, спросить его, не поможет ли он на Москве Дмитрию Иванычу.
– Да ведь Дмитрий Иваныч ваш только с ляхами и вожжался. Из их рук смотрел.
Гаврилыч рукой махнул.
– Экую старину помянул! Да коло его ноне почитай ни одного ляха немае. Живешь на Москве, а ни прочого и не чув.
Михайле сразу немного зазорно стало. Но тут же он подумал, что от Дмитрия тоже добра не жди, хоть и без ляхов он покуда. Но спорить с Гаврилычем ему все так же не хотелось. Пусть его. Сам увидает, что хрен редьки не слаще. Все они одним миром мазаны. Кто «они», Михайла не мог бы точно сказать. Ну, все, кто не за холопов.
Гаврилыч смотрел на Михайлу и не мог понять, что с ним сталось. То какой лихой вояка был, а теперь словно ему ни до чего дела нет. Рыбку удит.
– Э-а, Мыхайла… Забув ты, мабуть, Иван Исаича.
Михайла вскочил, точно его прижгли каленым железом. Глаза его сердито засверкали.
– Да где ж он, Иван Исаич! – крикнул он. Его ноне и на свете нет.
– То-то и оно, – проговорил Гаврилыч. – А знаешь ли ты, як вин жизню скинчав?
Михайла покачал головой. Он опять сел и обхватил колени руками, не глядя на Гаврилыча. Ему хотелось, чтоб тот замолчал, не бередил старое.
– Про те забувать на гоже, точно подслушав его мысли, – сказал Гаврилыч.
Михайла опять вздрогнул. «А ведь и правда», – подумал он.
А Гаврилыч тихим голосом рассказывал ему, что было с Болотниковым, когда он, поверив царскому слову, отдался Шуйскому, чтоб спасти Тулу. Царь его после того отправил пешком в железах в Каргополь, будто в заточенье. Так все и думали. А потом прознали, что с ним сталось. Зима тогда была.
Та самая зима, – подумал про себя Михайла, – когда он у Маланьи на печке лежал, и она не знала, чем его ублажить. А он, как и здоров стал, ни о чем не вспоминал, жил себе да жил в Дурасове, вот точь-в-точь как сейчас, только что не рыбку удил, а крестьянскую работу для Маланьи справлял да ел досыта.
А Гаврилыч продолжал рассказывать, как Болотникова били батожьем, стегали кнутом, чтоб он от Дмитрия Иваныча отрекся и Шуйскому крест поцеловал. Царю Василью большая бы выгода была, кабы такой мужицкий да казачий батька, как Болотников, Шуйскому передался. Тогда бы холопам и казакам не на кого больше надеяться было. Грозили Иван Исаичу скаредной смертью. Но он говорил: убейте меня, за мной другие пойдут, не сложат рук, покуда воли не добьются.
Михайла весь сжался, втянул голову в плечи. «Про меня это он, – подумалось ему. – А я-то!»
А Гаврилыч все говорил. Казак один из Тулы за Иван Исаичем следом в Каргополь пробрался, не мог Иван Исаича покинуть. Прятался, а следил за ним. И видел он, как – вовсе уж на ногах не стоял Иван Исаич – потащили его стрельцы на реку, проруби там пробили, саженях в двух одна от другой, последний раз спросили: «Отречешься от своего вора, поцелуешь крест Василью Иванычу?» Иван Исаич глаза зажал и головой затряс. Накинули ему петлю на шею, а веревку шестом пропихали от одной проруби к другой, поволокли его, столкнули под лед и почали от одной проруби к другой протаскивать. Вытащили – он уж весь льдом оброс. Тогда веревку обрезали, а его так подо льдом и покинули.
Михайла лежал ничком на земле. Гаврилыч замолча, а Михайла все лежал не шевелясь, и Гаврилыч не знал, что с ним. Неужто заснул или, может, плачет. Наконец он потряс его за плечо. Михайла поднялся. Волосы у него растрепались, глаза были сухие, но смотрели так, что Гаврилычу не по себе стало.
Михайла ведь и раньше знал, что Болотникова нет на свете. Он только не расспрашивал ни о чем и старался не думать, как все это случилось. А теперь он чувствовал, что после рассказа Гаврилыча не знать ему покоя. Стало быть, вновь волю добывать, как Иван Исаич наказывал? А как же? У кого она, эта самая воля, запрятана? С кого ее требовать? Он молчал, и Гаврилыч тоже не разговаривал, только смотрел на Михайлу.
Михайла отбросил волосы со лба.
– Так ты говоришь – Голицын князь не хочет Владиславу крест целовать? Ну что ж. Пойдем, коли так, к нему, – может, он научит, где ее искать.
Гаврилыч, широко раскрыв глаза, смотрел на него.
– Кого це ее? – спросил он.
– Да волю ж, – отмахнулся Михайла. – Дмитрий Иваныч тоже ж князь был, а Иван Исаич посылал к нему.
– Ото ж и оно, – произнес Гаврилыч. – А як з ляхами – не знаешь? Може, бояре им насовсим Москву продалы?
– Н-не знаю, – протянул Михайла. Стыдно ему стало, что ничего он толком не разузнал. Злился, что ляхи по Москве ходят, а в какую силу – так и не знал.