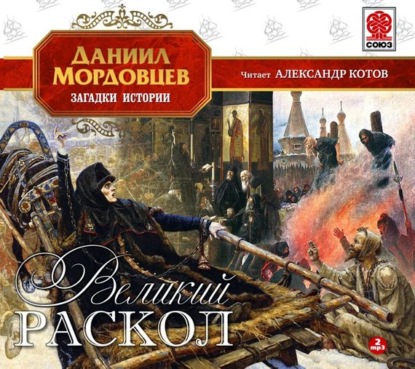Полная версия
Холоп-ополченец. Часть II
– Ну, так что же, коли ты до Михалки нужду имеешь, а князь тебя слушает, выпусти его на волю, и вся недолга.
– Нет, Патрикей Назарыч, то не гоже. Меня Михайла и слушать не станет…
Патрикей Назарыч усмехнулся.
– Наговорили ему чего ни то про меня, – продолжал Олуйка. – А вот ты, то дело иное. К тебе он с открытой душой, и коли ты ему что скажешь, он послушает.
Патрикей Назарыч неуверенно покачал головой.
– Вот кабы Карп Лукич, – проговорил он.
– Ну, что ж, и за тем дело не станет. Отведешь его к Карпу Лукичу, тот ему все как надо быть разъяснит. Так как, Патрикей Назарыч? Доставить тебе Михалку?
– Отчего ж, – протянул тот неуверенно. – Дай срок, Олуйка, я ноне с Карпом Лукичем побеседую. Обмозгуем мы все это, а ты, как завечереет, заходи, мы тут и решим.
– Ладно, – не очень охотно согласился Вдовкин. Ему нетерпелось поскорей все обделать. И вор калужский ему не с руки был, а главное – нюхом он чуял, что за такое дело с посадских можно будет на расходы малую толику сорвать. Люди они были тороватые. Но спорить с Патрикеем Назарычем и торопить его было неудобно. Потому он, не возражая, поклонился хозяину и степенно вышел за дверь.
В самой калитке он столкнулся со Степкой, возвращавшимся домой.
– А, сокольничий! – по обыкновению окликнул его Вдовкин. – Чего ж к царику своему не едешь? Он, слышно, на Москву ладит пробраться.
– И без его проживем, – сердито оборвал его Степка и быстро прошел в избу.
Патрикей Назарыч тоже собирался выходить и не стал расспрашивать Степку. Он не очень-то слушал, когда тот бахвалился.
– Ну, Степка, – сказал он мимоходом. – Надо полагать, вызволим мы Михалку.
– Это не Вдовкин ли, стервец, насулил? – спросил Степка, нахмурясь.
– А хоть бы и Вдовкин, – ответил Патрикей Назарыч, – он к самому князю вхож, не к повару его. Прощай покуда, у меня дело спешное.
Степка обиделся.
«Не спросит даже, я-то обладил чего аль нет, – подумал он. – Ну, и ладно, сам справлюсь, – решил он. – Олуйку ждать не стану. А только с казной-то как?» – вдруг вспомнил он.
– Патрикей Назарыч, – проговорил он нерешительно, сбежав с крыльца за Патрикеем. – Просьбишка у меня до тебя.
– Чего тебе? – с удивлением обернулся к нему Патрикей Назарыч.
– Да, вишь ты, должок тут у меня один завелся. Больно пристают, проходу нет. Михалке-то я про то и не сказывал, боялся – осерчает. А как ты дяденьку Козьму Миныча почитаешь, так, может, по ему и мне не откажешь.
Патрикей Назарыч остановился, окинул Степку строгим взглядом, как он еще не глядел на него раньше, и сказал, помолчав:
– Молод еще ты, Степка, займовать. Ну, сказывай, какой должок?
– Не так большой – шесть алтынов, – смущенно пробормотал Степка.
– В зернь, видно, промотал, – сказал Патрикей Назарыч, вынимая мошну. – Еще станешь играть – не дам. Так и знай. На Козьму Миныча нечего слаться. Знаю я его. Он бы на то и алтына не дал.
Патрикей Назарыч не очень охотно отсчитал пять алтынов и шесть денег.
– Мотри, боле не играй, – сказал он, подавая Степке деньги.
Степка молча взял, поклонился Патрикею Назарычу, вынул из-за пазухи тряпицу, завернул в нее казну и сунул обратно. Патрикей Назарыч, не глядя на Степку, быстро вышел за ворота.
V
Теперь для Степки вызволить Михайлу стало позарез надобно. Иначе Патрикею Назарычу хоть на глаза не кажись. Да и над Вдовкиным насмеяться сильно хотелось Степке. Придет, ан Михайлы-то и нет. Остаток дня Степка пробродил по городу. Как только стало смеркаться, он пошел к Тверским воротам и разыскал кабак Евстигнея Пудыча. В это время из-за угла как раз вывернулся, нескладно загребая правой рукой, Савёлка. Рядом с ним шагал лохматый парень в пестрядиной рубахе враспояску. «Да это никак тот самый Ванюха, кого в тот раз дворецкий посылал на передний двор выглядывать Михалку».
Степка достал из-за пазухи тряпицу с деньгами и дал ее Савёлке. Тот с удовольствием взвесил ее на ладони и сунул тоже за пазуху. Степка отошел и стал нетерпеливо прохаживаться, соображая, сколько времени понадобится Савёлке, чтоб подпоить Ванюху. Шесть алтын – деньги немалые. Но все же, должно быть, и не сильно большие. Только что издали раздался стук первого вечернего била, в которое ударял вышедший на караул ночной сторож, как дверь кабака завизжала, хлопнула и снизу показалась лохматая голова Ванюхи, а там и сам он поднялся паверх и весело зашагал в ту сторону, откуда пришел, утирая рукой рот и не оглядываясь на Савёлку.
Тот вышел следом за ними, завидев Степку, быстро подошел к нему и шепнул:
– Идем, Степан Дорофеич. Выпустит беспременно.
Савёлка провел его на зады усадьбы Воротынского и показал слабо державшееся в земле бревно. В этом месте снаружи тын густо зарос крапивой и репьем.
– Вот тут и дожидай, – сказал Савелка. Только лишь Ванюха выведет его с подполья, я его живо сюда предоставлю. А там уж твоя забота.
– Ладно, Савёлка, – сказал Степка, – коли выйдет Михалка, он тебе того век не забудет. Савёлка быстро юркнул в лазейку и стал неслышно пробираться меж амбаров и сараев. Степка сел на скат, ведший от усадьбы Воротынского прямо к Неглинной.
В усадьбе было тихо. В большом барском доме кое-где из щелей ставней пробивались узкие бледные полоски света, освещая то угол амбара, то ветки калины с красными кистями мелких ягод.
Вдруг по другую сторону усадьбы, там, где передние ворота, раздался стук, потом в затихшем дворе быстро зашаркали шаги, послышались какие-то переговоры, стукнул тяжелый засов и заскрипела створка ворот.
– Кому это быть? – с тревогой подумал Степка.
По двору застучали мелкие шаги, точно в обход дома, к заднему крыльцу. Это крыльцо было недалеко от лазейки, и Степка отчетливо слышал, как пришедший легко взбежал на ступени, тихонько постучал и, когда дверь изнутри приоткрылась, спросил заглушенным голосом:
– Не почивает еще князь?
Что ответили с той стороны, не слышно было, но дверь еще чуть-чуть приотворилась, и пришедший осторожно проскользнул в узкое отверстие.
Степка притиснул нос к щели в тыне, но больше ничего не было ни слышно, ни видно.
«Чего ж они там, копаются? – сердился Степка. – Верно, колодку не распилят».
Степка весь прижался к тыну, не замечая, что репей вцепился в его штаны, а крапива жжет ему руки. В усадьбе попрежнему было тихо. И вдруг громко завизжала какая-то тяжелая дверь, как будто на парадном крыльце, и звучный голос сказал:
– Мелентий, кто там у тебя беглого того сторожит?
– Ванюшка, – отвечал заспанный голос повара.
– Проведи вот Олуйку туда и сыми с того Михалки колодку.
Вслед за тем тяжелая дверь захлопнулась, и Степка весь замер.
«Перешиб, проклятый Олуйка, – решил он, – да и тех, Ванюшку с Савёлкой, застукают».
В эту самую минуту что-то зашуршало у самого уха Степки, бревно подалось, и из узкой лазейки высунулась голова Михалки, а следом пролез и весь он.
– Живо бежите! Еле ушли, – зашептал в щель Савёлка. – Мелентий туда пошел, – надо быть, проверять. С Ванюхи, ведомо, шкуру спустит.
– Спасибо, Савёлка, век не забуду, – прошептал Михайла, оборачиваясь.
Но Степка уже схватил Михалку за руку, и они чуть не кубарем скатились к берегу Неглинной.
Но куда же дальше? Об этом Степка ни разу и не подумал. Он с недоумением смотрел на оборванного, растрепанного Михайлу.
– Молодца, Степка, – проговорил тот. – В самое время ты. Наутро сто плетей посулился князь. Живым бы не встать.
Степка только хмыкнул. Он ни слова не сказал про то, что слышал сейчас, поджидая Михайлу. Может, и не прознает он, что князь его освободить надумал. Век будет Степке благодарствовать.
– Ну, идем, что ли, – сказал Степка. – Тут подале мост есть. Под им хоть всю ночь сиди, никто не сунется.
Вверху, в усадьбе князя, раздались голоса, крики, замелькали факелы.
Степка с Михайлой помчались вдоль берега. Крики стали замирать, но речка делала крутой поворот, и они неожиданно снова очутились под усадьбой князя.
– Стой, прошептал Михайла, подняв голову. – Тихо там вовсе, и огни потухли. Что за притча? Куда ж погоня девалась?
Степка промолчал. Про себя он соображал, что, может, как князю донесли, он приказал не наряжать погони.
– Верно, в обход усадьбы побегли, заметил Михайла. – Ну, где тут тот мост? До зари посидим, а там я к Карпу Лукичу проберусь. Он присоветует чего ни то: може, гонцом пошлет. А ты к Патрикей Назарычу ступай. – Степка, – нерешительно проговорил Михайла, когда они забились в густую заросль под мостом. – Тут к Патрикей Назарычу баба одна не захаживала – с мальчонкой? Приказывал я ей.
– Как же, – вызывающим голосом ответил Степка. – От ей и прознали. Муженька, сказывала, мово, свет Михайдушку, у Воротынского князя забрали.
Степка замолчал.
Молчал и Михайла.
– Так и сказывала: муженька, мол? – проговорил погодя Михайла негромким голосом.
– Да почитай что так и сказывала. Лучше б, сказывала, тот пес меня в клочья изорвал, не чем моего Михайлушку тронули. Мальчонка тоже все за тятькой кучился.
Михайла опять промолчал.
– А я было так полагал… – начал Степка, погодя.
Но Михайла не дал ему закончить. Он вскочил, вышел из заросли, поглядел на розовевшее небо на востоке и решительно сказал:
– Ну, спасибо, Степка. К Карпу Лукичу проберусь. Путь не ближний. А ты там у Патрикей Назарыча повести, – неопределенно прибавил он. – Захочет – придет.
– Ладно, – сказал Степка задорно. И женку с сынком приведет.
Степка сильно сердился на Михайлу, что тот не захотел ничего ему сказать.
Михайла не ответил и, кивнув Степке, зашагал в направлении Китай-города, держась поближе к домам и заборам. Степка несколько времени смотрел ему вслед. Как-то не так все вышло, как он надеялся. Все сошло хорошо, Михайлу он освободил, а почему-то не очень ему хотелось итти хвалиться к Патрикей Назарычу. Чуял он, что Патрикей Назарыч не сильно рад будет, коли с Олуйкой сговорился. И Савёлку с Ванюшкой он под плети подвел. И с Михайлой он на радостях рассорился. И зачем он сказал, что та баба муженьком Михайлу называла? Не было ж того. Первый раз, может быть, поставив на своем, Степка не пыжился от гордости.
А все-таки не миновать ему к Патрикею Назарычу итти. Или, может, не итти вовсе? Чего он там не видал? Патрикей Назарыч покрикивать стал, даром, что он Козьмы Миныча племяш. Вон шесть алтын ему пожалел, попрекать стал.
И вдруг ему ясно представилось, как он в белом парчовом кафтане с позументом стоит за стулом царя Дмитрия, а царица манит его ручкой и протягивает его соколу кусочки мяса. Вот это так жизнь была! И, наверно, в Калуге они так же весело живут. Нет, не вернется он к Патрикею Назарычу, – твердо решил Степка.
Михайла, не оглядываясь на Степку, быстро шагал к Китай-городу.
Просидел он у Воротынского не так долго, а злобы на него накопил еще больше, чем раньше. Что теперь делать, он и сам не знал. Чуял только, что надо и от ляхов избавиться, и вору калужскому не поддаться, и боярам руки укоротить. К Карпу Лукичу он торопился, надеясь, что тот, может, что-нибудь и надумал.
Дошел Михайла до Китай-города спокойно, погони за ним не было никакой. В доме у Карпа Лукича только что зашевелились, и работник как раз отворял ворота – ехать за водой на Москву-реку.
– Карп Лукич почивает еще? – спросил Михайла.
Работник не очень приветливо оглядел Михайлу, но все-таки сказал:
– Вставши. Да вон он сам на крыльцо выходит.
Карп Лукич, в одной рубахе, расправляя сбившуюся за ночь бороду и потягиваясь, сходил со ступеней, оглядывая хозяйским глазом двор и зашевелившихся в разных концах работников. Михайла шагнул во двор и сразу попался на глаза хозяину.
– А, Михалка, – сказал тот. – А что ж Патрикей Назарыч? Он сам сулился тебя привесть.
– Не был я еще у Патрикей Назарыча. Степка к ему пошел, а я прямо до тебя торопился, думал, – может, отошлешь меня куда, чтоб погоню на след не навести.
– Стой, Михалка, идем-ка лучше в избу. Там все скажешь.
– Пошто ж погоня? – спросил Карп Лукич, когда они сели на лавке в холодной половине избы, – Олуйка сказывал – добром тебя князь отпустит.
– Олуйка? – еще больше удивился Михайла. – Не видал я Олуйки.
– Кто ж тебя выпустил?
– Савёлка там у князя объявился, приятель мой давний, вот Степка с им и сговорился. Савёлка тот с парнем одним колодку мне распилили и вывели. А по-за тыном Степка поджидал. Карп Лукич во все глаза глядел на Михайлу, ничего не понимая.
В это время хлопнула калитка, заскрипели шаги по ступеням крыльца, и в горницу вошел Патрикей Назарыч. Увидев Михайлу, он всплеснул руками.
– Ты откуда? крикнул он. – Ни свет ни заря прибегал Олуйка, злой. Сказывал улетела, мол, птица. Пришел он по княжему слову выпускать тебя, а там, в подполье, одна колодка распиленная лежит. Как же это ты? Сам, что ли?
– Да тебе Степка не сказывал разве? – удивился вновь Михайла. – К тебе он пошел, как меня вызволил. А про Олуйку я и слыхом не слыхал.
– Так это, стало быть, все Степка состряпал! – вскричал Патрикей Назарыч. – Ну, погоди, надеру я ему ухи, как лишь воротится. Ишь своевольный пострел! Сказывал и ему про Олуйку, так нет, сам, вишь, надумал.
Но Патрикею Назарычу так и не пришлось надрать Степке уши. Больше тот в нему и не воротился.
– Ну да ладно, – продолжал Патрикей. Назарыч, – благо ты вышел. Пущай там Олуйка как знает с князем разбирается. У нас с тобой, Михалка, иной разговор. Да, допреж того сказать я хотел: бабка там тебя дожидает мальчонкой, больно по тебе убивается.
– То с Дурасова села, Маланья. Как я от Болотникова шел, трясовица меня злая схватила, – выходила она меня, Маланья. А я ей за то по хозяйству помог, как хозяина ее в ополченье забрали. А вот пошто сюда она прибрела, не ведаю я. Только лишь повстречал я ее, тут меня и схватили.
– Да там у их ляхи все село подчистую ограбили а старших ее сынов, сказывала она, волки задрали, как в лес со страху ударились.
– Ишь кручинная, – промолвил Михайла. – Помочь ей как ни то доведет я.
Патрикей Назарыч больше не расспрашивал.
– Ну-ка, Карп Лукич, – обратился он к хозяину, – обскажи ты Михайле, чего мы тут надумали. – Вот что, Михайла. Вора ты калужского, сказывал Патрикей Назарыч, знаешь?
– Как не знать? В Тушине еще нагляделся.
Карп Лукич сел на лавку, погладил бороду и внимательно поглядел на Михайлу. Парень ему нравился. Толковый, не озорной. С ним, может, и впрямь можно дело сделать.
– Сказывают, – начал он издалека, – Дмитрий тот, вот кого Болотников-то ждал, на Москву вновь ладит итти – Ваську выгонять.
– Ну его к лешему! – вскричал Михайла. – Ваську давно пора скинуть, а чтоб его… кукушку на ястреба сменять. Он одних ляхов за собой наведет – не продохнешь.
– Сказывают, он боле с казаками ноне, – раздумчиво проговорил Карп Лукич. – Ляхи-то от его вовсе де отступились.
– С казаками? – оживившись, переспросил Михайла. Но, подумав, он махнул рукой и прибавил: – То лишь чтоб до Москвы добраться. А там ляхи его вновь оседлают.
Карп Лукич одобрительно посмотрел на Михайлу и начал ему толковать, что от такого царя смута одна по земле пойдет.
Михайла кивал головой, но никак не мог взять в толк, зачем Карп Лукич ему это все говорит.
– Походи-ка ты, брат, по Москве, – продолжал Карп Лукич, – и где увидаешь, что какой ни то гонец подбивает черный народ стоять за калужского вора, ты и разъясняй, какая от его черному народу корысть.
– Аль меня послухают? – с сомненьем заметил Михайла.
– Почему не послухать, как ты сам его видал.
– Видать-то видал, – подтвердил Михайла.
– Ну вот. Попытай, Михайла. Время ноне такое. Всяк об русской земле радеть должен. Ну, а коли что с тобой, не дай бог, приключится, мы тебя не оставим, вызволим.
– Об том что говорить. Чай, по мне дети не плачут, – сказал Михайла. Но сейчас же, словно спохватившись, он повернулся к Патрикею Назарычу: – А ты ту Маланью пожалей, Патрикей Назарыч. Хоть хлеба кусок для ее мальчонки подавай ей, Христа ради.
– Об том не кручинься, Михайла. Пущай покуда живет. Лавки не пролежит. И хлеба кусок найдется.
На том и порешили. Про себя Михайла подумал: «Ишь ведь какой Патрикей Назарыч. Небось, Карп Лукич и не глянул бы на Маланью».
Когда Михайла, пообедав, выходил из дома Карпа Лукича, он чувствовал себя как-то по-особенному. Точно за плечами у него была какая-то важная ноша, и он должен был непременно донести ее. Он оглядывался по сторонам, прислушивался. Ему хотелось поскорей встретить какого-нибудь гонца от вора и испытать свои силы. Но никаких гонцов ему, как нарочно, не попадалось. Чем дальше он шел, тем оживленнее становилось на улицах, но сколько он ни вслушивался, ни слова про вора до него не долетало.
Так и пробродил Михайла весь день по Москве даром. Ни одного гонца от вора не встретил. С тем и вернулся он, как вечереть стало, к Карпу Лукичу. Рассказал ему, что народа везде на улицах много, но разговоры все больше про Ваську Шуйского, а про вора он ничего не слыхал. Карп Лукич как будто не удивился, но больше ничего Михайле не сказал.
Михайла хоть и много ходил по Москве, но знакомых у него там никого не было, и он редко с кем разговаривал. Оттого не знал он, что злоба против Шуйского после смерти Скопина все сильней разгоралась среди москвичей. Еще больше раздувал ее Прокопий Петрович Ляпунов. Он не мог простить Шуйским смерти Скопина и часто присылал на Москву брата своего Захара подговаривать москвичей скинуть Ваську Шуйского с престола. Черный народ давно готов был на это. Он одного Шуйского винил во всех своих бедах и в том, что заработков не было, и в том, что хлеб все дорожал, и что подвоз прекратился. Посадские тоже его винили, что с промыслами было плохо и торговля стала. А вот бояре, те разно думали. Кого он жаловал да награждал поместьями, те горой за него стояли. Многие не хотели свергать его потому, что как огня боялись калужского вора и опасались, что как только Шуйского сведут, так тот сразу явится и захватит Москву.
Против Шуйского были те, кто уже завел переговоры с поляками, чтоб посадить царем на Московское царство польского королевича Владислава, и те, кто сам метил захватить власть. Самым сильным противником Шуйского был князь Василий Голицын. Его и Ляпунов метил после смерти Скопина в московские цари. Князь Воротынский склонялся больше на сторону королевича Владислава. За поляков стояли также те русские, которых Дмитрий Иваныч еще в Тушине произвел в бояре или в служилые дворяне. Среди них больше всего хлопотали новопожалованный боярин Салтыков и думский дворянин Федор Андронов. Они все время сновали по Москве и кого посудами, кого взятками подговаривали стоять за Владислава. И находились-таки такие изменники.
Ничего этого Михайла не знал, а Карп Лукич не находил нужным ему объяснять. Он бродил по Москве, как по темному лесу. Сказал ему Карп Лукич, чтоб он искал гонцов от калужского вора, он и искал, а что, кроме того, в городе делается, он и не подозревал. Но с гонцами из Калуги ему не везло. То ли не приходили они в эти дни, то ли ему не попадались, только он возвращался каждый день ни с чем.
Раз, когда он утром вышел из дому, на улицах было особенно людно, и весь народ спешил в одну сторону – к Красной площади. Михайла побежал туда же. На площади было не протолкаться. На Лобном месте кто-то кричал, размахивая руками. Михайла подумал было, что это и есть гонец от вора. Ну, перед всем народом он никак не сможет с ним спорить. Но сразу же ему соседи сказали, что это Захар Ляпунов. «Ляпунов за вора говорить не станет», решил Михайла и, пробравшись поближе, стал слушать, что кричит Захар Ляпунов.
Захар кричал, что у брата его, у Прокопья, большая рать под Москвой, ляхов он нипочем не пустит, только бы москвичи Ваську скинули. От Шуйских все беды на Руси. Один у них был богу угодный – Скопин, так и того сами извели, злодеи.
– Извели, окаянные! – кричали в толпе. – С этаким царем и мы все пропадем! Чего на его глядеть! Кто за Ваську, тот всему народу ворог. Валим в Кремль, братцы!
Михайла диву дался. Неужто так скопом к царю все пойдут? Не пустят же их. Ведь царь же он. Аль так ему приступишь? У него, чай, бояре, стрельцы. Четыре года царем сидел. Тоже голыми руками его не возьмешь. Михайла думал, что кто-то соберет всех чин-чином и бояр, и посадских, и служилых людей. Он все то обсудят и приговорят – быть тому Ваське царем, али нет. Но собравшиеся о том, видно, и не помышляли. Они сразу же, толкаясь, побежали Спасским воротам. Но тут вышел на Лобное место патриарх Гермоген и стал уговаривать:
– Что вы замыслили, православные? Грех то! На царе ведь божья благодать почнет. Он миром мазан.
– Иного помажешь! – кричали из толпы. – Благодать! С этакой благодати в Москву-реку кинешься.
– Побойтесь бога, православные! Всякая власть от бога, – пытался перекричать толпу маленький сухонький Гермоген, надрывая старческий, дрожащий голос.
– Ну, коли всякая, так иного посадим, тоже от бога будет! – крикнул Захар Ляпунов. – Да чего его слушать, братцы! Валим в Кремль! – Он грубо оттолкнул Гермогена и, сбежав на площадь, кинулся сам к Спасским воротам.
Гермоген пытался еще что-то кричать, но его никто больше не слушал. Вся толпа хлынула в Спасские ворота. Оттуда уже неслись крики, бабий визг.
– Задавили, братцы! Не напирайте! Отпустите душеньку на покаяние! Ой, смерть моя!
Михайле за толпой не видно было патриарха, и не слышал он, что тот кричал. Он тоже торопился тискаться в ворота, и наконец чуть живой проскочил в Кремль.
Там вся площадь перед дворцом была черна от народа.
– А царь где? – слышались голоса. – Свели аль упирается?
– Бояре туда пошли. Уговаривают.
Двери во дворец были заперты, и что там делается, никто не знал.
Михайлу даже в пот ударило. Что-то будет сейчас? Вспомнилось ему, как Болотников на Москву наступал. А перед Московскими воротами сидел на коне весь в золоте этот самый царь. К нему скакали гонцы, и он слал стрельцов на Болотникова. Михайла ждал, что царь и сейчас махнет рукой и, откуда ни возьмись, на народ кинутся стрельцы и всех разгонят и перебьют. И не то чтоб сам Михайла боялся, – полез же он охотой в Кремль, а только обидно ему было, что так не путем такое важное дело начали. Шутка ли царя с престола свести!
Михайла не сводил глаз с Красного крыльца и ждал, что сейчас оттуда выйдет царь, весь в золоте, крикнет на народ и махнет стрельцам. И тут-то и начнется бой кто кого пересилит стрельцы или народ. Только вряд народ. Тогда с Болотниковым казаки пришли, да и мужики не с голыми руками – с топорами, с вилами, с цепами. И то стрельцы пересилили. А тут, сколько ни оглядывался Михайла, ни у кого и топорика не было.
Вдруг дверь на Красном крыльце распахнулась, и оттуда вышел ну да, тот самый царь, только вовсе не в золоте, а в таком самом кафтане, как все бояре носили. И нисколько не страшный. Шел он, видимо, не волей, упирался, а все-таки шел. И на народ не смотрел. Сам весь белый. Боялся, видно. Ну, такой, пожалуй, и не пошлет стрельцов. За руку его вел опять тот же Михайлин князь Воротынский. Всюду он! В другой руке у Воротынского был царский посох.
Как только в толпе увидали, что посох не у царя, поднялись крики:
– Отдал посох! Стало быть, не царь боле!
– Проваливай, Василий Иваныч! Поцарствовал! Будет!
– Сколь за тебя нашей кровушки пролилось!
– Голодом мало весь народ не поморил!
– Под лед спускал православных, окаянный! Креста на тебе нет!
Голоса становились все злей, толпа подступала ближе.
Шуйский со страхом оглядывался во все стороны. Еще немного, и в него полетели бы камни, но тут к крыльцу подъехала карета. Перепуганный, дрожащий царь залез в нее. Следом за ним с крыльца спустилась заплаканная царица, и через две минуты царская карета покатила из Кремля к дому бояр Шуйских, откуда четыре года назад торжественным поездом подъехал к дворцу вновь избранный царь.
Михайла стоял против крыльца и чего-то еще ждал. Не верилось ему, что так просто можно свести царя с престола. «Чего ж, коли так, давно его не скинули москвичи?» – думал он. Ему не приходило в голову, что Шуйский не сумел никого из сильных бояр привязать к себе и некому было поднять на защиту царя стрельцов. Оттого и свели его, словно напроказившего мальчишку.
VI
Когда под вечер Михайла вернулся к Карпу Лукичу, никто его и не спросил, спорил ли он с гонцами вора. Патрикей Назарыч, довольный и успокоенный, сидел тут же, весело потирая сухие ладошки.
– Ну, слава господу, полдела сделано. Ваську скинули. Бог даст, и беды наши с ним скинем. Михайла покачал головой. Спорить он не мог. Ведь и правда скинули ненавистного Ваську Шуйского, а все ему казалось, что не накрепко дело сделано, хоть объяснить, что тут неладно, он, конечно, не мог. Не понимал он того, что народ слепо скинул Шуйского, не думая, какая вместо него власть придет и лучше ли народу станет под той властью.