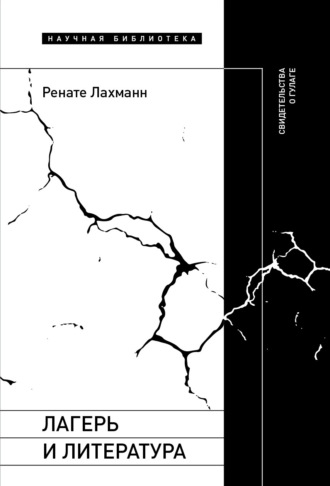
Полная версия
Лагерь и литература. Свидетельства о ГУЛАГе
Самому тебе, – говорил Заковский, – ничего не придется выдумывать. НКВД составит для тебя готовый конспект по каждому филиалу в отдельности, твое дело его заучить, хорошо запомнить все вопросы и ответы, которые могут задавать на суде. Дело это будет готовиться 4–5 месяцев, а то и полгода. Все это время будешь готовиться, чтобы не подвести следствие и себя. От хода и исхода суда будет зависеть дальнейшая твоя участь. Сдрейфишь и начнешь фальшивить – пеняй на себя. Выдержишь – сохранишь кочан (голову), кормить и одевать будем до смерти на казенный счет».
Из приведенной цитаты видно, что Хрущев настойчиво стремится дистанцироваться от описанных процедур в глазах слушателей. Его акцент на «социалистической законности» – несомненная попытка восстановить некое правовое сознание. Ни один из тех процессов не опирался на статьи Уголовного кодекса. Процессы проходили в правовом вакууме, где предъявленного врага народа могли бездоказательно обвинить в невероятных преступлениях и приговорить единственно путем всеобщего одобрения.
Доклад 1956 года не предотвратил новых прокатившихся по стране волн арестов по доносам и подозрениям211. Не прекратились и вымогательства признаний вины, приговоры к принудительным работам. В следственных изоляторах и лагерях обычным делом оставались расстрелы по обвинениям в шпионаже, агитации и подготовке покушений. Однако сам факт произнесения этой речи не только произвел сенсацию в коммунистическом мире, но и как бы возвестил о некоем повороте. Для лагерной литературы это стало началом, которое, впрочем, еще не означало публикации. Скорее можно сказать, что самиздат осознал свою неофициальную роль инстанции тиражирования и распространения212, а тамиздат – свою издательскую задачу за границей.
8. Дальнейшая история. Бескровная казнь: Ефим Эткинд, Иосиф Бродский
Итак, масштабные клеветнические кампании с фатальными для жертв последствиями по-прежнему оставались в советской повестке дня и затрагивали самые разные институции213. Университеты, например, могли обвинить своих же признанных, почитаемых, заслуженных сотрудников с учеными степенями в неких промахах («установленных» на высшем уровне). Жертвой такого процесса стал литературовед Ефим Эткинд, с 1952 года – профессор кафедры французского языка ленинградского Педагогического института им. Герцена. В изданных в Лондоне в 1977 году «Записках незаговорщика» (нем. пер.: «Бескровная казнь. Почему мне пришлось покинуть Советский Союз») он рассказывает о заседаниях совета института и совета факультета по его делу. Рассказ о пережитом он начинает с признания в том, что несет «соответственность» за события в родной стране, которым не помешал. Повторяя ахматовское выражение «черный стыд», он говорит о стыде за ложь, притворство и создание граничащего с самообманом иллюзорного мира, который называет «показухой». Он приводит множество примеров показухи – этой советской версии потемкинских деревень: например, полное преображение городского облика во время визитов иностранцев. Многократно подчеркивает он границу между «ими» и «нами», которую следовало соблюдать в любой ситуации, причем «они» воплощали власть, перед которой «мы» оставались беззащитными. Это разделение общества на две части переживалось как угроза.
Главным пунктом обвинения в его случае было предположение, что он владеет «клеветнически[ми] произведения[ми]» – в частности, рукописью солженицынского «Архипелага ГУЛАГ». (Так сказано в Записи заседания Ученого совета Ленинградского педагогического института им. Герцена 25 апреля 1974 года, где была зачитана справка КГБ с упоминанием контактов Ефима Эткинда с Солженицыным.) В ходе заседания коллеги называют Эткинда «двурушник[ом]», «антисоветчик[ом]», «идеологически[м] диверсант[ом]», «запятна[вшим] слово „герценовец“» и постановляют лишить его ученого звания профессора и занимаемой должности. Зафиксировавший это мероприятие документ («протокол») был опубликован по-русски и в переводе. Во Франции, отмечает Эткинд, коммунисты сочли его антисоветской фальшивкой.
Эткинд размышляет о причине, побудившей давних коллег осудить его. Он видит ее в страхе:
Страх сильней, – сильней всего: чести, совести, личных симпатий, порядочности, интеллигентности. Все это – свойства наносные, благоприобретенные, страх же – <…> животное чувство физиологического самосохранения214.
Этот поставленный Эткиндом диагноз – страх – позволяет понять симптомы нехватки гражданского мужества, отсутствия солидарности: страх как парализующий аффект, который, однако, выливается в риторику осуждения обвиняемого из собственных рядов, навлекшего на себя тень подозрения во «враждебности народу». Ярлык врага народа или врага Советского Союза создает дистанцию между обвинителями и обвиняемым; держаться от него подальше – вот рецепт выживания для тех, кого это пока не коснулось. (Повторявшийся, по-видимому, бессчетное число раз вербальный отказ от солидарности для многих действительно стал спасением – а оставленных в беде погубил.)
Тень подозрения, растущая подозрительность, а затем и уверенность, что в таком почтенном учреждении, как институт Герцена, терпели вредителя, чьи лекции «порочны», рождают каскады заученных фраз, которые свидетельствуют о негодовании и ужасе оратора, придавая ему, соответственно, статус законного защитника учреждения. Этот управляемый страхом театр фраз, выдающий себя за судебное разбирательство, разыгрывается перед глазами обвиняемого – или, как в случае заболевшего накануне заседания Эткинда, в его отсутствие. Расходясь по домам, действующие лица, вероятно, в душе раскаиваются или же злорадствуют по поводу заочной «казни» обвиняемого. Их самих это снова миновало. Описывая свою личную судьбу с отстраненно-аналитической точки зрения, Эткинд вместе с тем не скрывает горечи.
Риторическая «показуха» (обязательная в таких случаях) ставит всех участников подобных «судов» в том или ином учреждении в подневольное положение. Она подчинила себе даже самых доброжелательных, от которых Эткинд ожидал примирительного слова, разумного вопроса, отказа от навязываемого осуждения. Описанный процесс повторился на заседаниях других советов (обсуждалась технически сложная процедура снятия с него научных степеней и званий). Эткинд обильно цитирует дословно зафиксированные протоколом или стенограммой высказывания, перечисляя имена присоединившихся к кампании осуждения (и уничтожения) коллег, нередко с комментариями касательно научной несостоятельности некоторых из них. Рассказывая о пережитом, Эткинд стремился продемонстрировать как бы «параюридический» характер своего дела, слушание которого обошлось без формальных критериев, доказательств и защиты обвиняемого. Помимо страха, который он неоднократно упоминает в качестве психологического объяснения, ставя себя на место выступивших против него вопреки собственной совести коллег, он выделяет феномен извращения языка. Он узнает сохраняющийся языковой габитус, знакомый ему с 1949 года, когда он вступил в академическую жизнь. С точки зрения лексики и аргументации этот габитус почти не менялся вплоть до 1970‑х годов. Обвиняемый именовался врагом народа, предателем идеологии, а вредительская деятельность этого врага народа становилась предметом торжественного осуждения. Порядок обвинений и расстановка акцентов могли варьироваться: например, разложение молодежи, «методологические ошибки», «двурушничество» или, как особо подчеркивалось в его случае, общение с Солженицыным и покровительство Иосифу Бродскому, чьи стихи считались непристойными. Получив протокол заседания, Эткинд был особенно возмущен принижением его как преподавателя и исследователя, уничижительными отзывами о его семинарах и научных докладах, клеветническими наветами о его пагубном влиянии на студентов.
Устроенная в случае с Эткиндом «показуха» состояла в том, что высказанные теми, кому по долгу службы пришлось выступить, обвинения призваны были создать иллюзию обоснованности приговора, давно вынесенного во внутреннем порядке, то есть вышестоящей политической инстанцией. В своих записках он не раз пишет о власти языка, приспособленного для клеветнических целей, искажаемого ложью, которую (вынужденно) высказывают на этом языке.
Казнь Эткинда была бескровной. Грозившего ареста (которого опасались настоящие друзья) Эткинд избежал путем рискованного бегства за границу. В 1975 году он нашел возможность продолжить преподавательскую и исследовательскую деятельность в качестве германиста и компаративиста в Сорбонне и опубликовать мемуары, которые в России вышли в 2001 году215.
Бескровно завершились и громкие писательские процессы 1960–1970‑х годов. Судебная практика 1930‑х вернулась, но теперь публично обвиняли прежде всего писателей. В период Большого террора художников, писателей, театральных деятелей расстреливали без предъявления обвинений и публичных процессов, а для приговора к лагерным срокам, как это произошло с Солженицыным, Шаламовым, Гинзбург, Волковым и другими писателями, требовалась лишь видимость суда.
Бескровным был и процесс над Иосифом Бродским. Бродскому вменялось «тунеядство». После обвинений во враждебности народу, шпионаже, заговорщической деятельности этот обвинительный пункт явно был новым. Уличенный в тунеядстве подсудимый представал отщепенцем, который отказывается участвовать в строительстве социализма. Враждебность народу здесь переосмыслена как вредящее общему благу безделье. По форме процесс этот во многом подобен показательным процессам, поскольку тоже проходил публично (обвиняемого выставили напоказ) и имел черты сходства с уже упомянутым судом под председательством Вышинского. Тон здесь задавала судья, она же главный обвинитель. Ход процесса был тайно записан Фридой Вигдоровой и опубликован Эткиндом в его книге. На суде выступали защитники Бродского, одним из которых был Ефим Эткинд.
Что стояло на кону? Требовалось отстоять общественную полезность литературного труда (сочинения стихов и обширной переводческой работы) молодого человека, чей образ жизни считался недостойным (он не раз оказывался безработным; ни работа помощником прозектора в морге, ни участие в геологических экспедициях в Сибирь, где он, сам тогда еще ничем себя не скомпрометировавший, мог посетить гулаговские места, во внимание приняты не были), и опровергнуть упрек в том, что Бродский будто бы развращает советскую молодежь выраженным в его текстах вредным мировоззрением. Защитники Бродского столкнулись с насмешками обвинителей и гневными (подстроенными или спонтанными) выкриками из зала. Предпринятые Бродским попытки самозащиты (он настаивал, что с общественной точки зрения сочинение стихов всецело полезно) были пресечены.
Разбирательства эти, где против подсудимого в обычной манере выдвигались обнаруживающие бездну невежества обвинителей абсурдные аргументы, окончились приговором к пребыванию в психиатрической больнице (где его подвергли напоминающим пытки «процедурам») и пяти годам ссылки в Архангельскую область, где он смог поселиться в деревне. Там он занялся чтением и письмом – впоследствии он назовет это время «одним из лучших периодов моей жизни».
О процессе стало известно из распространявшейся в самиздате записи двух заседаний, сделанной Фридой Вигдоровой. Сам приговор явился одним из факторов создания в Советском Союзе правозащитного движения. Мировая пресса тоже сообщила о произошедшем. Состоялись акции за его освобождение, в которых участвовали известные писатели, композиторы и режиссеры. Решающую роль в освобождении Бродского из ссылки спустя полтора года сыграло, по-видимому, заступничество отрицателя ГУЛАГа Жан-Поля Сартра, который сумел воспользоваться своим авторитетом в Советском Союзе. Возобновление дела привело к лишению Бродского советского гражданства.
Были в 1960‑е годы и другие судебные процессы над писателями: прежде всего процесс над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем, на Западе тоже не оставшийся без внимания. Здесь речь шла не о тунеядстве. Активное участие Синявского в жизни академического сообщества было бесспорным: он преподавал русскую литературу. Поводом для ареста, возбужденного против них с Даниэлем дела и последующего приговора стали публикации в тамиздате под псевдонимами и вопиющее нарушение обоими действующей эстетической нормы. Иными словами, судили их не как врагов народа, тунеядцев, опасных для государства диверсантов, шпионов и т. д., а как попирателей литературных ценностей.
Примечательно, что ни Бродский, ни Синявский не пожелали написать о своем опыте лишения свободы. Неоакмеист Бродский в своей сокращенной ссылке вообще не получил никакого негативного опыта – гораздо хуже оказались для него психиатрические пытки. Неоавангардист Синявский отвергал изобразительные формы, отсылающие к реалистическим моделям. В сравнении с опытом Гинзбург, Штайнера, Шаламова, Солженицына пребывание Синявского в лагере, где ему пришлось физически трудиться, жить в бараке вместе с другими заключенными, скудно питаться, а дважды в месяц разрешалось написать жене, тоже отличалось менее строгим режимом (тем, кого это не коснулось, подобное оценить трудно). Но, по-видимому, не эта относительная мягкость лишений удержала его от создания «документа», который четко и ясно поведал бы о его жизни в заключении. В лагере он писал жене письма, из которых родился поэтически-философский роман. В отличие от оставленных лагерными хроникерами связных повествовательных текстов, это – волнующие афоризмы, чтение которых погружает в водоворот литературы, искусства, философии. Лагерные 1965–1971 годы позволили ему создать альтернативный мир, в котором что-нибудь из лагерной жизни проглядывает лишь изредка216.
III. В ЛАГЕРЕ
9. Опыт разлома
25 апреля 1930 года было основано Главное управление лагерей. Термин «ГУЛАГ», ставший благодаря Солженицыну общим понятием для разветвленной системы советских исправительно-трудовых лагерей (способным составить лингвистическую конкуренцию акрониму KZ [«кацет», от нем. Konzentrationslager. – Примеч. пер.])217, принадлежит к многочисленным сокращениям и акронимам, характерным для советского языка218. Арсений Рогинский отмечает: «Начиная с 1973 года, когда вышел „Архипелаг ГУЛАГ“ Александра Солженицына, слово это использовали уже не как аббревиатуру, но как полноценное имя собственное – Гулаг». По мнению Рогинского, это название – «таинственное и грозное сочетание звуков, как бы заимствованное из некоего гномического языка»219.
К этому лагерному акрониму присоединяется метафора «архипелаг»: образуя рифму с «ГУЛАГ», она подкрепляет обоснованность сочетания. Метафорическая сторона этого названия для Солженицына так же важна, как и «реальная», когда он говорит об «островах архипелага»220. Страна лагерей – островная: «Архипелаг этот чересполосицей иссек и испестрил другую, включающую, страну, он врезался в ее города, навис над ее улицами» (СА I 7). На картах, составленных историками, места лагерей отмечены точками, которые вслед за Солженицыным можно рассматривать как острова. Под таким углом зрения Воркута, Магадан, Пермь, Владивосток, Караганда, Тайшет, Норильск предстают инсулонимами. Кое-где на картах заметны скопления точек, напоминающие группы островов, а потом снова идут далеко разнесенные метки – отдаленные островки в Северо-Восточной Сибири. В этой всеобъемлющей системе, охватывающей рассредоточенные места лагерей, каждый лагерь – особое место, исключенное из общего пространства Советского Союза и в то же время «закапсулированное» внутри него. Присоединяемый к каждому сокращенному топониму компонент «лаг» указывает на какой-либо из таких островов: Норильлаг, Белбалтлаг, Котлаг, Степлаг, Сиблаг и т. д.
С учетом книги Антона Чехова о царской каторге на острове Сахалин и рассказов о лагере на Соловецких островах в Белом море солженицынское выражение может показаться метафорой, однако сосланные на Колыму пишут о «чувстве острова», как бы реализующем эту метафору. Упоминается тоска по «материку», тоска по Москве или другим родным местам. Плавание на пароходе через Охотское море из Владивостока в Магадан не только рождает впечатление, будто покидаешь большую землю, но и чувство, что прибываешь в место уединенное, обособленное, изолированное. Это относится и к Норильску. Карл Штайнер комментирует подготовку к пересылке заключенных:
Впервые кто-то произнес слово «материк». Норильск не является островом, но его огромная удаленность от «большой земли» и тот факт, что в Норильск можно попасть только по воде и по воздуху, создавали впечатление, что мы и в самом деле находимся на острове. В данном случае в расчет принимался не географический фактор, а человеческие чувства (ШК 338).
Авторы всех отчетов о годах лагерей на Колыме всегда говорят о материке, когда имеют в виду Россию. Земли своей тоски, куда стремится душа, оттуда можно было достигнуть лишь морем.
Те, кого этапировали по суше, тоже пишут о переживании непреодолимости пространственных расстояний, отделяющих лагерь от оставленного мира. И то и другое – и воды Охотского моря, и просторы Сибири – воспринимались как невероятно протяженное неструктурированное пространство. Во многих текстах описывается мучительное чувство дезориентации во времени и пространстве, которая появлялась в нередко длившихся неделями поездках на товарных поездах (откуда не видно было ни табличек на перронах, ни часов). Когда в заключении предстояло провести по меньшей мере пять, а чаще десять или пятнадцать лет, в местах, удаленных от места отправки (то есть ареста), нередко Москвы или Ленинграда, примерно на шесть тысяч километров, пространство и время приобретали иные измерения. Переживание времени в лагере тоже отличалось от привычного восприятия дня и ночи: время могло сжиматься (внезапно наступающие события), могло нестерпимо растягиваться в изоляторе или карцере – или в камере смертников, когда неизвестно было, сколько еще ждать расстрела. Идея бесконечно тянущегося времени преследовала всех, кто в заключении вынужденно сталкивался с непредсказуемостью временных отрезков. Откровенная «расточительность» обращения с лагерными сроками могла выражаться в том, что заключенный, который отбыл срок и мог рассчитывать на освобождение, повторно арестовывался и без указания причин снова приговаривался к пяти годам. О подобных пересмотрах срока заключения, жертвой каковых стал и он сам, сообщает Карл Штайнер. За решительный отказ сделать ложное признание ему добавили еще пять лет. По окончании лагерного срока следовал, как правило, период ссылки.
Исчезновение в этом островном мире кажется концом всего, что было прежде, расколом всей жизни на «до» и «после». В большинстве текстов этот опыт столкновения с альтернативным миром, где знакомый мир и его традиции утрачивают всякий вес, описывается как разлом, знаменующий начало чего-то невообразимого. Название монографии Франциски Тун-Хоэнштейн «Ломаные линии» (Gebrochene Linien)221 отсылает к одному образу Юрия Тынянова, помимо прочего содержащему идею внезапности и насильственности. Всем писавшим о лагерях важно было не только передать свой переломный опыт, но и попытаться постичь непостижимое при помощи концепции «разлома». Люди, переживавшие попадание в лагерь как разлом, чувствовали себя обязанными или возлагали на себя обязанность писать, стремились изобразить испытанное, а изобразить значило истолковать даже не поддающиеся логике события, парадоксы, нелепости, показываемые во всех лагерных текстах. Но едва ли существовала такая логика, которая позволила бы интерпретировать катастрофу или осознать утрату внезапно отнятой традиции. Единственным применимым к случившемуся понятием был разлом.
В записках тех, кто, будучи убежденными коммунистами, вытерпел пытки, принудительный труд и ссылку, попытки понять террор выглядят неуверенными, даже робкими, и лишенными четкой концепции. Опыт закончившейся беспрецедентными актами насилия истории, активными участниками которой они себя считали, шокировал. Общим местом становится возведение событий, вызвавших этот всплеск насилия, к единственному виновнику – Сталину. Идеологическая система в целом становится объектом внимания лишь постепенно, однако установить убедительные причинно-следственные связи так и не удается. Пострадавшие ставят вопрос о вине, включая собственную: может, они чего-то не заметили, чему-то содействовали и тем самым допустили этот разлом? (Этот вопрос особенно свойствен Евгении Гинзбург.) Или извращена была сама система? Указанная позиция характерна для таких некогда убежденных коммунистов, как Солженицын и Гинзбург, видевших переломный момент в разложении революционных идеалов. Но не для Олега Волкова, автора «Погружения во тьму» и соловецкого узника, для которого таким разломом явилась уже революция222. В глазах Волкова вышеназванные были своего рода соучастниками уничтожения русской культурной традиции.
В имеющих моральную окраску пассажах из некоторых текстов первопричиной всего происходящего в лагерях предстает «зло», заслоняющее собой критические подступы к идеологии. Виновником разлома, соответственно, выступает то же самое зло. Для верующих и многочисленных сектантов, о которых рассказывает в своей книге «Иван-дурак» Андрей Синявский, лагерные страдания – часть плана спасения и искупления, не требующего никаких исторических обоснований.
Охватывающая пространство и время метафора «разлома» стилистически отразилась и в «смыслоучреждающих» текстах о холокосте. Историк и философ Йосеф Йерушалми говорит о сбое, об историческом кризисе, который он называет «разрыв в передаче»223. Связь между культурным прошлым и настоящим прерывается в результате насильственного слома.
Во многих текстах очевидна попытка наладить связь между этим разломом и усвоенными механизмами несвободной жизни, в которую встраиваются структуры жизни оставленной. Многолетняя жизнь в ГУЛАГе заставляет стремиться к нормализации; вырванность из нормального хода вещей не переживается с той же интенсивностью изо дня в день. (Здесь надо учитывать разную продолжительность заключения в концлагере и в ГУЛАГе.) Наряду с этим – и вопреки этому – убедительно передается ощущение чего-то принципиально иного, опыт внезапно разверзшегося в истории провала, выпадения из истории.
10. Метаморфозы и изумление
Одновременность утопических проектов (см. гл. 5) и лагерной реальности создает впечатление двух параллельных миров. Во втором мире, мире принуждения, происходят процессы, не имевшие соответствий ни в одном из этих проектов: речь о драматических трансформациях всего привычного и прежде испытанного. Это – переживание «цивилизационного разлома», применимое и к концлагерному опыту Имре Кертеса, хотя в своих произведениях он изображает этот опыт совершенно иначе224.
Изображение во многих автобиографических текстах о ГУЛАГе и холокосте нравственных метаморфоз, которые происходили с узниками лагерей постепенно или внезапно, причем, как и перемены физические, как бы вопреки их воле, позволяет проникнуть в самую трудную часть их опыта, воссозданию которого посвящена такая литература. Трудна эта часть потому, что требует понимания и сочувствия, вместе с тем предполагая нечто жуткое, неожиданное, неведомое, препятствующее и тому и другому.
Уже арест переживается как «перепласт из одного состояния в другое». В самом начале «Архипелага ГУЛАГ» Солженицыну удается определить арест как не столько нечто произошедшее с ним с самим, сколько вообще как некую выходящую за рамки воображения цезуру, затронувшую всех тех, кто томится в тюрьмах и лагерях:
Вот что такое арест: это ослепляющая вспышка и удар, от которых настоящее разом сдвигается в прошедшее, а невозможное становится полноправным настоящим.
И всё. И ничего больше вы не способны усвоить ни в первый час, ни в первые даже сутки (СА I 22).
Превращение совершается почти мгновенно. В пункте 1 своих лагерных выводов «Что я видел и понял в лагере» Шаламов констатирует
чрезвычайную хрупкость человеческой культуры, цивилизации. Человек становился зверем через три недели – при тяжелой работе, холоде, голоде и побоях (Ш IV 625).
Изображаемые в лагерной литературе метаморфозы охватывают восприятие пространства и времени, влияют на поступки, чувства и язык заключенных. Юлий Марголин описывает этот процесс как всеобъемлющую деформацию:
В лагере были изуродованы все без исключения люди и все вещи. Те же самые слова русского языка, которые употреблялись на воле, в лагере значили что-то другое. В лагере говорят: человек-культура-дом-работа-радио-обед-котлета – но ни одно из этих слов не значит того, что на воле нормально обозначается этими словами.
Под страшным воздействием лагерных условий каждый человек подвергается деформации. Никто не сохраняет первоначальной формы. Трудность наблюдения в том, что сам наблюдатель тоже деформирован. Он тоже ненормален. Чтобы правильно оценить все происходящее, ему следовало бы прежде всего учесть собственную ненормальность. В лагере нет неповрежденных. Все – жертвы, все одели казенный бушлат не только на тело, но и на душу (М I 278).

