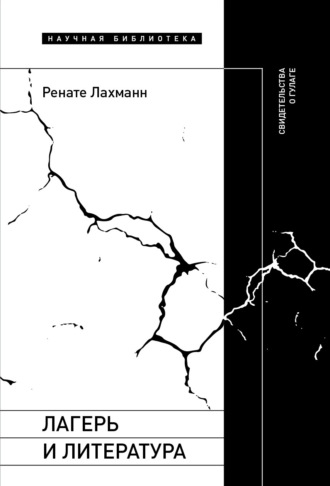
Полная версия
Лагерь и литература. Свидетельства о ГУЛАГе
С феноменом такого превращения – этим совершенно беспрецедентным опытом лагеря – автобиографические рассказчики обращаются по-разному: путем трезвого описания, глубокой рефлексии – или с ужасом, отвращением, безграничным изумлением. Точнее всего восприятие внезапных (или постепенных) метаморфоз описывается встречающимся в автобиографии Гинзбург словом «изумление». Франциска Тун-Хоэнштейн посвятила этому термину интерпретацию, также включающую понятие «ступора», остолбенения225. В книге Маргариты Бубер-Нойман «В заключении у Сталина и Гитлера» используется понятие «ошеломление» (Entgeisterung), означающее тот же феномен оцепенения, беспомощного удивления. «Изумление» Гинзбург и Entgeisterung Бубер-Нойман – родственные реакции, элемент Entgeisterung присутствует и в «изумлении»; оба описывают чувство внезапной неспособности осмыслить зрелище чего-то абсолютно чуждого: это род самозащиты перед лицом внезапного открытия. Все происходит как будто впервые. Нет никакой традиции, никакой повествовательной memoria, куда можно было бы встроить этот опыт, чему-то приписать его или как-либо уточнить.
Обе писательницы используют соответствующее понятие при виде чего-то неожиданного, пугающего, отталкивающего. Гинзбург сообщает, что не раз была «вынужденным свидетелем» оргий, которые устраивали уголовницы: испытанный шок опять-таки содержит в себе элемент изумления. Можно сказать, что все попадающее в поле зрения Гинзбург и Бубер-Нойман они видят вопреки своей воле. Возникающая у последней, когда ее приводят в помещение, битком набитое голыми женщинами, ассоциация с сумасшедшим домом позволяет расценить ошеломление (Entgeisterung) или шок как возможность на мгновение неправильно истолковать увиденное. Сумасшедший дом мог бы послужить объяснением творившегося в той комнате (по аналогии с несколько театральным представлением о запущенном приюте для душевнобольных).
Происходящее не укладывается в картину мира вновь прибывших. Оно вынуждает иначе воспринимать пространство, время, события, поступки, общение, людей, их поведение и внешний вид. Перед изумленными новичками открывается непостижимый мир, обретающий некие контуры лишь в описании. Изумление включает в себя смятение, даже оторопь. В аристотелевской риторике изумление, удивление, thaumazein, – один из психических импульсов, которые могут сопровождаться смятением, ekplexis (нем. Bestürzung). От того, что повергает их в смятение, оба автора пытаются отстраниться при помощи увеличиваемой наблюдательной дистанции, приема отталкивания, что позволяет им оценить происходящее во всей его странности и в конечном счете вернуть себе способность к суждению. Речь не о новом взгляде на что-то знакомое, давно привычное, а о наблюдении за тем, как в прежние представления о мире вторгается нечто чуждое, абсолютно неведомое226. Само изумление обретает, по признанию Гинзбург, некий положительный смысл для ее дальнейшего лагерного опыта:
Много разных чувств терзало меня за эти годы. Но основным, ведущим было чувство изумления. Неужели такое мыслимо? Неужели это все всерьез? Пожалуй, именно это изумление и помогло выйти живой. Я оказалась не только жертвой, но и наблюдателем (Г 9).
Это отстраненное изумление научило ее терпеть шокирующие явления, с которыми ей пришлось столкнуться в лагере. Сохранение дистанции и наблюдательная позиция сыграли решающую роль для анализа и изображения событий всеми пишущими. Другой изумленный наблюдатель, Марголин, прослеживает вызванные оторванностью от нормального порядка вещей изменения, включая нарушения восприятия:
В один зимний день, когда наша бригада возвращалась с работы, мы вдруг увидели, как летели где-то по боковой дороге санки, запряженные великолепной лошадью. Крутая шея лошади была красиво выгнута, хвост и грива летели по ветру, санки были небольшие, изящной работы, в них сидел тепло и по-европейски одетый человек. На нем было даже кашне.
И мы остолбенели. Нам казалось, это сон, галлюцинация. Человек, лошадь, санки – все выглядело так, как никогда не выглядят люди, животные и вещи в лагере. Мы отвыкли от вида нормальных вещей. Люди начали смеяться каким-то глупым смехом <…> (М I 277–278).
Недаром изображение таких метаморфоз этими «ошеломленными» наблюдательницами и хладнокровными наблюдателями напоминает о превращениях, описываемых в литературе фантастической: ведь никакая другая литература не рассказывает о метаморфических процессах с такой решимостью и полнотой и не предлагает человеческие образы, чья семантика была бы сопоставима с той, которую несет в себе для новичков непостижимая уму инаковость лагеря. «Другими» стали охранники и заключенные: преступниками и жертвами. Их превращение совершилось не по волшебству, как в сказке, а следовательно, не существует и никакого обратного волшебства, способного избавить их от мучительного ложного обличья. Их поразили не чары, а сокрушительное проклятие судьбы. (Это справедливо и в отношении некоторых охранников и надзирателей, см. «Дневник» Ивана Чистякова.) Авторы всех лагерных текстов ропщут на судьбу, задаваясь вопросом о причине абсурдных обвинений и приговора, обрекших их на жизнь в круто переменившихся условиях. Превращения опять-таки напоминают о фантастике, о волшебных сказках: там метаморфозы вызваны самими героями или же наложены другими силами (колдунами, демонами, магами) в наказание или в награду, причем превращение нередко чередуется с обратным превращением; в этом и заключается чудесное. Речь о пересечении границ, которое затрагивает онтологический порядок и проявляет в том, с кем произошло превращение, элемент ужасного, жуткого, вытекающий из превращения человека в демоническое существо или животное.
Особенно актуальны сравнения с фантастической литературой при чтении тех текстов, в которых пораженные ужасом наблюдатели, пытаясь доходчиво описать процесс превращения, ставят вопрос о сути человечности. Привычные человеческие образы словно бы постепенно блекнут. В мифографических и фантастических текстах событие метаморфозы, это вмешательство, меняющее человека или вещь, носит характер некоего насилия, означает перелом, переход на другой уровень. Напуганные, растерянные узники лагерей сталкиваются с исчезновением человеческого начала. Вынужденно наблюдаемая с момента ареста и особенно в лагере трансформация людей, то есть их личностей, рождает антропологические вопросы. Насколько сильно затрагиваются превращением «фюзис» и «псюхе»? Когда человек перестает быть человеком, что такое расчеловечение? Здесь уместно сослаться на соответствующие статьи из «Теологического словаря Нового Завета» (Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, ThWNT), посвященные вопросу о том, происходит ли только временное изменение внешнего образа – или же бесповоротное и окончательное изменение образа внутреннего. В этом словаре проводится различие между schema и morphe, где schema означает внешние признаки, а morphe – сущность.
Из личного опыта наблюдения таких трансформаций возникают оценки, которые распространяются и на самих оценивающих: «это уже не человек», «расчеловечение», «утрата себя». Понятия, принадлежащие к общепринятому описательному вокабуляру (ничего другого язык не предлагает), в то же время сгущаются в топос, поскольку об этих превращениях рассказывается во всех лагерных текстах. Марголин назвал одну из глав своей книги «Расчеловечение». Вот как он описывает этот процесс в той части лагерной системы, куда попал он сам: «Зимой 40–41 года расчеловечили тысячу человек на 48 квадрате» (М I 69). Превращение в «дрожащую тварь» происходит не только вследствие голода, угроз со стороны «озверевших» солагерников и непосильного труда, но и «по линии обезличения» (М I 79).
Герлинг-Грудзинский рассматривает превращение (przeobrażenie) как дисциплинарную меру, направленную скорее на эксплуатацию, чем на наказание заключенных, то есть как посягательство на целостность личности, присущую заключенным до попадания в лагерный мир; добытые принуждением подписи под сфабрикованными признаниями вины он тоже считает расчетливой стратегией, служащей тотальному разложению индивидуальности. В ходе напоминающего пытку вымогательства признания «преступника» следовало «сломить»227. Не все покорялись сразу. Но долгим сопротивление быть не могло. Так, Марголин сообщает о первоначальном протесте группы интеллигентов (которых он называет «западниками» и четко отличает от советских узников), выражавшемся в «церемонны[х] форм[ах] вежливости» (использовании ученых званий), при помощи которых эти одетые в лохмотья люди, невзирая на изнеможение от работы, приветствовали друг друга, и впоследствии все-таки сошедшем на нет. Он наблюдает, как исчезают последние крупицы общей культуры:
Европейская культура, идеи, которым мы отдали свою жизнь, люди, которых мы любили <…> – весь этот мир, где мы были полноценными и гордыми людьми – все было сном, все только привиделось нам (М I 79).
И далее:
Чувство собственного достоинства – этот хрупкий и поздний плод европейской культуры – вытравляется из лагерника и растаптывается еще до того, как его привезли в лагерь. Невозможно сохранить чувство собственного достоинства человеку, над которым совершено циничное и грубое насилие и который не находит оправдания своим страданиям даже в той мысли, что они – заслуженная им кара (М I 82).
Унижения начинаются в пересыльных вагонах, куда, как сообщают многие (Бубер-Нойман, Солженицын, Штайнер), бросали селедку, не давая воды. Из рассказов можно заключить, что не только голод и жажда, но и все жизненные функции – сон, пищеварение – сопровождались унижением достоинства.
Кроме того, обезличение подразумевало, что если в прошлой жизни заключенный был ученым, врачом, инженером, адвокатом, художником, то отныне этот факт не играл никакой роли; прежняя профессия, знания, умения, таланты, интеллект не могли пригодиться ему при выполнении работ, для которых он не обладал ни достаточной физической силой, ни навыками. Превосходящие его в этом отношении солагерники использовали каждую слабость как повод для унижений, зачастую жестоких. Унижение ведет к следующей ступени расчеловечения – ненависти к себе. Марголин пишет: «Настает момент, когда человек ненавидит себя, ненавидит все, что составляет его сущность и что он действительно умеет» (М I 83). Прогрессирующую утрату себя как личности Марголин прослеживает не только на своем примере, но и включает сюда солагерников, за которыми все это время внимательно наблюдал. Его устремленный на них взгляд всегда сохраняет дистанцию.
Гинзбург подчас тоже смотрит на солагерниц без эмпатии, особенно когда пишет о совсем опустившихся, готовых пойти «на дно». Например, об одной женщине – «научн[ом] работник[е], врач[е]», которая «сама забыла себя, прежнюю». Эта холодная констатация проистекает из воли к жизни, желания защититься от столкновения с крайностью (с теми, кто уже стал добычей распада). В противовес этому Гинзбург подчеркивает поступок одной из заключенных, которым та сохранила свое человеческое достоинство:
Прямо над высоким стеллажом <…> свисало с потолка что-то длинное и тонкое. Полина Мельникова! <…> Бывшая женщина. Бывший человек. Нет, уж если кто тут бывший человек, так не она, утвердившая свое право человека таким поступком <…> (Г 471–472).
К состоянию «бывшего человека» приводят физическое и психическое самонебрежение, готовность погибнуть без борьбы. На лагерном жаргоне достигший такого состояния именуется «доходягой». Гинзбург (в целом избегающая лагерного жаргона) тоже использует это выражение, которое служит ключевым термином при описании деградации других заключенных. Глагол «доходить» означает «доходить до границы, достигать крайней точки». «Доходяга» демонстрирует другим заключенным стадию превращения в «нечеловека», которая неотвратимо, неоспоримо, наглядно предвещает скорую гибель; это – предельное состояние лагерника.
Русское слово «доходяга»228, в немецких переводах лагерной литературы передаваемое как Siechling, Krepierling, Abkratzer, принадлежит к тому же семантическому полю, что используемое в текстах о холокосте слово Muselmann (которым обозначали сильно изможденного узника, буквально «мусульманин»). Описания этого «феномена» в текстах о ГУЛАГе и холокосте кажутся почти идентичными. Изображая человека, который приближается к бездне, Марголин и Штайнер229 затрагивают те же два аспекта, что и Примо Леви в книге «Человек ли это?»: психический и физический. «Сохранный» человек превращается в развалину, чей физический распад вызван неспособностью адаптироваться, угасшей волей к жизни, то есть психической слабостью. Тексты о ГУЛАГе и холокосте используют здесь одинаковую метафорику «достижения дна». «Доходяга» и «мусульманин» опускаются, гибнут не только с точки зрения «схемы», но и с точки зрения «морфа», внутренней сути.
Интерпретируя тексты Леви об Освенциме, Джорджо Агамбен превращает феномен «мусульманина» в антропологическую концепцию, не имеющую параллелей в обсуждении текстов о ГУЛАГе. «Мусульманин» бесповоротно обречен на гибель; стадии распада, через которые он проходит, исключают его из мира тех, кто пока еще человек. Внешний вид «мусульманина» вынуждает отводить глаза: он утратил всякое сходство с тем, что некогда было человеком. Эта непохожесть делает его для всех чужим и мешает относиться к нему с сочувствием. Ему уже нельзя помочь, он «живет, оставив всякую надежду на помощь». К виду гор трупов заключенные привыкли, замечает Агамбен, «однако вид мусульманина – это нечто абсолютно новое и невыносимое для человеческого глаза»230. Сюда примыкает танатологический тезис: смерть «мусульман» лишена достоинства, их кончина унижает саму смерть. Агамбен цитирует «наиболее точную и вместе с тем наиболее ужасную формулировку», найденную Леви: «трудно назвать смертью их смерть» (Л I 108).
Герлинг-Грудзинский, для обозначения этого феномена также предлагающий слово «угасание» (dogorywanie) (ГГ 221), замечает, что возвращение к жизни возможно – впрочем, лишь «теоретически». Его рассказ о гибели одного такого «угасающего» не оставляет сомнений в том, что «живые трупы» в советских лагерях ничем не отличались от узников концлагерей. Герлинг-Грудзинский описывает «угасание» в «мертвецкой» (trupiarnia), куда помещают всех обессилевших, обреченных смерти, превратившихся в скелеты. Их называют barachło, śmiecie – «барахло, ошметки» (ГГ 222), к ним не испытывают сострадания. Смерть доходяги тоже лишена достоинства. Марголин не использует это слово, однако изображает людей, к которым оно применимо:
Надо было очень близко подойти к ним, чтобы почувствовать трупный запах. В действительности это были глубоко несчастные, безнадежно-порченые люди. Но порча их вся вошла вовнутрь. Из них как будто выжгли способность нормального человеческого самоощущения. Вынули из них веру в человека, в логику и разумный порядок мира (М I 289).
Марголин подчеркивает душевно-нравственную сторону феномена «порчи», причем под «порчеными» подразумеваются те, кто окончательно утратил веру в коммунизм. Тем самым он также указывает на один специфический для «достижения дна» мотив. Если в других рассказах всепожирающий голод рассматривается как главная причина физического и морально-психического упадка человека (который мог начать воровать хлеб), то Марголин указывает еще и на срыв вследствие потрясения от неслыханного предательства (предательства идеи коммунизма): «<…> от них несло гнилью, ядом разложения». И далее:
Все отравлено до степени предельного самонеуважения Разума. «Гуманность» – это почти бранное слово у тех несчастных. Кто-то им плюнул в душу – и плевок этот навеки остался лежать там (М I 291).
Шаламов описывает процесс, неотвратимо оканчивающийся стадией доходяги:
В лагере для того, чтобы здоровый молодой человек, начав свою карьеру в золотом забое на чистом зимнем воздухе, превратился в доходягу, нужен срок по меньшей мере от двадцати до тридцати дней при шестнадцатичасовом рабочем дне, без выходных, при систематическом голоде, рваной одежде и ночевке в шестидесятиградусный мороз в дырявой брезентовой палатке, побоях десятников, старост из блатарей, конвоя. Эти сроки многократно проверены (Ш I 125).
Вспоминая о состояниях in extremis, в некоторых рассказах Шаламов (он попадает в больницу практически при смерти) называет доходягой и самого себя, показывая свое стремление все-таки выстоять, свой протест против распада, против смертельно опасной стадии угасания как неотъемлемую часть истории собственного выживания.
В таких текстах он «открывает» этот процесс читателям устами рассказчика от первого лица. Аспект выживания подчеркивает Вольфганг Штефан Киссель, описывая эту «пока еще жизнь» как «vita minima», то есть неполное «достижение дна», «состояния пока еще жизни, стадии стирания, предельные формы на волоске от исчезновения»231. Сопоставимые с определением «мусульманина» у Леви описания доходяги Марголиным и Герлинг-Грудзинским, с одной стороны, и подтолкнувший Кисселя к процитированному определению акцент Шаламова на собственном превращении в доходягу (и выпадении из бытия) – с другой побуждают рассматривать не столько сами эти состояния, сколько специфику соответствующих обозначений: характеристика «мусульманин» превращает этих угасающих, истощенных, отупевших, физически и психически опустившихся людей в чужаков, в чужих по облику и поведению, в «других» вообще, от которых все отворачиваются. Русское слово «доходяга»232, напротив, в конечном счете не исторгает стоящих у края бездны из языка – это, пожалуй, и позволяет Шаламову назвать себя доходягой233, а соответствующий личный опыт сделать краеугольным камнем описания своего пребывания на грани смерти. Наряду с этим применимым к Шаламову аспектом следует иметь в виду и еще один: нечто отталкивающее, отвратительное, жалкое, безнадежное, к чему никто не хочет приближаться, в сочетании с угрозой пересечения границы между жизнью и смертью. В рассказах узников концлагерей, которые цитируют в сборнике «На грани жизни и смерти: Исследование феномена „мусульманина“ в концлагере» Здзислав Рын и Станислав Клодзинский234, помимо тотального распада, грязи, мерзости описывается и эта промежуточная стадия, о которой сообщают Шаламов, Марголин и Герлинг-Грудзинский. Солженицын в «интервью доходяги» безжалостно подчеркивает аспект утраты достоинства:
<…> как доходяги, ревниво косясь на соперников, дежурят у кухонного крыльца, ожидая, когда понесут отходы в помойку. Как они бросаются, дерутся, ищут рыбью голову, кость, овощные очистки. И как один доходяга гибнет в этой свалке убитый. И как потом эти отбросы они моют, варят и едят (СА II 167).
Примо Леви – в определенном смысле отклоняясь от интерпретации Агамбена – сам указал на параллели между соответствующими явлениями в немецких и советских лагерях в «Канувших и спасенных»:
Что касается архипелага немецких лагерей, там возник свой специфический язык, лагерный жаргон, родственный языку прусской казармы и эсэсовскому новоязу, но имеющий в каждом лагере свои индивидуальные отличия. Ничего удивительного, что в советских трудовых лагерях также существовал жаргон, многие слова и выражения которого приводит Солженицын. Каждое из них сопоставимо со словами и выражениями, обозначающими те же понятия в немецком лагерном жаргоне, поэтому перевод «Архипелага ГУЛАГ» не должен был представлять особых трудностей, во всяком случае, с терминологической точки зрения.
Общим для всех лагерей был термин «Muselmann» («мусульманин»), которым называли окончательно ослабевшего, обреченного на смерть заключенного. Существуют два объяснения этого термина, причем оба не слишком убедительные: фатализм и намотанное на голову тряпье, напоминающее тюрбан. Этому определению полностью соответствует столь же безжалостно-ироничный русский термин «доходяга» («дошедший до конца, конченный») (Л III 81).
Это замечание Леви и цитаты Рына и Клодзинского могли бы помочь преодолеть нежелание отождествлять «мусульманина» с «доходягой».
В некоторых текстах также рассказывается о попытках воспротивиться деградации, избежать ее раз и навсегда. Самоубийство, о котором пишет Гинзбург, в ее трактовке предстает протестом против унижения и бесчестья, противодействием угасанию. Аналогичную интерпретацию допускает изображение одного «эффектного» самоубийства у Штайнера: прыжок в котел с кипящим шлаком избавляет пойманного беглого заключенного (от него остается лишь дым) от дальнейшей жизни в лагере. Рассказывает Штайнер и о героической смерти некоторых солагерников, шедших на расстрел с гордо поднятой головой. Сам он принадлежит к числу тех, кто, отказавшись подписывать абсурдные признания вины, попытался остаться самим собой.
Однако превращение человека в «нечеловека» (Unmensch; выражение это, пожалуй, встречается только в немецком) распространяется и на тех, кто, будучи лишенными всяких нравственных понятий, обнаруживают крайнюю жестокость и самую низкую подлость, ведут себя как «витальные» чудовища. Я имею в виду уголовников, которые в лагере отнюдь не угасали, наоборот – олицетворяли силу и волю к жизни. «Нечеловеки» у Гинзбург – развязные уголовницы, ни в коем случае не принадлежащие к доходягам: они дерзко стремятся выжить, действуя решительно и жестоко (некоторые, впрочем, цинично празднуют собственное падение). Для Солженицына уголовники тоже уже не люди: в их физиогномике, движениях, языке он видит искажение, даже отрицание человеческого. Бубер-Нойман в книге «Милена»235 с ужасом описывает внезапное превращение «невинного» человека в поистине «злого»: одна из арестанток, получив должность надзирательницы, приступает к исполнению своих обязанностей с беспримерной жестокостью.
Нечеловеческое, таким образом, имеет двоякий смысл: неспособность оставаться человеком вследствие пережитых унижений, подчинения в результате пыток, утраты жизненных сил – и «дегенеративность», обозначаемая как нечто звериное. Леви воспринимает преступников (палачей, которые казнят и пытают) как «животных». В сборнике рассказов Тадеуша Боровского об Освенциме «Каменный мир»236 животными становятся и преступники, и жертвы. Наблюдает он признаки этого озверения и в одном процессе, в котором участвует сам: голодные и продрогшие заключенные, отправленные лагерным начальством убирать трупы, ненавидят жертв (каковыми в любой момент могут стать сами) за то, что те доставляют им невыразимые трудности. Уборку трупов они воспринимают как труд скорее физический, чем моральный. Эта ни с чем не сравнимая «работа», требующая непомерных телесных усилий, превращаются их в не-людей, которые не столько само это занятие воспринимают как постылое бремя, сколько тот факт, что оно заставляет их выбиваться из сил. Уборка трупов – Knochenarbeit [«непосильная работа», буквально «костяная». – Примеч. пер.] в двойном смысле. В 2002 году на вручении Нобелевской премии в Стокгольме Кертес сказал, что для него проза Боровского стала ключом к пониманию «расчеловечения».
Однако узнаем мы из этих текстов и о другом: о людях, которые остались людьми, о стратегиях поведения и поступках, чей положительный смысл раскрылся лишь под угрозой тотальной трансформации привычной жизни, об отбывающих многолетние сроки заключенных, которые, невзирая на пытки, голод, холод, унижения – или как раз благодаря им – испытали некий катарсис. О превращениях, переживаемых людьми в лагере с радостью: как внезапное проникновение в суть того, чего они раньше не понимали или понимали превратно. К семантике превращения в этом позитивном изводе принадлежит и религиозное обращение. В подобных историях подразумеваемый при таком «перевороте» переход из ложной веры в истинную связывается с неким «событием» наподобие молниеносного озарения, благодатного вдохновения или мистического прозрения, следствие которого – полное преображение человека, которого оно посетило. Главу книги Гинзбург под названием «Mea culpa», которой посвящает убедительную интерпретацию Франциска Тун-Хоэнштейн, можно рассматривать как описание обращения. В ней Гинзбург отрекается от коммунистической идеологии и признается в том, что чувствует и свою вину, поскольку разделяла мышление, повлекшее за собой те ужасы, которые она теперь познала. Ее термин «озарения» следует трактовать как мистическое просветление. (И он придает этой исповеди католического типа элемент внезапного, молниеносного переживания, почти метафизическую ноту – хотя по сути речь о перемене образа мыслей.)
Андрей Синявский в книге «Иван-дурак»237 рассказывает о сектантах и православных, которые внутренне противились моральному разложению, утрате личности, отказу от нравственного «я» и, не изменяя своей вере, явно успешнее других справлялись с лагерным бытом. Одну из глав своего отчета о Равенсбрюке Бубер-Нойман посвящает исследовательницам Библии, которые со всей возможной решительностью противостоят грозящим изменениям. И, подобно Гинзбург, она рассказывает о людях, которые совершенно, казалось бы, неожиданно вдруг проявляли самоотверженность, самоотречение, даже жертвовали собой ради более слабых. Именно такие случаи подтверждают в глазах Тодорова его антропологический тезис о сохраняющихся несмотря ни на что «добродетелях»238.

