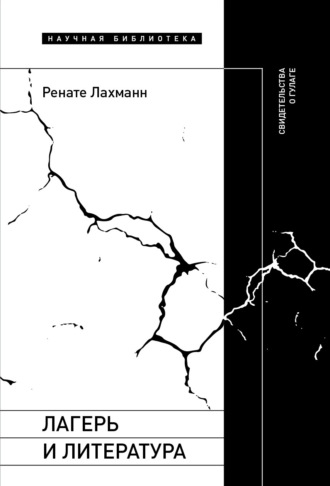
Полная версия
Лагерь и литература. Свидетельства о ГУЛАГе
Но подлинными местами травмы такие тексты становятся для выживших, которые приняли решение писать. Не важно, смогли ли они взяться за перо непосредственно в месте страданий (это мало кому удавалось) или только после освобождения из лагеря (нередко после длительного срока), – написанное в любом случае проникнуто личным опытом авторов и сопричастностью судьбам других людей. В поисках адекватной изобразительной формы авторы также стремятся сделать свои тексты местами, способными установить связь между погибшими и читателями.
Развертываемые в этих текстах пространственные воспоминания воссоздают «зону» при помощи описаний лагерной местности, окружения, планировки, расположения бараков, изолятора, санчасти. «Зона» – островная территория ужаса, гигантский traumascape, который покидается, когда рабочие бригады гонят в рудники, на строительство канала, на лесоповал, то есть на другую территорию ужаса. Однако «зона» – также и место «возвращения домой» с работы, амбивалентное пространство125. В этих текстах отражен опыт лагерной жизни, включая такие происшествия, как внезапное обнаружение ямы с захороненными трупами во время выходов за пределы зоны или встреча с грудами лежащих вповалку обнаженных трупов в одном из Соловецких лагерей. О последнем сообщает Лихачев. Кульминация рассказа Шаламова «По лендлизу» – явление братской могилы, не удержавшей своих мертвецов, из вечной мерзлоты.
4. Забвение как выбор?
На возможное окончание memorial turn намекают вышедшие в 2010–2011 годах работы Кристиана Мейера «Заповедь забвения и неотвратимость памятования. О публичном обращении с неприглядным прошлым» (Das Gebot zu vergessen und die Unabweisbarkeit des Erinnerns. Vom öffentlichen Umgang mit schlimmer Vergangenheit), «О будущем памяти» Фолькхарда Книгге (Zur Zukunft der Erinnerung) и «Жертвы по ощущению. Иллюзии преодоления прошлого» (Gefühlte Opfer. Illusionen der Vergangenheitsbewältigung) Ульрики Юрейт и Кристиана Шнейдера126. Последние два автора ведут речь о «работе верховных жрецов нравственно безупречного памятования», критикуя «нескончаемое пережевывание», а также сетуя на «лакировку истории пафосом и сентиментальностью» и «переизбыток смысла и морали» (Schwelling. S. 132). Выдвигая в 1990‑е годы свои тезисы о забвении в противовес общепринятому дискурсу памяти, Мейер подкрепил их, в частности, одним примером из античной истории (Афин около 403 года до н. э.), из которого явствует терапевтическая функция забывания. Уже в 1997 году вышла посвященная забвению книга Харальда Вейнриха «Лета. Искусство и критика забвения» (Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens). Вейнрих, с одной стороны, подчеркивает широкий простор действия ars oblivionalis, рассматривая случаи не только конструктивности, но и абсолютной необходимости забвения, с другой – в главе «Освенцим и никакого забвения» предоставляет слово тем, кто помнит. Акцент при этом делается не столько на вспоминании, сколько на «незабывании». Глава начинается с заклинания невозможности забыть, которое, называя все ужасы своими именами, семикратно повторяет Эли Визель:
Jamais je n’oublierai cette nuit, la première nuit de camp qui a fait de ma vie une nuit longue et sept fois verrouillée.
Jamais je n’oublierai cette fumée.
Jamais je n’oublierai les petits visages des enfants dont j’avais vu les corps se transformer en volutes sous un azur muet.
Jamais je n’oublierai ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi.
Jamais je n’oublierai ce silence nocturne qui m’a privé pour l’éternité du désir de vivre.
Jamais je n’oublierai ces instants qui assassinèrent mon Dieu et mon âme, et mes rêves qui prirent le visage du désert.
Jamais je n’oublierai cela, même si j’étais condamné à vivre aussi longtemps que Dieu lui-même.
Jamais127.
У незабывания есть заклинательная функция. Безусловно, вспоминание/незабывание не составляют оппозиции, однако предполагают некую градацию насущности, интенсивности. Незабывание напрямую касается неугасимости жгучего опыта, который вспоминание сначала должно реконструировать.
В «Формах забвения» Алейда Ассман предложила типологию форм забвения в ответ на проблематизацию парадигмы мемориальной культуры – парадигмы, в развитие которой она внесла вклад многочисленными работами128. Среди упоминаемых ею терапевтических форм забвения – заявление Семпруна о том, что письму он предпочел бы фактическое забвение. Подобно страдающему гипермнезией пациенту Шерешевскому, описанному Александром Лурией в «Маленькой книжке о большой памяти», и пораженному гипертрофией памяти протагонисту рассказа Борхеса «Фунес памятливый», Семпрун хочет стирания. Это стирание, которое могло бы принести некое избавление от образов мира, знаний о мире (которые вследствие несчастного случая как бы вселились в голову Фунеса), не удается ни ему, ни луриевскому мнемопату, ни борхесовскому вымышленному герою. У Лурии и Борхеса речь не о мучительных воспоминаниях, а о борьбе с переполненной памятью, мешающей упорядоченному восприятию мира129. Блокировать свою память, набросить на лагерные картины «непрозрачное полотно», при помощи которого жаждет спастись от переизбытка образов Шерешевский, не удается не только Семпруну, но и другим взявшимся за перо бывшим заключенным.
Память/забвение – сквозная тема лагерных текстов. Запоминание воспринимается как задача (требование), выполнение которой необходимо ради возможности свидетельствовать. Шаламов сетует на вызванную лагерными условиями прогрессирующую забывчивость, констатируя, что голод, холод, изнеможение лишают способности запоминать. Невозможность удерживать вещи в памяти равносильна возникновению ложных воспоминаний.
Что это означает для оценки правдивости рассказов современников-свидетелей? Как читать эти тексты? Как объективное документирование лагерной реальности, как составленный по памяти протокол – или как субъективный отчет и художественную литературу? Конечно, не следует полагать, будто при чтении лагерных текстов мы имеем дело с чистым авторским вымыслом (мистификациями, фальсификациями); вместе с тем надо учитывать, что передача лагерного опыта в мемуарном тексте – это процесс придания формы. Тексты различаются по способу повествования, описанию событий и предлагаемой перспективе, акцентированию тех или иных происшествий. Однако для всех авторов характерна вера в надежность собственной памяти, а читателям, соответственно, помимо прочего предлагается читать эти тексты именно как документы.
Евгению Гинзбург, после того как обе ее книги о колымском опыте получили известность, спросили, как ей удалось запомнить все эти имена, факты, топонимы. На этот вопрос о возможностях своей памяти она отвечала так: «Очень просто: потому что именно это – запомнить, чтобы потом написать! – было основной целью моей жизни в течение всех восемнадцати лет» (Г 823). Работа ее памяти началась с перелома, разделившего ее жизнь на «до» и «после». Всех, кто впоследствии брался за перо, эта цезура превращала в тех, кто вспоминает.
Бытование в нашей стране дискурса, в котором культура памяти предстает устаревшей парадигмой, кажется чем-то высокомерным на фоне предпринимаемых «Мемориалом» попыток «преодоления прошлого» (Vergangenheitsbewältigung) или «осмысления [„обработки, проработки“] прошлого» (Aufarbeitung der Vergangenheit; в русском языке нет эквивалентных понятий). Об усталости от преувеличенной культуры памяти с ее утрированной апеллятивностью не может быть и речи до тех пор, пока молчание, сокрытие и запрет на mnesikakein, «припоминание зла» (о котором пишет Мейер) остаются составляющими обращения с прошлым130.
Активисты «Мемориала» продолжают бороться с любыми разновидностями забвения, любыми функциями замалчивания – официального, повседневного, частного. Подчеркивание позитивных следствий забвения их изумляет. Забвение не предстает парадигмой, которая могла бы сменить парадигму памятования: оно вообще еще не парадигма, могущая предложить собственный дискурс. «Мемориальцев» интересуют не дискурсы, а действия, движимые мотивом обнаружения, обретения утраченного.

Ил. 7. Соловецкие острова

Ил. 8. Вид на внутренний двор и надвратный Благовещенский храм со стороны Соловецкого кремля (© Сузи К. Франк)

Ил. 9. Часовня во имя святого благоверного князя Александра Невского (© Сузи К. Франк)

Ил. 10. Вид на Соловецкий кремль со стороны бухты Благополучия (© Сузи К. Франк)

Ил. 11. Прибытие колонны заключенных на Соловки (кадр из фильма А. А. Черкасова «Соловки», снятого там же в 1928 году, оператор С. Г. Савенко)

Ил. 12. Ворота Кемского пересыльно-распределительного пункта – Кемперпункта (кадр из фильма «Соловки»)

Ил. 13. Дорога к Соловецкому кремлю

Ил. 14. Соловецкий монастырь, 1920‑е годы
II. КАЗНЬ ИЛИ ЛАГЕРЬ
5. Утопические проекты и расстрельные кампании
Определяющие дискуссию о произошедшем аргументы по поводу мемориальной культуры, которую надлежит создать или которой нечто препятствует, напоминают, пусть и с иной идеологической окраской, споры о традиции и отказе от традиции, развернувшиеся в ходе революционных событий между сторонниками традиции и теми, кто относился к ее поддержанию скептически. Такие понятия, как память и забвение, сохранение и стирание, доминировали в интеллектуальном дискурсе эпохи, в которую уже практиковались аресты, расстрелы, отправки в лагеря.
Ярким проявлением разногласий между блюстителями традиции и культурными революционерами стала полемика между поэтом-символистом, философом культуры, филологом-классиком Вячеславом Ивановым и литературоведом Михаилом Гершензоном, известная как «Переписка из двух углов». Посвящена эта возникшая по воле случая (летом 1920 года два друга-писателя вместе занимали одну комнату в здравнице) переписка фундаментальному вопросу о роли традиции в условиях культурной дестабилизации131. Гершензон предстает бескомпромиссным критиком культивирования традиции и поборником тотальной эмансипации от накопленного знания. Если Иванов отстаивает традицию как живую сокровищницу даров, то Гершензон говорит о бремени и пресыщенности. Складывается впечатление, что Гершензон яснее, чем Иванов, видит возникающий в любой актуальной культуре конфликт между преданностью этим дарам прошлого, то есть подчинением их авторитету, и рассудочно-испытующим взглядом на них. Ответы Иванова на утверждения собеседника проникнуты культурным пафосом, придающим памяти религиозный смысл:
Есть в ней [культуре] и нечто воистину священное: она есть память не только о земном и внешнем лике отцов, но и о достигнутых ими посвящениях. Живая, вечная память, не умирающая в тех, кто приобщаются этим посвящениям! Ибо последние были даны через отцов для их отдаленнейших потомков, и ни одна иота новых когда-то письмен, врезанных на скрижалях единого человеческого духа, не прейдет132.
Впоследствии в письме к французскому издателю этой переписки Шарлю дю Бо Иванов подчеркнет, что речь в ней шла об «оппозиции, указывающей водораздел между спасительным устремлением к thésaurus и жаждою tabula rasa»133. Ранее свой вклад в tabula rasa внесли футуристы с их требованием бескомпромиссного новаторства и сбрасывания культурного балласта «с парохода современности», как сказано в одном из их манифестов.
Культурно-политические баталии между «пролетарскими», авангардистскими, реставраторскими течениями по поводу эстетических концепций в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре находили отражение на страницах конкурирующих журналов. Производство художественно-философских теорий до и после революции (в 1910–1920‑е годы) было огромным, однако в 1920‑е отнюдь не лишенным риска. Подозрение, ведущее к аресту и расстрелу, могли вызвать как новаторские концепции в этих сферах, так и сама художественная практика, чей потенциал был бы сочтен угрожающим, а представители – опасными. Подобным образом оценивались не только философы, литературоведы, лингвисты, писатели, художники, композиторы, театральные деятели, но и ученые-естественники и инженеры. Обвиненные в приверженности буржуазным моделям мышления, декадентству или формализму «разоблачались» как идеологические и эстетические уклонисты. Чрезмерно восторженная художественная (творческая) интерпретация революционной идеологии могла вызвать такую же истерию, что и формально-языковые концепции футуристов134. Многие заключенные ГУЛАГа – интеллигенция – происходили из этой незащищенной культурной среды.
Невзирая на все до- и послереволюционные споры, сохраняется и концепция культуры, ориентированная на вневременную память, симультанность культурных фактов. Такова позиция поэтической группы акмеистов, этих фанатиков памяти и мифопоэтов воспоминания, чьи главные понятия – письмо, текст, память и диалог – в философском смысле опираются на положения философии памяти Анри Бергсона. Фундаментальная для акмеистического понимания культуры концепция непрерывности и плавности, соединяющая накопленный культурный опыт с его «бесшовным» продолжением, память с предвосхищением, исключает идею нового начала без опоры на прошлое, отвергает идею трещины, разрыва, разлома135. Отмеченная этим дискурсом культурная сцена, которую интеллигенции пришлось спешно покинуть, была неоднородна с точки зрения эстетических, антропологических, философских, идеологических концепций, а вынужденный уход с нее коснулся как защитников традиции, так и поборников инновации. Однако опыт разлома и прерывности нельзя было примирить ни с каким аспектом новаторства.
Эта приверженность акмеистов культуре и памяти потрясает, если принять во внимание арест и расстрел Николая Гумилева – первого писателя, которого постигла такая участь; лагерные мытарства Мандельштама; горе Анны Ахматовой после ареста сына в ходе сталинских чисток. Хотя лагерный контекст едва ли располагал к серьезному восприятию мифопоэтических тезисов этой группы, для некоторых лагерников, иногда еще во время пребывания в следственном изоляторе, стихи акмеистов и продолжаемая ими поэзия Пушкина (их декламировали наизусть) тем не менее оказывались спасительными. Ностальгическое обращение к традиции в разговорах между заключенными, вырванными из собственной истории и насильственно включенными в чужую, выражается во внезапно всплывающих культурных подробностях, в поиске взаимопонимания через припоминание цитат из оставленного мира искусства и науки: моменты утешения и отчаяния.
Обрисованная выше концептуальная оппозиция, нашедшая отражение в задокументированной полемике, представляет реальность лагерей в дважды парадоксальном свете: это и парадокс с точки зрения веры в традицию, и парадокс с точки зрения отказа от традиции, который теперь не предусмотренным теорией образом трансформировался в практику уничтожения.
Эта парадоксальность усиливается появлением конкурирующих теорий бессмертия и воскрешения, экспериментов по продлению жизни, генетических исследований с целью оптимизации человеческого материала и пропаганды советского сверхчеловека. Особенно знаменательно противоречие между «кампанией иммортализма» начала 1920‑х годов – и уже начатой к тому времени кампанией умерщвления, жертвами которой становились писатели, художники, ученые и носители неортодоксальной идеологии136. В 1922 году ведущая ежедневная газета «Известия» опубликовала «Декларативную резолюцию» – манифест группы «анархистов-биокосмистов», провозгласивших главной ценностью стремление к бессмертию. Их девиз звучал: «Иммортализм и интерпланетаризм»137. В этом воззвании излагалось учение об иммортализме, согласно которому бесконечность земной жизни должна распространяться и на усопших138. Для анархистов-биокосмистов связь бессмертия с космосом выступает существенным элементом теорий упразднения смерти. Это видно и из следующего текста Александра Святогора (Агиенко, 1889–1937), представителя так называемой биокосмической поэтики:
Мы утверждаем, что теперь же в повестку дня необходимо во всей полноте поставить вопрос о реализации личного бессмертия. <…> В повестку дня мы включаем и «победу над пространством». Мы говорим: не воздухоплавание – это слишком мало, – но космоплавание. <…> Нельзя же оставаться только зрителем, а не активным участником космической жизни. И третья наша задача – воскрешение мертвых. Наша забота – о бессмертии личности во всей полноте ее духовных и физических сил. Воскрешение мертвых – это восстановление в той же полноте ушедших в гроба139.
Чаяния Святогора оборвались в трудовом лагере в 1937 году. Его программе предшествовало учение теоретика воскрешения мертвых Николая Федоровича Федорова (1829–1903). Будучи верующим христианином, этот философ, библиотекарь, предтеча экологии и нового, распространяющегося на космос миропонимания считал нравственным долгом объединенного в братстве человечества самостоятельно осуществить обещанное Богом воскресение мертвых. В своем учении, впоследствии получившем название философии общего дела, он развивает идею родства всех со всеми как предпосылку дела воскрешения. Для этого требовались колоссальное напряжение всех сил и аскетический образ жизни. Свое место в проекте Федорова занимают библиотека, музей и физиология. Музей как место, где память об усопших сохраняется научными методами, не только содержит останки мертвых и художественные реконструкции их тел, но и занимается их оживлением посредством научно обоснованной практики. Музей заменяет собой кладбище и становится исследовательской лабораторией. Собираются сведения о мертвых, создаются их портреты, археологические раскопки служат их обнаружению. Все эти действия направлены на телесное восстановление умерших. Посвященный отцам научный этос, движущий сыновьями, сочетается с намерением прославить музей как место памяти. Музей как база данных и память, а также воссоздание во плоти – таковы предварительные шаги на пути к полному возрождению усопших и их воссоединению с живыми140.
Последующие концепции, вдохновленные революционными идеями, сосредоточиваются на «новом человеке», социалистическом сверхчеловеке. Здесь слышатся отзвуки как сверхчеловека Ницше, так и идеи религиозного философа Владимира Соловьева о превращении страдающего смертного человека в бессмертного, для обозначения которого он тоже использует термин «сверхчеловек». Представление о социалистическом сверхчеловеке сменяет все старые образы человека, а преодоление смерти мыслится как не только возможность, но и реальность, которая вот-вот будет осуществлена научными методами. Создание нового человека141 происходит путем воспитания, физиологического и психологического совершенствования его природных данных.
Помимо исполненной пафоса концепции «нового человека» заявляет о себе биогенетическая дисциплина, обращающаяся к физическим манипуляциям над человеческим телом с целью качественного улучшения генетического материала, искоренения болезней, продления жизни и даже избегания смерти142. Многообещающими практиками становятся эксперименты по трансплантации, обменному переливанию крови и измерению энергии как жизнеобеспечивающего фактора.
Жажда бессмертия вылилась в идею наличия в человеческом организме сил, активация которых якобы может гарантировать жизнь, даже сверхжизнь. Центральное значение приобрела здесь концепция энергии, не в последнюю очередь восходящая к сочинению химика Вильгельма Оствальда «Энергетические основы науки о культуре» (Energetische Grundlagen der Kulturwissenschaft, 1909)143. Другие ученые-естественники тоже выдвигали тезисы об энергии, в которых научность сочеталась с метафизическим пафосом. Один из примеров – Владимир Бехтерев (1857–1927), нейрофизиолог и психиатр (на Западе больше известный своим описанием болезни позвоночника, названной в его честь Morbus Bechterew), который, как и Иван Павлов, занимался изучением условных рефлексов и считается представителем поведенческой теории цепных рефлексов. Основатель петербургского Психоневрологического института (1907), он занимался исследованием мозга и в центр своих представлений о бессмертии ставил энергию. Уже в 1896 году он опубликовал работу о нервных токах и энергии. Носителями энергии он считает электроны (здесь он ссылается на исследования электронов). В 1916 году на торжественном акте Психоневрологического института в Петрограде он произносит речь на тему «Бессмертие человеческой личности как научная проблема», где предлагает своего рода переосмысление физической смерти:
<…> «духовная» личность человека, имея самодовлеющую ценность, никогда не исчезает бесследно и таким образом каждая человеческая личность, имеющая в себе опыт предков и свой личный жизненный опыт, не прекращает своего существования вместе с прекращением индивидуальной жизни, а продолжает его в полной мере во всех тех существах, которые с ней хотя бы косвенно соприкасались во время ее жизни <…>.
Можно сказать, что в течение своей жизни человек, если можно так выразиться, рассеивает свою энергию среди близких и неблизких ему лиц, которые в свою очередь передают приобретенное другим, а те – третьим и так далее до пределов человеческих взаимоотношений, причем в претворенном виде это влияние личности на других, себе подобных, в свою очередь будет воздействовать на саму личность, первоначально давшую толчок к воздействию на других. <…> Таким образом совершается кругообращение энергии от человека к человеку, благодаря чему происходит не всегда уловимое, но постоянное взаимодействие между людьми <…> человек, умирая физически, не умирает духовно, а продолжает жить и за гранью телесной формы человеческой личности, ибо все то, в чем эта личность уже проявилась, чем она заявила себя в течение своей жизни, в умах и сердцах людей все это, претворяясь в окружающих людях и в потомках в новые нервно-психические процессы, переходит от человека к человеку, из рода в род, оставаясь вечно двигающим импульсом <…>144.
Продолжить развитие своих переосмысляющих смерть тезисов Бехтереву не довелось: предположительно он был отравлен после того, как поставил Сталину психиатрический диагноз «тяжелая паранойя».
Энергетическая теория была не единственным учением о человеке в обществе. Наряду с энергией интерес вызывала кровь, ставшая предметом исследований принципа витальности. Регенерация путем обменного переливания крови была идеей Александра Богданова (Малиновского; 1873–1928), чья техноемкая практика имела футурологическую основу, реализовать которую он пытался в основанном им в 1926 году государственном Институте переливания крови при помощи самостоятельно сконструированной и доработанной аппаратуры145.
Научные работы, проекты и программы этих продлевателей жизни и (мета)физиков бессмертия сопровождались приподнятой риторикой обетований. К ней присоединялся дидактический тон рассуждений о «новом человеке», чье нравственно-биологическое совершенствование подавалось как предпосылка функционирования новой культуры человечества. Лев Троцкий считал, что в будущем можно будет «создать более высокий общественно-биологический тип, если угодно – сверхчеловека»146.
Проект «бессмертие» дополняется проектом создания Нового Человека. Последнему сопутствуют различные опыты, включая психологические и педагогические эксперименты, в которых решающее теоретико-методологическое значение получил психоанализ. В Москве основываются Русское психоаналитическое общество и Государственный психоаналитический институт. Одну из ведущих ролей, среди прочего благодаря своему влиянию на более молодых психологов Александра Лурию и Льва Выготского, взяла на себя психолог Сабина Шпильрейн147, защитившая диссертацию под руководством К. Г. Юнга и в 1923 году вернувшаяся в СССР из Швейцарии. Она работала над применением психоаналитических методов к детям в созданных с этой целью детдомах сначала в Москве, затем в Ростове-на-Дону. Однако психоаналитический подход просуществовал недолго148. С падением Троцкого, ярого поборника психоанализа, последний был отвергнут и начал «преследоваться». При этом опирающаяся на старые педагогические модели воспитательная методика Антона Макаренко, вовлекшего в свой воспитательный проект беспризорников, малолетних бандитов и проституток, никаких препятствий не встретила. Задействование психологических или психиатрических методов в педагогике было направлено на реализацию антропологических мечтаний о преображении, перерождении, перевоспитании, переплавке, перековке, которые должны произойти под руководством партии149. Перековка150 как проект перевоспитания продержалась до 1930‑х годов. Если в детдомах стремились воспитывать людей нового типа, то программы перековки были предназначены для тех, чей (неправильный) жизненный путь уже начался. В приставках «пре-» и «пере-» заключена суть этих метафор: преображение изначально имеет религиозную окраску, перевоспитание происходит из педагогики, однако переплавка и перековка отсылают к ремесленному труду: человек, будто обрабатываемое изделие, подлежит радикальному изменению; к этим последним обозначениям семантически примыкает и перестройка: перестроены должны быть существующие условия.

