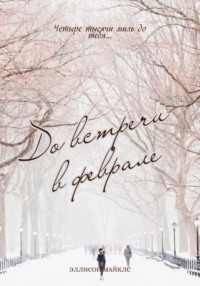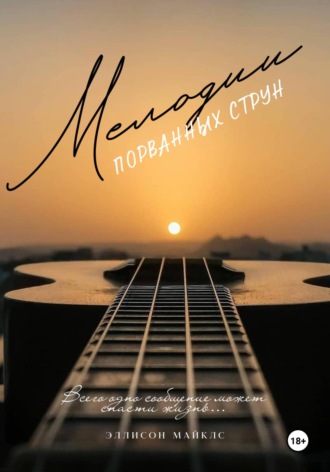
Полная версия
Мелодии порванных струн
Но ни разу с тех пор, как я опрокинулся на катке в Миллениум Парк Айс, со мной не возились, как с чем-то хрупким. Тренер Хэтчерсон, что учил дошколят стоять на коньках и удерживать внимание на игре дольше двух минут, научил меня первым матерным словам. Тренер Уоллес, темнокожий детина с лысиной и полным неуважением к своей команде, называл меня жирдяем и свинтусом, хотя я выглядел спортивнее всех ребят. Тренер Нолан, под началом которого я бегал в молодёжке и впервые засветился на радарах большого хоккея, как-то плюнул в меня, когда я огрызнулся. Ну а в «Монреаль Канадиенс» о поблажках не могло быть и речи. Крупные ставки, огромный куш, непосильная ответственность. И я всё это спустил в унитаз вместе с коленом, которое, кстати, совсем не болело после знакомства с «Манхэттеном».
Ещё один веский повод надираться почаще.
– Эй, а он мне там не наблюёт? – Не шибко-то вежливо спросил таксист, когда бармен помог моей туше опуститься на заднее сидение.
– Эй, вапще-т я здесь. И сам мгу отвчать за свои слва.
– Я вижу. – Буркнул мужчина, пристально рассматривая меня в зеркале заднего вида. Спорил сам с собой, брать меня или выкинуть обратно на улицу. Вот я и стал тем самым пассажиром, от которого шарахаются все таксисты и кого выволакивают под мышки бармены. – Куда едем?
– Домой.
– А можно поконкретнее?
Умеют же люди залезть в самую душу! Где он теперь, мой дом? Уж точно не на съёмной квартире в Квебеке, куда я не мог вернуться, и не в родительском доме, куда я хотел бы вернуться, но куда меня не пускали. Не в нашем с Вэлери уютном гнёздышке – не осталось больше «нашего с Вэлери». Только она и полуголый кретин в трусах «Армани» на резинках и с фингалом от моего кулака. Потому я назвал адрес новой квартиры, к которой ещё не привык и не знал, привыкну ли хоть когда-нибудь.
– Проспись, дружище. – По-братски хлопнул меня по плечу бармен, закрывая дверь. – Надеюсь, ты завтра не вспомнишь ни этот день, ни свою Вэлери…
И дверь захлопнулась перед моим носом.
Вэлери? Неужели я болтал о ней? Точно! Вэлери! Я ведь собирался позвонить ей ещё там, в баре. Но мой телефон упрыгал куда-то. Я извлёк какой-то гортанный звук вперемежку с отрыжкой, но водитель лишь покачал головой на мои ужасные манеры.
– Телфон!
Пальцы нашли ручку и потянули на себя. Дверь приоткрылась, таксист закричал, а затем и я, ведь снаружи уже вовсю мелькал асфальт.
– Мать твою! Решил прогуляться? – Грубо отругал меня водитель, но не высадил за пьяные проделки. По виду, по крайней мере, тому двоящемуся виду, что открывался передо мной, парень-то этот матёрый, и я – не первый пропойца в его салоне. И даже не последний.
Я даже не почувствовал, как мы тронулись, но не стал просить водителя вернуться. Мало ли сколько мы проехали? Может, я уже на другом конце Чикаго или вовсе меня везут в лес, чтобы разделаться и запихать по пакетам. Но я настолько ненавидел себя и свою жизнь в этот момент, что сам бы помог раскрыть эти пакеты своему убийце, чтобы принести хоть какую-то пользу.
– А можшь дать пвзонить?
Мне отчаянно понадобилось поговорить с Вэлери. Высказать ей всё то, что наболело и всё то, что я не высказал в нашу последнюю встречу. Я ведь поступил как всегда: взорвался громом и молниями, нахлестал её новому типу по скулам, и сбежал куда подальше. Я всегда бегал от проблем, но теперь, с моим-то коленом, с пробежками придётся завязать. Да и бежать-то уже некуда.
Вернулся я в нашу квартиру за вещами, когда была уверен, что больше не столкнусь ни с любимой девушкой, ни с парнем, который эту любовь растоптал. Прямо на нашей кровати с простынями с пальмовыми листьями. Вэлери уходила из дома в девять, так что я подкатил свой пикап к дому ровно через минуту, а минут через десять уже выносил всё непосильно нажитое имущество прочь.
– Прости, чувак. – Поджал губы водитель. – Но я не доверю тебе свой телефон. Да и тебе сейчас бы отоспаться. Поверь, в таком состоянии лучше не звонить бывшим.
– Как ты догдался? М-м-м, ты экстраксанкс… экстрасенкс… экстра?
Язык выписывал кульбиты во рту, то и дело связываясь узлами. Да что ж за слово-то такое!
– Не мучайся. – Усмехнулся таксист, проникаясь ко мне всё большей симпатией. – Я не экстрасенс. Просто до такого состояния в четыре часа дня можно напиться лишь по двум причинам. Если ты узнал, что у тебя рак.
– Неа. – Мотнул я головой, отчего вестибулярный аппарат запустил болевую центрифугу в мозгах.
– Или если тебя бросила девушка.
Чертовски верно. Мой новый приятель попал точно в яблочко, вот только допустил промашку в одной малюсенькой мелочи. Меня бросили абсолютно все.
Остаток пути я пытался узнать улицы, но они размножались в глазах, так что я перестал вглядываться в дома, а просто откинулся на подголовник и двигался в одном ритме с такси. Ещё недавно Чикаго оставался для меня отправным пунктом на моём пути в высшую лигу хоккея. Не просто городом, скорее, трамплином, что отфутболил меня слишком высоко, туда, где я не удержался. Но теперь, вернувшись назад, упав и разбившись, даже опьяневшим разумом я понимал, что Чикаго – больше, чем трамплин или просто город. Когда-то здесь был мой дом. Здесь остались мои близкие. Где-то здесь похоронена моя мама. И когда-нибудь я верну себе всё то, что мне принадлежит по праву. А пока…
Мы свернули у «Бодрого Пабло» и замерли напротив подъезда, который я не сразу признал.
– Мы на месте. Надеюсь, дальше ты доберёшься сам.
Я хотел что-то ответить. Поблагодарить за убаюкивающую поездку, но окончательно забыл слова. Точно родной язык, на котором не разговаривал десятилетиями. В карманах зазвенели ключи, зашуршали какие-то обёртки от жвачки и скомканные деньги. Я протянул этот комок безделушек таксисту, молча прося взять всё, что ему нужно. Но он замотал головой, как фигурка собаки на приборной панели какого-нибудь дальнобойщика.
– Ничего не нужно, приятель. Твой друг за тебя уже заплатил.
Друг? Спросили мои глаза, потому что язык всё ещё немел от виски. У меня не осталось ни одного долбаного друга во всей вселенной, и незнакомец с грязными патлами никак не мог претендовать на это звание. Завтра же нужно вернуться в ту дыру. За машиной, телефоном и очищением кармы.
Я пару минут простоял у стены на первом этаже в ожидании лифта, и только потом вспомнил, что даже лифт для меня – небывалая роскошь. Лестница постоянно отбрыкивала меня на ступень ниже, когда я пытался пробраться по ней на второй этаж. Хоть перила не забыли присобачить! Я хватался за них и подтягивался, как по канату. В квартиру я попал с третьего раза. Не помню, когда так напивался в последний раз.
Завалившись в гостиную, я устал от попыток стянуть обувь, и просто шмякнулся на диван прямо в кроссовках. Вряд ли предыдущий хозяин так грубо обращался с предметами мебели, но я не в том состоянии, чтобы блюсти порядки.
Телефон попал в радиус моего зрения – то, что нужно! Кто вообще ещё пользуется стационарными трубками? Динозавры и моя бабуля. Даже отец, который умудрялся ни попадать в ногу со временем, давно освоил «Айфон» и даже сидит в соцсетях. Раньше сидел, пока смерть мамы не сделала подобные глупости совсем бессмысленными. Как приготовление обеда или полноценный сон.
Выудив из памяти цифры, из которых складывался номер Вэлери, я потянулся к трубке, но случайно нажал куда-то не туда. И в квартиру проник посторонний голос.
– У вас одно новое сообщение.
Писк, по децибелам сравнимый с запуском ракеты или самолётом, уходящим в ультразвук.
– Это Шон. Меня нет дома или я просто не хочу отвечать. Оставьте сообщение после сигнала, и, может быть, я вам перезвоню.
– Шон, я в нашей кофейне. В «Бодром Пабло» по-прежнему варят самый вкусный кофе в Чикаго. Я заглядываю сюда время от времени, чтобы быть поближе к тебе…
Опять эта девушка вторгается в мою частную жизнь. Я начал барахтаться на диване, как рыбка, выброшенная на берег, но куртка, которую я не удосужился снять, и внезапно ставший скользким диван лишили меня всякого движения. Подушки проглотили мою пятую точку, и в какой-то момент я просто замер. С этим диваном правило то же, что и с болотом. Чтобы не затянуло в трясину ещё глубже, перестань двигаться.
А голос девушки, масляной, солоноватый, как любимая арахисовая паста отца, продолжал смазывать мои барабанные перепонки:
– Мировой рекорд по задержке дыхания – двадцать две минуты, но, кажется, я побила его, простояв у твоего дома не дыша последние полчаса.
Трясина диванных подушек полностью поглотила моё расслабленное после виски тело, и я просто впитывал каждое сказанное слово, точно ребёнок перед сном, которому читают сказку. Сказка этой девушки походила на драму, а главной линией сюжета выступала печаль. Но голос… такой плывущий, плавный, он уносил меня на своих волнах куда-то из этой квартиры и из собственных мыслей. Или это «Манхэттен» постарался на славу?
– Через двадцать минут меня ждёт Кевин, с которым мы разучиваем флажолет на старой гитаре его отца.
Кто такой, мать его, Кевин? И что ещё за жилет?
Одно сообщение плавно перетекло в другое, пока я раскачивался на диванных волнах в опиумном опьянении. Голос что-то говорил о струнах, пальцах и докторе, чьё имя казалось так подозрительно похожим на какое-то из тех, что мне доводилось слышать буквально на днях.
– Мы столько говорили, но так многое не сказали друг другу. Во всех семи тысячах языков наверняка не хватит слов, чтобы мы наговорились до хрипоты.
Кем бы ни была эта странная девушка, что ведёт душещипательные беседы с автоответчиками, она так подробно описала наши с Вэлери отношения, что мурашки защекотали мои нервные окончания. Разве могут два совершенно разных, тем более незнакомых человека испытывать одно и то же? Чувствовать себя одновременно потерянными, одинаково разбитыми, тотально заблудившимися?
В полудрёме от выпитого я лежал и слушал приятный голос, который вытягивал всю мою боль своей. Мне так захотелось ответить этому голосу, сказать, что он не один блуждает в потёмках, но не осталось сил даже стянуть куртку и бросить рядом, не говоря уже о второй попытке дотянуться то телефона. И я позволил незнакомке усыпить меня своими речами.
– Я бы никогда не устала болтать с тобой, даже если язык занемеет, рассыплется в пыль или опухнет, как твоё ухо в ту нашу вылазку на Орленд Гров, помнишь? Та оса пережила инфаркт, унося от твоих криков свои крылышки.
Смешок зажурчал весенним ручейком, что бежит себе сквозь снега. Я так же таял от этого звучания, растекаясь по дивану бесформенной лепёшкой. Одной из тех, что поджаривают из кукурузной муки и подают с кетчупом в «Каса Кальцоне» на окраине Квебека. Там всё подают с кетчупом, даже несчастные монреальские бублики.
Конец сообщения обрывался на семи буквах, одном слове, целой истории. Ни одного меня выставили вон из сердца и из жизни. Вэлери и Шон стоят друг друга. Не знаю, что там натворил бывший хозяин этой берлоги, но я бы сказал ему пару ласковых при встрече.
Сообщений больше не было – да и с чего бы, если никто из моих знакомых не знает ни о моём переезде, ни тем более об этой доисторической телефонной станции. Мне некому звонить. В сознании носились вертолёты, и только притихший голос девушки с автоответчика хоть как-то снимал головокружение. Я забыл о Вэлери, забыл о вставном колене и даже о потерянной семье. Нашёл в себе силы дотянуться до кнопки и включил сообщения по новой.
– Шон, я в нашей кофейне. В «Бодром Пабло» по-прежнему варят самый вкусный кофе в городе…
Тесса
– Это Шон. Меня нет дома или я просто не хочу отвечать. Оставьте сообщение после сигнала, и, может быть, я вам перезвоню.
– С днём рождения, милый. Тридцать лет… У нас было столько планов на этот день. На эту жизнь. Но у вселенной свои планы на нас, правда? Она расписывает наши графики поминутно и редко когда советуется, чего мы сами хотим.
Ты хотел отметить этот день на Лулаполузе в Сан-Паулу или в Ливерпуле, прокатываясь на «битловском» такси. А я бы просто хотела, чтобы мы в этот день были вместе, разве это так много?
Но мы будем вместе, совсем скоро, ведь угадай, что?.. Я уже на полпути к тебе! И у меня для тебя подарок, всё, как полагается. Клубничный кекс из «Бэнг Бэнг Пай», твой любимый. И почему ты так любишь клубнику? Никогда не понимала. Но в этом ведь и вся соль, правда? В том, как из чего-то настолько разного, может склеиться что-то настолько цельное.
Дэвис
Вой сирены врезался в виски, и я очнулся от похмельной комы. Сперва показалось, что я лежу на льду в окружении бело-красной радуги из своих и чужих, что склонились надо мной и выкрикивают моё имя. Что секунду назад я стоял перед воротами, пока меня не сшиб Леонард Видаль. Тело, по крайней мере, ломило точно так же. И боль в колене вернулась.
Но сирена – не финальная фанфара матча, а всего лишь «скорая», что пронеслась мимо открытого окна. Солнце заливало комнату так, словно уже полдень где-то на Майорке, а не мартовский рассвет в Чикаго.
Я оторвался от подлокотника дивана и разлепил глаз, всего один, ведь второй наглухо склеился вчерашним виски и всё ещё дремал. Час двадцать на часах. Я проспал около двадцати часов. И проспал бы ещё столько же, но чувствовал себя склизким огурцом, что месяцами тух в холодильнике. Весь мокрый и потный, ведь даже не снял куртку, когда припёрся домой.
Голова трещала так, словно кто-то рубил топором поленья для топки. Издержки прозябания в баре. Я почти ничего не мог вспомнить, пока не стал ковыряться в запасах воспоминаний. Приём у доктора Шепарда, слежка за домом отца, бармен с сальными паклями… И голос какой-то девушки, что звучал сказкой перед сном.
Опьянение – блаженство ровно до тех пор, пока не начинаешь трезветь. И вспоминать. Как приходишь в себя в больнице с адской ломотой во всём своём дрянном теле. Как рядом сидит Эндрю Дукетт, наш штатный лекарь, и смотрит так, словно ты своё уже отжил. В каком-то смысле так и было, ведь я услышал от него прогноз. Вывих плеча, многочисленные ушибы челюсти, скулы и запястья. Но восстановление всего этого не займёт много времени. В отличие от колена. Оно не желало подчиняться импульсам мозга. И выход был лишь один – замена коленного сустава.
Я почти не помнил, как меня на носилках запихнули в скорую и помчали по улицам Ванкувера, как колдовали надо мной в отделении неотложки и выносили вердикт моему колену. Эндрю Дукетт всё это время следовал за носилками, как паломник за святыней. Он-то и взялся объяснять мне, что моему суставу пришла хана и что если я хочу ходить, то без операции никак.
– А хоккей?
Глаза Эндрю смотрели куда угодно, но не на меня.
– Это дело следующее.
– Ни хрена, это дело настоящее! Что будет с хоккеем?
Злость клокотала в груди, за подбитыми рёбрами, что уцелели от столкновения, в отличие от ноги. Но я не мог даже нормально сесть и корчился в позе гусеницы на больничной койке, пока медики больницы Сент Пол готовили операционную и свои ножи для того, чтобы вскрыть меня, как свинюшку перед жертвоприношением.
– Когда я смогу вернуться на лёд?
Лучше бы я ослеп, чтобы не видеть жалости в его синих глазах.
– Не в этом сезоне, уж точно.
– Твою мать…
– Дэвис, после таких операций нужны месяцы только на то, чтобы нормально ходить.
– Но я ведь смогу играть, как раньше?
На это он ничего не ответил. Лишь похлопал меня по плечу и поджал губы.
Тогда я окончательно понял, что уже ничего не будет как раньше. Ни с семьёй, ни с хоккеем.
И эта картина первой всплыла в памяти в это злосчастное утро. Вернее, уже в полдень. А потом спина Бенни, хлопнувшая дверь, бар и сообщения той женщины, что названивала в мою новую квартиру, как к себе домой. Я почти не помнил, что именно она говорила. Что-то о том, как скучает по этому парню Шону, и ещё какую-то околесицу про руку и музыку. Если эта сумасшедшая и дальше продолжит названивать сюда, то придётся снять трубку и спустить её с небес на землю. Мне хватало и собственных бед, чтобы выслушивать ещё и чужие.
Огонёк на автоответчике горел синим. Вчера я вроде уже прослушал все излияния этой ненормальной, но, похоже, она снова оставила сообщение. Я нажал на кнопку и услышал банальное приветствие предыдущего хозяина квартиры.
– Это Шон. Меня нет дома или я просто не хочу отвечать. Оставьте сообщение после сигнала, и, может быть, я вам перезвоню.
– С днём рождения, милый. Тридцать лет…
Голос споткнулся, словно ударился мизинцем о тумбочку.
– У нас было столько планов на этот день. На эту жизнь. Но у вселенной свои планы на нас, правда?
Это уж точно, подруга, кем бы ты ни была.
Виски заныли, и я решил, что больную голову не стоит забивать мыслями другой больной головы, так что я прервал сообщение.
Выбравшись из ботинок и куртки, я принял спасительный душ и переоделся. Чем вообще занимаются обычные люди без работы? Без планов на жизнь? Через час у меня был назначен сеанс физиотерапии у доктора Шепарда, но я вышел из дома и поехал на такси совершенно в другом направлении.
Захолустный бар, в котором я околачивался вчера, открывался лишь через полтора часа. Забрать телефон не получится, потому ничего не оставалось, как забраться в промёрзший за ночь салон своего пикапа и поехать на встречу, которую я столько откладывал.
К единственному человеку, кто любил меня несмотря ни на что.
Кладбище Сейнт Генри пустовало в это время. Если не считать всех тех, кто мирно спал себе под таящей землёй. Могильные плиты рядами громоздились за витиеватым забором. Я припарковался рядом с воротами и заглушил мотор. Если бы чувства можно было так же заглушить. Повернуть ключ и заглохнуть. Но я не мог. Потому сидел и смотрел туда, куда страшился ступить.
Бенни был прав насчёт меня. Подписав контракт с «Монреаль Канадиенс», я сбежал за горизонт, лишь бы быть подальше от болезни матери, хотя как никогда был нужен ей рядом. Просто не мог смотреть на то, как высыхает женщина, которая подталкивала одеяло перед сном, пекла шоколадные вафли и подпевала Селин Дион, пока мыла кастрюли. Я выплёскивал всю свою злость и страх за мамин недуг на лёд, хотя должен был держать её за руку. Откупался деньгами, что отсылал с гонораров, лишь бы не вдыхать запах надвигающейся смерти. Мне хотелось помнить маму другой. Улыбающейся утреннему солнцу, поглаживающей меня по голове, пахнущей «Блэк Опиум», но никак не раком.
Я даже не приехал на похороны, прикрываясь матчем с «Портланд Уинтерхокс». Не попрощался с ней, как следует любящему сыну. Не помог отцу и брату с похоронами. Лишь спустя полгода я соизволил заявиться к кладбищу, но даже сейчас был настолько труслив, что не мог выйти из салона и приблизиться к воротам. На пассажирском сидении лежал букет ирисов, её любимых цветов. Купил целую охапку по дороге в надежде, что её душа сжалится надо мной и простит блудного сына, что запоздал с прощанием и извинениями.
Лишь через пятнадцать минут я осмелился тронуть калитку и ступить на поросшую желтоватой травой мёртвую землю. Имена и даты преследовали меня по пятам, пока я искал нужные, ведь даже не знал, где лежит моя мама. Я проиграл по всем фронтам. Просрал не только хоккейный сезон, но и звание хорошего сына.
Побродив по лабиринтам смерти, я всё же нашёл её.
Лилиан Джексон. 1972-2023. Светлая память мужа и сыновей.
– Здравствуй, мам.
Она не ответила. Лишь улыбнулась с фотографии на камне, как улыбалась всегда при встрече. Матери не умеют ненавидеть. Даже если ты бросаешь их на смертном одре, даже если сбегаешь за тысячи миль, даже если не приезжаешь проводить в последний путь. Надеюсь, что матери умеют прощать.
В сердце закололо остриём, и эта боль перебила даже боль в колене. Я опустился перед матерью, словно кланяясь святыне. Коснулся букв её имени и положил ирисы рядом со свежей охапкой каких-то красных цветов. Наверняка, от отца или от Бенни. От тех, кто справлялся со своей ролью лучше меня.
– Прости меня. – На глаза набежали слёзы. Солёные и кислые, как осадок во рту после вчерашней пьянки. – Прости, что сбежал. Что не был с тобой до конца.
Но мама продолжала улыбаться так, словно не слышала или слышала и прощала.
– Всё оказалось бесполезным. Мой переезд в Канаду, контракт, побег, всё. – Продолжал я вести беседы сам с собой, по глупости надеясь, что ветер донесёт их до рая. – Я мог бы провести это время с тобой, но поставил свою карьеру выше твоей любви, семьи, всех нас. Я трус и ублюдок, мам. Надеюсь, ты когда-нибудь сможешь меня простить.
Нашёптывая свои собственные молитвы, я смачивал уже несвежую, заросшую травинками, землю над маминой головой. Ветер копошился вокруг, гоняя кругами сорванные листья с чужих букетов, песчинки с чужих бугров. И донёс до меня запах. Знакомый, удушающий, родной. Запах маминых духов. «Блэк Опиум», других она не признавала. Получала по флакону от отца на каждый День Святого Валентина и радовалась, как девчонка, постоянству мужа, не обращая внимания на его банальность.
Едва аромат ванили и миндаля коснулся моих ноздрей, я вздёрнул голову, словно надеялся увидеть маму рядом. Но, конечно, за спиной стояла не мама, а могильная тишина. Лишь сгорбленная женская фигура в капюшоне склонилась над другой могилой под голым клёном. Так же как я поглаживала холодный серый гранит, но вместо связки ирисов принесла своему покойнику гелиевый шарик. Каждый живёт в своём безумии. Поставив маленький кекс на памятник, женщина сложила ладошку домиком, чтобы ветер не ворвался внутрь и не затушил огонёк зажигалки, которым она пыталась поджечь свечку в кексе. Могла бы не стараться. Вряд ли тот, к кому она пришла, загадает желание. И уж тем более вряд ли оно сбудется. Не все живые получают то, что хотят, не говоря уже о мёртвых.
Понаблюдав за этой нелепой сценой на кладбище, я всё же отвёл глаза, чтобы меня не уличили в подглядывании. Запах маминых духов витал в окрестностях, сводил с ума своей реальностью, хотя я понимал, что он – всего лишь иллюзия. Плод моего воображения. Попытка получить ответ от матери, которая уже ничего не могла мне сказать.
Оставалось лишь уповать на то, что этот аромат – символ маминого прощения. Я в последний раз согрелся холодной маминой улыбкой, поднялся с коленей и взглянул на костерок свечи на кексе, который перестал трепыхать и погас. Словно свечку задул не ветер. Словно желание унеслось в космос и когда-нибудь исполнится.
Тесса
– Это Шон. Меня нет дома или я просто не хочу отвечать. Оставьте сообщение после сигнала, и, может быть, я вам перезвоню.
– Доброе утро, Шон, не поверишь, но это снова я. Сегодня день загружен, так что я звоню с утра пораньше, пока ещё есть силы слышать твоё молчание. В выходной всегда не продохнуть, но я даже рада, потому что в квартире слишком много воздуха для одного.
Думаю, ты обрадуешься, когда услышишь, что Кевин делает успехи. Он уже не тот хмурый подросток, который делает вид, что ему безразлично всё на свете. Музыка изменила его, как и нас когда-то.
Люси всё ещё забывает, что у неё десять пальцев, а Джордж не чувствует ритм. Но мы работаем над ошибками, и через пару лет я воспитаю из них настоящих эстрадных звёзд. Ты бы мной гордился. За два года я проделала длинный путь, и кто бы мог подумать, что кучка ребятишек проведёт меня по нему за руку. В конце концов, когда гаснет свет, у кого-то обязательно найдётся фонарь.
Дэвис
Похоже, вместе с квартирой я приобрёл и надоедливую женщину, которая никак не может справиться с разрывом и названивает бывшему. Продрав глаза, я выслушал её стенания и все эти слова любви, пару раз фыркнул, но почему-то не выключил, как в прошлый раз. В её голосе было столько боли, в словах – столько чувства, которое я непостижимым образом понимал. Меня ведь тоже кинули, хотя Вэлери я любил со школы.
Первой мыслью было перезвонить по высветившемуся номеру и попросить дамочку больше сюда не названивать, но я не смог. В каком-то смысле, эта ненормальная стала единственным человеком во вселенной, который со мной разговаривал.
Мне некуда было идти или ехать. Незачем вставать и надевать что-то приличное. Бенни не сжалился, не перезвонил, не сообщил отцу о моём возвращении. Никто из команды не подумал о том, чтобы набрать мой номер и просто поинтересоваться, как мои дела. Как я добрался до Чикаго, как мне живётся дома, как заживает моё колено. И Вэлери не посчитала нужным извиниться за предательство, объясниться или хотя бы вспомнить о своей сраной сковородке.
Мир – не банкрот и всегда платит по счетам. За мой эгоизм я расплачивался сполна безразличием. За злость – ненавистью. В конечном итоге все мы получаем то, что заслуживаем. Лишь смерть – исключение из правила, ведь многие из тех, кто умирает раньше срока едва ли заслуживают смерти. Как моя карьера, моё колено, мои отношения. Моя мама…