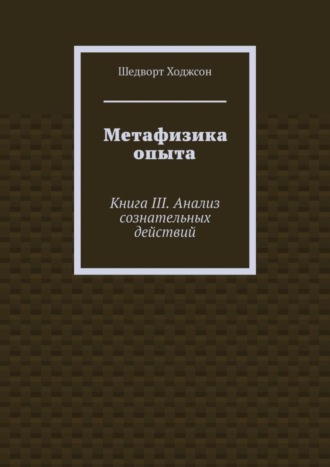
Полная версия
Метафизика опыта. Книга III. Анализ сознательных действий
Из приведенного краткого очерка эмоциональной жизни очевидно, что в обоих ее подразделениях, доличностном и личностном, существует великая антитеза, аналогичная той, что существует между удовольствиями и болью в ощущениях, на которой последние, собственно, и основаны. Через доличностные эмоции проходит антитеза между различными способами радости и горя, и эта антитеза продолжается в личностных эмоциях в антитезу между различными способами симпатии и антипатии. Как удовольствие и боль чувства лежат в основе радости и горя, а затем отпадают, как удовольствие и боль чувства, в их дальнейшем развитии, так и радость и горе, в свою очередь, лежат в основе симпатических и антипатических групп, а в их дальнейшем развитии также отпадают в их специфическом характере как радость и горе. Эмоции, каждая в своем специфическом характере, становятся так называемыми мотивами или источниками действия и ощущаются как желания, требующие удовлетворения. Независимо от того, возникает ли эмоция первоначально из радости или из горя, удовлетворение желания, которое она порождает, является удовлетворением, а отрицание или предотвращение его удовлетворения – обратной стороной удовлетворения, т. е. болью эмоции. Например, удовлетворение мести и причинение боли тем, кого мы ненавидим, приносит реальное и часто сильное удовлетворение, так же как и реальное и острое удовлетворение от того, что мы дарим блага тем, кого любим, или удовлетворяем нужды тех, к кому испытываем жалость. Однако ненависть коренится в печали, связанной с представлением личности, сознательно расходящейся с нашей собственной, в то время как любовь и жалость основаны на радости признания сознательного согласия с нашей собственной личностью другого человека, несмотря на то, что в случае жалости сознание, представленное как общее для двух личностей, является эмоционально болезненным.
Настоящий анализ личности и личностных эмоций, кажется, предлагает лучшее обоснование того, что сейчас является общепризнанным фактом естественной врожденности или оригинальности альтруистических эмоций, чем может быть дано на основе здравого смысла или эмпирической основы, на которой мы начинаем с предположения о восприятии раздельности между различными личностями. Так мы поступаем, если рассматриваем этот вопрос как вопрос психологии, в которой отдельные сознательные существа принимаются за конечные факты, чья индивидуальность есть нечто per se notum, на наше представление о котором не может повлиять метафизический анализ. Исходя из этого, требуется специальная теория, объясняющая, почему мы испытываем альтруистические эмоции с той же спонтанностью и оригинальностью, что и злобные; теория, которая была бы адекватна, чтобы преодолеть восприятие раздельности интересов между собой и другими, с которого мы, как предполагается, начинаем, и показать дружеское чувство к другим как естественно вытекающее из нашего чувства к себе, хотя оно может быть не таким сильным. Доктор Бейн, например, прибегает к гипотезе, согласно которой в актах искренней бескорыстной доброжелательности и сочувствия к другим можно увидеть «замечательный и венчающий пример Неподвижной Идеи», которая в данном случае была приобретена и развита стадной природой и привычками человеческого вида, среди прочих, в течение долгого периода его эволюции.5
Но как только мы видим, что связано с восприятием чужой личности, а именно, что оно требует представления нашей и чужой личности вместе, как двух взаимодополняющих частей одного и того же опыта, становится очевидным, что расхождение или согласие между этими двумя частями нашей общей идеи становится тем, что называется непосредственным мотивом или пружиной действия, как в одном случае, так и в другом. Симпатические или доброжелательные и антипатические или злобные действия возникают одинаково спонтанно и одинаково изначально из нашего собственного рединтегративного опыта, и им не приходится преодолевать трудности, связанные с восприятием раздельности личностей, которое приходит в результате инференции на более поздней стадии развития нашего знания. Ибо недостаточно сказать, что это развитие имеет долгую историю, если не добавить, что его начало соотносится с самой рединтегративной деятельностью, которая, как мы видели в книге I., является предпосылкой восприятия мира материальных объектов, одним из которых является тело субъекта. В этой истории, соответственно, сравнительно поздно возникает представление о том, что сознание каждого субъекта есть нечто совершенно отдельное от сознания каждого другого, то есть психологическая концепция совершенно отдельных личностей. Изначально мы представляем чувства других Субъектов, так же как и материальные объекты, как часть нашего собственного опыта, и на основе этих представлений мы действуем задолго до того, как придем либо к восприятию того, что каждый реальный Субъект имеет совершенно уникальный и неразделенный опыт, непроницаемый для других, либо к истинному различению материальных объектов, которые являются реальными Субъектами, обладающими личностью в полном смысле, от тех, которые не наделены такой способностью.
Большая ошибка – переносить это полностью развитое восприятие отдельности личностей на начало эволюции личностных эмоций, чтобы сделать представление о нем основой или условием, объясняющим их природу или происхождение. Вред от этого заключается в том, что, таким образом ложно упреждая полное представление о личности, мы фальсифицируем отношение между эмоциями и идеями или образами, которым они соответствуют, – отношение, которое на самом деле является одновременным, – и представляем эмоции либо как чувства, испытываемые с какой-то скрытой целью, как, например, когда
«Собака, чтобы добиться своих личных целей,
взбесилась и укусила человека».
либо как логические следствия ранее возникших идей относительно их объектов. Правда, я могу оправдать или объяснить свой гнев или свою благодарность, например, сказав, что я знаю, что объект этого чувства желает мне зла или сделал мне доброе дело, но это не тот реальный порядок, в котором возникает мой гнев или моя благодарность. Они возникают спонтанно, вместе с первой мыслью об обиде или доброте, и являются элементом общего состояния сознания, которое можно обозначить либо как идею, либо как эмоцию, в зависимости от того, какую цель мы преследуем. Оправдание или объяснение, которое здесь предполагается, исходит из представления здравого смысла об отношениях между людьми, а оно опять-таки построено на восприятии раздельности между ними, что не может быть зачтено при анализе рассматриваемых эмоций в их происхождении или простоте.
Есть еще одна пара эмоций, оригинальность и спонтанность которых выставляется в ясном свете этим анализом, эмоций, которые тесно связаны с теми, которые мы только что привели в пример, и составляют с ними часть симпатической и антипатической антитезы. Я имею в виду чувства, возникающие при восприятии справедливости и несправедливости, или, говоря обычным языком, чувство справедливости и несправедливости. Это личные эмоции, когда термины «справедливость» и «несправедливость» употребляются в их собственном смысле, то есть когда отношение, являющееся особым объектом или рамкой эмоции, воспринимается как существующее либо между людьми, либо между собственными действиями человека и их последствиями, о которых он судит сам. Например, я испытываю чувство справедливости, когда в сделке между мной и другим человеком, в отношении которой обе стороны являются свободными агентами и обладают равной властью, я могу представить свое исполнение точно соответствующим моему обещанию, а также могу думать о другом человеке как о представляющем его в том же духе. Точное соответствие ожидания и исполнения, представленное в виде, воспринимаемом обоими лицами одинаково, в вопросах, где оба являются свободными и равными агентами, является сущностью отношения справедливости; несоответствие между ними, при тех же обстоятельствах, несправедливости.
Так же обстоит дело и в делах, имеющих самостоятельное значение; например, если я сознательно совершаю глупый поступок под давлением какого-то настоящего удовольствия, а за ним следует ожидаемое последствие, я чувствую соответствие между моим поступком и его последствием и признаю справедливость возмездия. Если же по какой-то случайности я избегаю последствий, я списываю это на удачу, которую я бы назвал несправедливой пристрастностью, если бы мог рассматривать агентство как личное. Но в подобных случаях я сам занимаю позицию другого человека в сделках между двумя; и моя справедливость или несправедливость состоит в том, чтобы осудить или оправдать себя за глупость в действиях, которые я совершил, когда я оглядываюсь на них в ретроспективе. Я несправедлив, если не признаю и не сожалею о совершенной мною глупости.
Но хотя чувство справедливости и несправедливости в собственном смысле слова применимо только к отношениям между людьми, само отношение, составляющее основу этого чувства, уходит корнями в образы, которые не являются строго личными, а предшествуют восприятию людей в полном смысле этого слова. Это отношение заключается в воспринимаемом равенстве, одинаковости или равновесии между любыми двумя объектами или событиями. Именно это обстоятельство и связанное с ним эмоциональное удовлетворение придают отношению, где бы оно ни обнаруживалось и, следовательно, когда оно переносится на личные отношения, характер окончательного стандарта, не подлежащего обжалованию, и, следовательно, обеспечивают ему положение одной из основных форм, принимаемых нашим восприятием морально правильных действий, тем самым гарантируя ему одобрение совести, о чем будет возможность подробнее рассказать в одной из последующих глав. Установление справедливости между человеком и человеком состоит в согласовании взглядов, которые каждый из них имеет относительно нее, в сделке, которая является предметом общего знания для обоих. Может оказаться, что это установление осуществляется с трудом или вообще не может быть осуществлено. Но это ни в коей мере не меняет ни природы справедливости, ни чувства радостного согласия, с которым мы ее воспринимаем, ни того, что мы искренне считаем ее реальным присутствием. Когда обе стороны сходятся в одном мнении, обе они одинаково удовлетворены, равенство, одинаковость, равновесие требований обеспечены, и нет места для дальнейших уклонений с обеих сторон. Эмоции, как уже говорилось, – это особые способы ощущения, принадлежащие рединтегративному сознанию, аналогичные различным способам ощущения; и из этих последних некоторые являются конечными, а другие – модификациями или производными от них. Так же обстоит дело и с эмоциями, отделенными от тех корней, которые они могут иметь в удовольствиях и боли чувства, и рассматриваемыми исключительно как ощущения рединтегративных органов. В этом смысле одни эмоции являются конечными и неразрешимыми, а другие – производными и разрешимыми, но только из эмоций и в них. Все они одинаково возникают в процессе репрезентации, пронизывая и окрашивая образы, из которых она состоит. В то же время, хотя некоторые образы или идеи необходимы как основа или объект, как это называется, для различных эмоций, эмоции в значительной степени безразличны к конкретным образам, которые время от времени служат им основой. Как чувства, они имеют один источник в удовольствиях и боли чувственных представлений; но источник образов, которые являются их каркасом, лежит просто в чувственных представлениях. Образность, таким образом, является неотъемлемой частью знания и подвержена его изменениям, росту, отказу от него и развитию. Эмоции – это часть и часть чувства, и их изменения, рост, отказ и развитие происходят по несколько иным законам. Они представляют собой нечто гораздо более фиксированное и стабильное, чем образное мышление, которое меняется с ростом знаний. Их изменения, насколько они присущи, – это изменения в интенсивности, в утонченности, в развитии тонких оттенков чувств, в сложности смешения, противопоставления и так далее. Развитие эстетического чувства к красоте и величию природных пейзажей – хорошо известный пример. При реинтеграции два элемента – образ и эмоция – располагаются несколько свободно друг от друга, меняясь с разной скоростью и скользя как бы по параллельным канавкам. По мере того как наши образы меняются вместе с нашими знаниями, мы переносим наши эмоции, с определенными изменениями, на новые образы и отстраняем их от старых, ставших устаревшими и неправдивыми.
Считается, что на начальном этапе своей эволюции человек олицетворял почти все природные объекты, которые имели или казались имеющими отдельное существование, – горы и реки, небо, небесные тела, землю, океан, ветры, бури, скалы и деревья. То есть он ложно представлял их субъектами, обладающими чувствами и идеями, аналогичными его собственным, которыми, как он полагал, руководствуются их действия, какими бы грубыми ни были его представления о личности. В этом не было никакой поэзии; это была самая ранняя гипотеза науки. И в самом деле, одним из первых отдельных материальных объектов, с которыми вступает в контакт младенец, и тем, с которым он наиболее тесно и постоянно связан, является человек, а именно его мать, из груди которой он черпает пищу. Помимо собственных ощущений, у него есть и другие примеры, которые приводят его к первой грубой концепции природы всех отдельных материальных объектов, а именно как существ, наделенных личностью. Когда поэты подхватили эту идею, это стало свидетельством того, что от ее истинности, по крайней мере, частично отказались; ведь только тогда к ней можно было относиться достаточно отстраненно и безразлично, чтобы позволить играть с ней как с источником чисто воображаемого удовлетворения. Поскольку частичное расхождение между эмоциями и образами является важным моментом, возможно, будет целесообразно сказать еще несколько слов в его разъяснение. В книге I. было обнаружено четкое различие между формальными и материальными элементами восприятий, то есть между длительностью и местом во времени, фигурой и расположением в пространстве (которые являются формальными элементами), занимаемыми любым ощущением, включая удовольствие или боль, и ощущением, которое занимает эту временную и пространственную область (ощущение является материальным элементом). Соответственно этому в рединтеграции мы имеем различие между образами, которые состоят из репрезентаций чувственных представлений во всей их полноте, что является аналогом формального элемента, и эмоциями, которые наполняют или пронизывают эти репрезентации и являются аналогом материального элемента в чувственных представлениях. В предыдущем разделе данной главы также отмечалось, что мы можем реинтегрировать ощущения, включая их удовольствия и боли, исключительно как часть образного представления, не испытывая удовольствия или боли от эмоций, связанных с удовольствиями или болями от ощущений, включенных в образное представление. В рединтеграции образность будет сопровождаться собственными эмоциями, вытекающими из нового контекста, в котором она будет появляться.
Соответственно, с этим переходом к рединтеграции и аналогичным различием между образностью и эмоциями, также появляется определенная степень независимости между материальными и формальными элементами в рединтеграции, по сравнению с отношением между соответствующими элементами, как они появляются в смысловом представлении. Элементы обоих видов, правда, одинаково необходимы, как и прежде, для того, чтобы составлять любой и каждый момент конкретного сознания. Но происходит, так сказать, смещение конкретных элементов, составляющих моменты сознания, когда мы переходим от процессов, включающих представления, к процессам чистой реинтеграции, в которых также продолжается то же самое явление. Причина этого, по-видимому, заключается в следующем. Эмоции обусловлены развитием, осуществляемым рединтегративными органами, удовольствия и боли, присущих материальному элементу ощущений-представлений. Особые качества эмоций порождаются непосредственно и сразу же деятельностью рединтегрирующих органов и лишь косвенно и отдаленно – образами, которые представляют чувственные репрезентации во всей их полноте. Эмоции, таким образом, являются непосредственными способами ощущения мозга, возникающими действительно на основе представлений образов, но не обязательно или исключительно привязанными только к одному образу или набору образов. Образ содержит в себе как формальный, так и материальный элемент, происходящий от представлений чувств, но эмоция – это только материальный элемент, и она не может существовать сама по себе. Это материальный элемент нового рода, добавленный в процессе реинтеграции, на образность которого она опирается как бы для поддержки. Таким образом, всегда существует некий образ, к которому привязана эмоция, но этот образ не всегда один и тот же.
Скорость изменения этих двух элементов, образа и эмоции, также не одинакова, если рассматривать их в масштабе исторического развития. Первый элемент меняется гораздо быстрее, чем второй, поскольку сразу же зависит от роста приобретенных нами знаний; второй меняется медленно, поскольку зависит от развития и модификации конечных способов ощущения, присущих самой мозговой субстанции. Постоянное изменение характера эмоций или развитие нового вида или разновидности эмоций потребует соответственно постоянных изменений в структуре или способе функционирования мозговых органов. Это полностью согласуется и может служить частичным объяснением того, что уже давно признано фактом: быстрый рост интеллектуальных знаний человека и его научного владения природой по сравнению с медленным прогрессом, который он делает, и частыми регрессиями, жертвой которых он становится, в отношении моральных склонностей и силы морального характера. Покойный Г. Т. Бакл, настаивавший на этом факте в своей памятной «Истории цивилизации в Англии», несомненно, покажет себя некоторым из моих читателей. В заключение этой, боюсь, несколько утомительной главы следует сказать несколько слов о том, что эмоциям обычно приписывают характер мотивов, целей или источников действия. Необходимо еще раз напомнить, что эмоции сами по себе не являются ни мотивами, ни целями, ни источниками действия, но свидетельствуют о том, что в действительности они являются движущей силой. Они являются зависимыми сопутствующими факторами нервных действий или процессов, которые приводят к действиям, о которых обычно говорят, что они сами дают начало. Эмоции кажутся носящими этот двигательный характер, потому что мы привыкли смотреть, думать и говорить с точки зрения Эго, принимаемого в качестве реального агента. И это опять же естественный и спонтанно принятый здравым смыслом взгляд, потому что при рединтеграции мы не сразу и не одновременно осознаем реально действующий нервный механизм, и в то же время действия, которые совершаются, кажутся немедленно вызванными чем-то внутри субъекта, а не объектами, на которые они направлены; то есть не вызваны предварительным восприятием этих объектов, а воображаются и выполняются в результате представления или воображения их. Таким образом, здравому смыслу кажется, что они исходят непосредственно от нас самих, то есть либо от наших чувств, либо от наших воль, как единственных мотивов, которые мы непосредственно осознаем. Как уже говорилось, в этом способе говорить нет ничего плохого, пока он тщательно ограничивается сферой здравого смысла и не принимается за истину философии или науки.
Глава II. Законы ассоциации
§1. Спонтанная реинтеграция, как ее анализировать
Задача, стоящая перед нами, обозначенная предварительным анализом, приведенным в предыдущей главе, заключается в анализе поездов чисто спонтанной рединтеграции с целью обнаружения общих законов, которым они следуют в своем составе, или, другими словами, общих единообразий, наблюдаемых в различных их случаях. Поскольку все эти поезда являются составными частями одного большого потока или движущейся панорамы сознания субъекта, когда оно отступает в прошлое памяти от любого данного настоящего момента, который, как уже говорилось, всегда является моментом, занимаемым самим сознающим субъектом, мы можем сказать, что вся эта движущаяся панорама сама по себе косвенно является нашим объектом. Но в настоящее время мы непосредственно занимаемся анализом только одного вида ее компонентов, а именно, ее поездов спонтанной реинтеграции. Связь их с двумя другими – представлениями чувств и волениями, которые являются, так сказать, их точками отправления и прибытия, а также связь их с нейроцеребральными процессами, которые являются их реальными условиями, всегда должна быть в поле зрения; но наш анализ будет направлен только на единообразие, проявляемое самими процессами спонтанной реинтеграции, причем это единообразие является тем, что правильно подразумевается под термином «законы ассоциации».6
Этот метод рассмотрения явлений рединтеграции отличается в трех важных пунктах от общепринятых, несмотря на то, что они могут отличаться друг от друга во многих сравнительно незначительных пунктах. Он отличается (1) тем, что сохраняет поезда сознания, которые являются анализом, отличным от их ближайших реальных условий, в то же время апеллируя к их зависимости от них, когда любая гипотеза относительно законов, которым следуют поезда сознания, должна быть либо поддержана, либо опровергнута; (2) в выделении для непосредственного анализа рединтегративных процессов из их оснований в смысловых представлениях и из их результатов в трансовых действиях, хотя и оставляя за собой право апеллировать к ним в поддержку или нападение на гипотезы; и (3) в начале отдельного рассмотрения спонтанной рединтеграции, как самого простого из ее подразделений, проще, то есть, чем добровольная рединтеграция, в отношении отсутствия избирательного и целенаправленного внимания к ее содержанию. Без спонтанной реинтеграции как основы волевая не могла бы возникнуть, поскольку для воли не было бы содержания, на котором она могла бы настаивать или которое могла бы отвергать. То, что законы ассоциации, как их правильно называть, являются законами только спонтанной, а не волевой реинтеграции, станет очевидным в настоящее время.
Эти моменты обычно, если не повсеместно, игнорируются в качестве правил и гарантий анализа при рассмотрении темы рединтеграции. Их принятие исключается отчасти эмпирической тенденцией рассматривать сознательное существо как целое в его отношениях к окружающим его вещам и людям, а отчасти практической тенденцией рассматривать рединтегративные процессы не сами по себе, а как средства объяснения построения ткани знания, с одной стороны, и опосредования и направления явных действий, речи и поведения, с другой. Есть и еще одна причина, которая, если и менее глубоко укоренилась, чем эти, то в то же время является той, о которой не так легко заявить. Она заключается в нежелании как трансценденталистов, так и психологов, придерживающихся традиционных методов, сталкиваться с вопросом, существует ли вообще такая вещь, как Исинда или Психическая Энергия; и, следовательно, они уклоняются от любой попытки отличить одну из них от сознания.
Это нежелание они обычно скрывают от наблюдения под предлогом, что, хотя реальность разума и психической энергии признается всеми, их конечная природа – это вопрос для метафизиков и никоим образом не касается их как психологов. Но в этом предлоге забываются две вещи: во-первых, что реальность разума и психической энергии не является общепризнанным фактом, а оспаривается физиологическими психологами строгой школы; и во-вторых, что от них как психологов требуется не определение конечной природы разума или психической энергии, а внятная концепция их, показывающая, по крайней мере, их возможность как реальных агентов, какая-то концепция их, которая должна стоять на такой же научной и феноменальной основе, как внятная концепция, которую физики создают о материи. До тех пор, пока такая внятная концепция разума и психической энергии остается желаемой, те, кто говорит о них как о реальности, могут считаться стоящими только на почве донаучного здравого смысла, а не в какой-либо степени на почве психологической науки, основной целью которой является открытие реальных условий сознания как существа и законов, по которым они действуют, обусловливая его. Последнее невозможно без первого. Таким образом, данный предлог является пустым. Но он также презрителен, как попытка переложить собственную работу на другие плечи. Он также злонамерен, поскольку служит для укрепления того ложного представления о природе и сфере применения Метафизики, на которое он опирается в своей правдоподобности. Тщетно, и даже хуже, чем тщетно, доискиваться до сущностной природы и законов сущностей, для возможности которых нет никаких доказательств. Совсем иначе обстоит дело с телом и вообще с материей. То, что объекты, соответствующие этим названиям, не только возможны, но и реальны, доказывается доказательствами самого ясного рода. Пусть психологи докажут то же самое, если смогут, в отношении психической энергии или разума.





