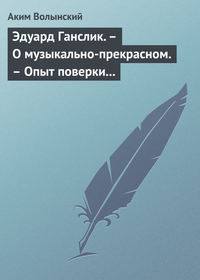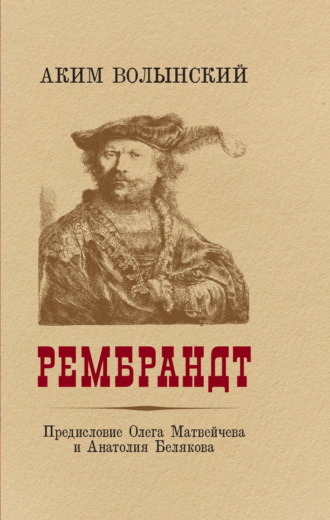
Полная версия
Рембрандт
Обращаясь к шляпе Рембрандта, мы должны сказать, что она так особенно бросается в глаза именно по изложенным причинам. Она для этой головы не органична, что особенно рельефно выступает в офортах, где идейная сторона преобладает над живописною. С самых ранних лет, ещё не покинув лейденского своего местожительства, Рембрандт возится с этою деталью своего туалета, примеривая к голове шляпы всевозможных видов и образцов. То шляпа на нём упрощенной формы, пухлая, тяжелая, пушистая, из странных, малопонятных волос. Перед нами пять оттисков офорта с такою шляпою, необычайно отяжеляющею лицо. Под грузом этой шапки лицо теряет свою интеллигентность и заметно грубеет, точно это не гениальный Рембрандт, а подлинный сын мельника. Ещё брутальнее выглядит физиономия Рембрандта на нескольких офортных оттисках, относящихся к тем же ранним годам его деятельности. На нём опять-таки пушистая, квадратообразная, мягкая шляпа с глубоко-положенным каналом. Лицо окончательно изменилось. Из-под правой ее стороны выбегают волосы длиннейшими волнистыми прядями, простираясь ниже плеч. Нос страшно огрубел. Губы сложились резко и жестко. Глаза едва видны в глубокой тени, бросаемою шляпою. Это лицо, скорее, подозрительного какого-то проходимца, разбойника или контрабандиста. Если это не маска лицедейного преображения, то мы имеем тут дело с простым эффектом экстравагантной шляпы на голове, видоизменяющей всю внешность человека. На пяти других маленьких офортах новая шляпа – низенькая, ермолкообразная, подорожного типа. Волосы из-под неё выбились со всех сторон, но уже не поражают длиною. А лицо с оскаленным ртом – из пьяной голландской таверны.
Ещё несколько автопортретных офортов, обращающих на себя особенное внимание. Один из них представляет Рембрандта с шарфом на шее. Низенькая шапка, круглая и мягкая, надвинута совершенно на правый бок. Левая вся прядь волос – богатая, пышная, огненно волнистая, во всей свободе расположилась на голове, захватив спину. Шапка сдвинута на бок с тою целью, чтобы открыть простор этим великолепным волосам. Глаза обращены полутрагическим контрпостным движением вбок, что придает всему лицу выражение сосредоточенно-настроенного заговорщика. Еврейского во всём этом ужасно мало. Перед нами чистейший маскарад экспериментирующего художника и летца, обладающего талантом бесконечной перевоплощаемости. На другом офорте Рембрандт представил себя соколиным охотником, с соколом, сидящим на руке. Офорт относится к 1633 году, когда Рембрандт успел уже врамиться до известной степени в быт и жизнь амстердамской буржуазной среды. Летц видит себя ловцом зверей, в шляпе с большим пером, с широко по бокам распущенными волосами. Хотя всё это вместе взятое, во всей своей нарочито сумбурной беспорядочности, ужасно мало к нему идет. Дух Рембрандта прямо блекнет под этими тяжестями. Наконец, мы имеем в разных состояниях – прекрасный офорт, изображающий Рембрандта в изящно накинутом плаще, в белом гофрированном воротнике и с мягкой полукруглой шляпой на роскошных каскадных волосах. Рука затянута в перчатку. Вся фигура производит впечатление нарядного голландца, одетого по фламандской моде, в духе блистательного Рубенса или элегантно-благородного Ван-Дейка. После всех рассмотренных нами трансформаций, производит успокаивающее впечатление. Общие еврейские черты физиономии Рембрандта проблескивают с полною отчетливостью. Хотя и являясь в доспехах настоящей ассимиляции, художник не теряет своего еврейского подобия и только отдает щедрую дань габиме, эксперименту и лицедейному шутовству не покидающего его летца. Такого лицедейства не знал Леонардо-да-Винчи и тогда, когда карандаш его тоже экспериментировал над своим и чужим лицом. Именно летца в нём не было.
7 июня 1924 года
Смех Рембрандта
Мы имеем набросок Рембрандта смеющимся. Портрет относится к 1633 году и хранится в парижской коллекции Варнека. Исследователи отмечают явно возросшее в этюдном портрете искусство художника. Но если оставить в стороне вопрос о совершенстве техники и взглянуть на самое содержание холста, то придется сказать, что представленный смех производит почти отталкивающее впечатление. Смеющийся Рембрандт антипатичен. Вообще натуры не цельные, недостаточно гармонические, лишенные детской чистоты и простора, смеются надрывным смехом, никого не заражающим и никого не восхищающим. Так смеется у нас в России Владимир Соловьев – с отвратительным визгом и гримасоподобно. Пассовер только улыбается. Я никогда не видел его смеющимся и не мог бы себе даже и представить его хохочущим. Едва ли Достоевский красиво смеялся, хотя никто, как он, ценил фонетику смеха и его душевные корни. Не смеялся также, если судить по легенде, Христос, даже не улыбнувшийся ни однажды. По страницам Евангелия ни разу не проблеснул светлый смех. Но Пушкин, цельный, гармоничный и всегда законченный, не только смеялся, но и хохотал навзрыд, увлекая за собою всех. Смех выплескивается из открытых дверей открытой души, а не через щелочку души затворенной. Возвращаясь к Рембрандту, отметим ещё и то обстоятельство, что, кроме натуры дисгармоничной и замкнутой, не располагавшей к смеху, он являл собою экс-периментующего летца. А что может быть противнее улыбки не натуральной, деланной и притворной? Я оставляю совершенно в стороне вопрос о том, что в живописи, и даже фотографиях, невыгодно изображать быстро преходящие движения, закрепощение которых, дольше определенного момента, создает гримасу. Смех мгновенен, и в пределах даже секунды играет и изменяется. Как же можно такому динамическому факту придать статичность на все времена? Вот почему смех Рембрандта в живописных самоизображаниях сугубо неприятен. Рот раскрыт. Зубы иногда оскалены. Широкий нос раздулся. Лицо потеряло всякую культурность. Глаза, столь замечательные и ясные, убежали в узенькие щелки. Так и слышишь брызг не совсем опрятного хохота, с оттенком показной ассимиляции с окружающей пьяной средой. Не забудем, что Рембрандт в самые ранние свои годы попал в среду амстердамских кутил и собутыльников, которым невольно должен был подражать юноша, по всему своему типу, весьма и весьма пригодный для самозабвенного отсиживания синагогальных скамей. Черты льстивых габим в освободительную революционную эпоху голландской жизни были особенно завлекательны для такого человека, каким был молодой Рембрандт. Экспериментатор в нём смешивался с летцом, художник кисти – с исключительным талантом глубочайшего философа, чуть ли ни богослова. Две сочетавшихся в нём стихии, преемственного Синая и бегущей мишуры исторического дня, создали трагический надрыв, из которого волчьим воем вырывалось насильственное гоготание. Смешные маски, которые человек этот надевал на своё лицо, в высшей степени неприятны.
В июне месяце 1634 года Рембрандт женился на Саскии Уйленбург. Это была богатая девушка, внесшая в жизнь художника многообразные удобства и элемент настоящей чувственной любви. К первым же годам женитьбы Рембрандта относится картина, находящаяся в Дрезденской Галерее. Картина эта изображает самого художника с Саскией, сидящей у него на коленях. И Рембрандт, и молодая жена его повернули головы резким контрпостным движением в сторону предполагаемого входящего посетителя. Рембрандт мягко обнял Саскию за талию левой рукой, подняв в правой руке высокий бокал с вином. Такова картина в целом, и великолепие её увеличено веерообразным павлиньим хвостом в правой руке Саскии. Веер этот простерся цветным и праздничным орелом над белым пером шляпы Рембрандта.
Производит ли эта картина со своими живописными деталями завлекательное впечатление? Мне кажется, что решительно нет. Подходишь к ней и отходишь от неё с звонкой сенсацией в душе, но без трепета тонкого эстетического нерва. Тут все элементы веселой интимной пирушки налицо, но нет синтетической певучести, заглавной темы глубокого и настоящего эротического переживания, в котором черта скромности и общечеловеческой благопристойности играет всегда выдающуюся роль. Нельзя сделать заглавным титулом картины деталь сексуальной перипетии. А это именно и сделано в картине. Что, может быть, удалось бы Франсу Гальсу или Яну Стону, то болезненно отвращает от себя в применении к Рембрандту. Хотя остроумный летц и переоблачил себя в голландского офицера утихшей революционной эпохи и придал своему лицу выражение веселой экстатичности, но глаз зрителя всё-таки не удовлетворен. Неприятны выпяченные глаза Рембрандта, неприятна улыбка, отдающая цинизмом, и только белая рука, безмятежно положенная на талию Саскии, проливает некоторое успокоение. Контропостный поворот головы кажется искусственным. Наконец, сидение на коленях Рембрандта производит во всей позе Саскии не вполне натуральное впечатление. Если человек посадил женщину на колени и если никого при этом нет в комнате, то вряд ли он будет картинным жестом поднимать кверху бокал с вином. Он или приблизит бокал ко рту или поставит его на стол и займется женщиной. В картине Рембрандта лицедейская нарочитость летца доминирует над всем. Всё выставочно, всё напоказ. Это и отвращает от картины, писанной Рембрандтом в годы упоения сенсуальными страстями. Все нидерландизировано, стилизовано под чужой образец, но на самом же деле – лица еврейские, абсолютно не гармонизирующие с бутафорией и со всем представленным спектаклем.
Это особенно чувствуется по прелестному личику молодой жены художника, может быть, единственно красивому женскому личику, которое изобразила его кисть. Она слабенько смотрит полунапуганными глазами, лишенными всякой оргийности. Поворот её головы хотя и довольно резок в своей дуге, но сам по себе мягок, плавен и безгреховно сладостен. Она и сидит на коленях Рембрандта не так, как сидят куртизанки, обнимающие мужские ноги всею полнотою своих форм. Не только куртизанки, делающие своё дело привычно и почти профессионально, но и вообще новоарийская женщина в этом отношении сексуально сообщительна и экспансивна. Она знает всю гамму телесных соприкосновений, практикуя её свободно и непринужденно. Не такова еврейская женщина, лишенная сладострастной романтики. Саския сидит у Рембрандта на коленях почти неощутимо, попирая и загромождая его ноги складками тяжелого пышного платья и ничем решительно не давая ему никаких острых и волнующих впечатлений. Все только спектакль наружный и поверхностный, аранжировка летца, без единого эротического отклика, безо всякого сексуального оправдания. Картина очень прославлена в широкой публике. Но тонкие ценители искусства и фанатические любители Рембрандта вряд ли ею когда-либо серьезно увлекались и увлекаются в настоящее время.
Основная фальшь темы видна и совершенно гармонирует с неискренностью рембрандтовского смеха.
Перед нами картина аллегорических детерминативов. Какой уж Рембрандт офицер? Какая Саския гетера? Чем спасает всю эту несообразность павлиний хвост, выписанный довольно детально? Декоративная птица на блюде – тоже только детерминатив. Высоко поднятый в воздухе бокал с вином довершает расписанную комедию веселья последним вычурным штрихом. Wein, Weib und Gesang[53] являются тут только простою аллегорией – и ничем другим.
8 июня 1924 года
Скрипка Элогима
Имеется лондонская картина Рембрандта, в Букингемском дворце, представляющая контраст только что рассмотренной дрезденской картине. Саския изображена у туалетного стола, примеривающею разные драгоценные уборы к своей голове. Превосходно переданным движением рук она оправляет серьгу, чтобы лучше рассмотреть её отражение. Рядом с нею стоит Рембрандт, держащий наготове крупную жемчужную нить. Есть что-то в этой картине семитически-еврейское и мягко-певучее в скрипичном тоне. Всё кругом спокойно и покойно, всё дышит приятною невозмутимостью семейной жизни. Но в любовании Саскии драгоценными камнями ощущается такая интенсивность, какая присуща именно еврейской женщине. Дочери Израиля питают настоящий культ драгоценных камней. При этом камни заботят их не столько, как украшение, но сами по себе. В таких камнях что- то переливается, сияет и играет, находя консонанс в душе смотрящей женщины. Все женщины в мире в большей или меньшей степени растения и цветы, все женщины, кроме евреек, которых хочется уподобить ничему иному, как именно драгоценным камням их субботних уборов. Под густым праздничным покровом, их тяжелых брокатных или бархатных материй, очертания тела совсем не видны. Перед вами стоит и ходит живой гардероб. Только самоцветные камни, жемчуг и бриллианты сверкают и мерцают на пышных тканях. Еврейская женщина выхвачена из природы и освящена. Мораль густит её, и к каким-нибудь тридцати годам, имея уже двух, трех детей, она являет собою большой кусок неподвижного камня. Вся Библия усыпана такими подобиями. Рахиль, Ревекка, Сарра, Суламифь и Эсфирь – неужели это произведения Флоры? Той мягкой растительности, той расплавленной пластичности, которые ощущаются в женщинах иных народов, мы в них не находим. Приходится разве лишь подумать о Ниобее, окаменевшей от горя, чтобы образно представить себе душевные облики этих чудесных женщин. Даже жена Лота, оглядываясь назад в нарушение божественного веления, обращается в каменный столб, а не в растение, как Дафна, отвергшая Аполлона. Дебора почти камень стенобитного орудия. А Юдифь, идущая в лагерь к Олоферну не стальная ли стрела, пущенная народом в сердце врага? Все камни и камни на всём пути еврейской истории. Для самих евреев, особенно полу-габимского типа, они подчас становятся довольно тяжкими. В быту слишком мало цветов. Нет отдыха на мягкой травке, на нежной мураве домашнего быта, которая всегда к услугам новоарийской семьи. В объятиях европейской женщины человек чувствует себя, как будто в саду, среди цветочных гирлянд, открытых обозрению, осязанию и обонянию. Рядом же с еврейской женщиной у него ощущение чего-то сгущенно тяжкого и хлопотливого. Игры никакой, а только послушание заветам и велениям природы. Тут скрываются проекты и возможности событий величайшего исторического значения. Контрастные женские черты создают арену для габимных ассимиляций, запрещенных законодательством Моисея. Но история идет своими путями, более естественными, чем нормальными и еврейские камешки не в силах сдержать напора бегущей в даль нигилистической реки.
Возвращаемся к картине Рембрандта. Каким-то непонятным прямо-таки магическим штрихом художник явил нам каменную натуру еврейской женщины. Глядится в зеркало живой драгоценный камень, творящий литургию самоукрашения камнем же. Сам Рембрандт стоит около, вытянувшись во весь свой рост. Он почти не характерен сам по себе, несколько даже банален. Лицу не придано большого сходства с оригиналом. Рембрандт не согнулся, не направил на молодую жену своего восхищенного взгляда. Мысль его занята чем-то другим, Но картина всё-таки полна единой музыки, играемой для самого себя. Это чисто еврейская черта – играть для самого себя, для домашних, для близких, но не для толпы. Есть такие еврейские музыканты, которые не годны для оркестра: они слишком индивидуальны. Они не годны также и для шумных пирушек или свадеб: для этого они слишком меланхоличны. Такие музыканты играют только для самих себя, и игра их полна переливающихся слез, вздохов, ошибочных мечтаний и фантастических блужданий по самым неведомым краям мира. Такова скрипка Израиля: не всеспасительная, не освободительная, в европейском смысле слов, а покорительная и элогимная в таинственно гиперборейском значении этого понятия. Она и плачет неведомо для кого, торжествует талмудическим каким-то ликованием, имеющим на внешний взгляд почти эквилибристический характер. Но всё несется в горячем порыве вверх. Смотришь на невинную картину Рембрандта, и видишь скрипача, играющего на скрипке украшенным драгоценными камнями смычком. Выставки в картине никакой. Саския не любуется самою собой. Всё её внимание сосредоточено на жемчуге серьги, Этот жемчуг – центр картины. Сюда сходятся все радиусы изображенных на холсте мыслей и чувств. И хотя у критика нет никаких прямых указаний на то, что Саския и Рембрандт евреи, самая трактовка темы в высочайшей степени гармонирует с духом и типом израильских мотивов. Женщина превращена в камень, а созерцательный возлюбленный ушел своими мыслями в неведомые пространства.
Насколько Рембрандт выглядит в своих портретах симпатичнее и глубокомысленнее, если летц не экспериментирует особенно сложно над выражением своего лица! Мы имеем целый ряд таких портретов в Вене, в Париже, в Берлине, в Гааге, в Лондоне и в других местах. В частной коллекции барона фон Гутмана портрет Рембрандта дает нам типичного молодого еврея. Усы едва намечены. Опушен слегка подбородок. Но всё остальное в лице Рембрандта отсвечивает знакомою нам экспрессией. Портрет писан в год женитьбы на Саскии и во всём его habitus[54] чувствуется некоторая рождающаяся солидность. Рембрандт всегда был смычком в руках своего духа. Сейчас этот смычок упитан канифолью и готов к серьезной игре. В Луврском портрете Рембрандт очень наряден, облачен чуть ли ни в бархатный костюм с драгоценною цепью, накинутою на грудь. Но лицо, слегка приукрашенное, всё то же и то же. На двух других портретах 1633–1634 года художник представлен всё в том же типе, с налетом голландской военщины, мало, в сущности, идущей к лицу Рембрандта. Это портреты, по-видимому, лицедейные, со всеми онерами внешнего праха и блеска. На луврском портрете 1633 года даны однако вертикальные на лбу складки, которые бесконечно дороже всей орнаментальной суеты. Представлено что-то помпезное, но с портрета глядит нам в глаза думающий семит, с мгновенным налетом габимы. Следуют затем и явно габимные трансформации того же лица. Рембрандт то вельможа, то офицер, то знаменосец в пышном султане, то просто амстердамский франт, женатый, богатый, могущий себе позволить большую роскошь в одежде. Все эти портреты простираются до 1638 года и знаменуют одно и то же явление: Рембрандт ассимилируется с окружающею его жизнью, перелицовывает себя на всевозможные лады, но расовые черты продолжают сквозить через искусственные напластования эксперимента и щегольства. Под боевою каскою виден всё тот же человек, которому библия в руке шла бы гораздо больше, чем шлем на голове. Особенно прекрасен Рембрандт, когда лицо эго молчит. Можно молчать и молчать. Под иным молчанием стелется пустота: холодно и беспредметно. Даже инстинкты молчат, всё оцепенело в безжизненной апатии. Но бывает молчание, где зреет дума, где ветер колышет спелые колосья на всём безграничном поле засеянной души, – молчание активное, богатое, содержательное, чреватое будущими делами. Человек молчит, а всё кругом уже как будто бы кричит. Такое молчание, хотя и в первоначальном намеке, мы и наблюдаем иногда в автопортретах рассматриваемого периода. Женатый Рембрандт о чём-то глубокомысленно думает, со всею страстью, свойственною семитической натуре.
9 июня 1924 года
Средний регистр
На среднем регистре смычок, захватывая две струны, дает звуки аккордов полных, гулких и сочно-компактных. Такими именно аккордами и была полна недолгая жизнь Рембрандта вместе с Саскией в Амстердаме. Но и гармоника лица играет в такую эпоху на средних октавах, полнозвучных и богатых воздухом. Всё складывалось в жизни Рембрандта довольно благополучно, были в ней и материальный комфорт и теплота хорошей привязанности с оттенком романтического ухаживания за молодою красивою женщиной. Но годы творчества для большого таланта полны внутренних тревог, которых не преодолеть ничем. Я держусь своей гипотезы. Если Рембрандт еврей по происхождению, то всё в окружающей его жизни и собственный его обиход, так или иначе прилаженный к местной обстановке, должны были находиться в дисгармонии с основными склонностями его духа. Голландская культура несмотря на её германские корни всегда была лишена глубокомыслия. Тяжеловатый флегматический оттенок в умственном складе голландского народа мог быть иногда принимаем за нечто созерцательное и в самом себе сосредоточенное, но это было только видом духовной конституции определенного типа и темперамента. Бурной жизни умственной здесь не замечалось, никогда, даже и в эпохи, когда голландская морская торговля завоевала мир и возбуждала тревоги Англии. В самых пирушках голландских, в высшей степени тяжеловесных и мужиковатых, не слышно легкого, остроумного юмора французов и сантиментальных вздохов немецкого студенчества. Можно в один день объехать эту микроскопическую страну, выпив утреннее кофе в Гааге, позавтракав в Гарлеме, пообедав в Амстердаме, чтобы затем опять ночевать в Гааге. По-на всём этом пути вы не найдете ни одного кабачка ни в Мюнхенском, ни в Нюренбергском типе. И замечательная вещь: повсюду вы встречаете здесь таверны простейшего вида, где вы вспомните не раз грубые оценки Ocmade, но дух Рембрандта совершенно отсутствует во всей стране. Он умер вместе с Рембрандтом раз и навсегда, и если Рембрандт в этом отношении не представляет собою единственного явления в целом мире, то он вполне и абсолютно исключителен для своей страны. Это одно обстоятельство уже дает право на построение самых смелых гипотез.
И так, жизнь Рембрандта в упомянутую эпоху должна была таить в себе общий какой-то недуг. Приходилось ему вталкивать насильственно всю свою психологию в чуждые рамки чуждого быта. Необходимо было расширять свои материальные средства, превратив ателье художника, весь свой дом, в торгово-промышленную контору, где, под общею фирмою Рембрандта, многочисленные ученики сбывали произведения своих рук, по которым только прошлась ретуширующая кисть мастера. Возможно, что в громадном числе картин, приписываемых Рембрандту, много произведений Боля, как на этомне без фактических оснований настаивает Лаутнер, но не подлежит сомнению, что концепции всех таких композиций принадлежат всё-таки Рембрандту, ему одному, его исключительному творческому гению. Тут что-то слышится в высшей степени иудейское и типичнейшее для еврейского народа. Создать мысль, однажды высказать её в импонирующей форме – это совсем по-еврейски. Но наполнить этою мыслью десятки томов, разметать и размазать её во всевозможных вариантах и отражениях – это уже дело иного духа. Под гипнозом такого человека, как Рембрандт, особенно когда он вошел в среднюю, максимально плодотворную фазу своей жизни, могли работать целые школы. Материально не всё, продававшееся под ярлыком Рембрандта, могло быть подписано его именем. Но духовно всё это было его несмотря на то, что художники вроде Боля, Ливенса, Флинка сами по себе обладали выдающимися талантами. Так работал в эту эпоху великий Рембрандт. Сея кругом идеи и офортируя без конца, уступая то и дело кисть и иглу разным ученикам и подмастерьям, он переходил от одной темы к другой, повсюду внося свою исключительную точку зрения, свой рационализм, свою апперцепцию.
В таких условиях лицо художника должно было претерпеть большие видоизменения. Из гармоники, полнозвучно игравшей в среднем регистре, начинают вырываться протяжные звуки – меланхолические и непреодолимо тоскливые. Такую гармонику видим мы перед собою, разглядывая один из автопортретов Рембрандта 1638 года. Лоб уже бороздится намеками на будущие морщины. Шапка надета почти нормально, только слегка откинутая на бок. Прежнего щегольства с оттенком хохочущего летца не видно. Лоб таков, что хочется на него смотреть и смотреть: так он серьезен, содержателен и явно символичен для каких-то больших мыслей. В глазах под этим прекрасно моделированным лбом ощущается след психического утомления. Они остановились в раздумье на мокром месте, в скрытых слезах. Прежде они смотрели с серафическою ясностью куда-то вдаль, через головы и души людей. Теперь же они прониклись горестною житейскою мудростью. Всё кругом богато и пышно, а внутри неудовлетворенность и начинающийся разлад. Еврей живет страстями только поверхностно, и потому долгая его жизнь с женою на протяжении многих и многих лет, легко объяснима и естественна. Никаких трагедий на почве эротической, никаких конфликтов. Но если это талантливый человек, тронутый габимою, со склонностями к ассимиляциям, с тенденциозно развиваемым внутри дифирамбическим культом, он непременно вдается в излишества и через каких-нибудь несколько лет пошатнется и дрогнет во внезапном и великом утомлении. Как рано состарился Рембрандт! Средний регистр его творческих настроений обрывается иногда почти без переходов. Гармоника лица чуть-чуть дает уже складки, особенно около шеи, около юношеской линии, идущей от уха к подбородку. Уже нет прежней чистоты и упругости. Таков Рембрандт к тридцати двум годам цветущего человеческого возраста. Рубенс старел незаметно. У него не было никакого разлада со средою, где он жил царьком, но как первый из равных. И рембрандтовского срыва у него быть не могло. Рембрандт же, иной по духу, если не по расе, жестоко и преждевременно расплатился за все шутки летца и за всю габимную измену здравым нормам Синая.
На лондонском портрете 1640 года, в Национальной Галерее, Рембрандт сидит в важной позе, в широком, обшитом мехом плаще, опершись правою рукою на балюстраду. Шапка уже совсем спокойно насажена на голову, без малейшего оттенка былого фиоритурного не то озорства, не то щегольства. Лицо тоже спокойное. В усах, однако, при стилизованной моложавости физиономии, как будто бы уже мелькают отдельные седые волоски. Вся поза уравновешена серьезно и слегка торжественно, в ощущаемом гармоническом созвучии с подпольными основами духа. Такой человек может являться и летцом, но в основе своей это изысканно серьезная натура, всегда и во всём. Глава затуманены печалью, хотя и повернуты вбок любопытствующим контрпостным движением. Наконец, ещё два портрета эпохи среднего регистра, 1640 и 1643 года. В портрете, принадлежащем герцогу Гедфордскому, мы имеем настоящее великолепие в мужском облике. Точно человек переоделся для субботнего дня, смёл с себя прах недели и предстал перед глазами абсолютно чистый. Туалет и лицо находятся между собою в редком согласии, одно поет к другому протяжной баритональной октавою именно среднего регистра. Шею прикрыл стоячий меховой воротничек – и это ласково хорошо для созерцающего глаза. Чувствуется, что шея ласкается в пушистых волосах меха. Но воротник этот от внутреннего кафтана, на который наброшен большой, темный и пышный плащ, тоже ласково висящий на плечах художника. Бывают редкие случаи, особенно в мужском костюме, когда туалет живет и поет на человеке. Вот такой случай и сейчас перед нами. Рембрандт на этом портрете весь слился со своим костюмом и выставил из него свою голову, глаза – руки, выставил их из недр материи во славу духа. Мы не знаем жизни художника изо дня в день. Ни одна биография не может заглянуть в такую глубину, к тому же удаленную от нас на три столетия. Но всё-таки, вглядываясь в изображенные черты, в глаза, в склад широких губ, в рабочую руку, придерживающую меховой край плаща, чувствуешь в человеке минутную высокую гармонию, покрывшую спокойною мыслью треволнения среды и быта. Великолепнейший в художественном отношении портрет может служить иллюстрацией для конца периода жизни, охарактеризованного нами. Через два года по написании этого самоизображения Саския умерла, и в жизни Рембрандта начались иные течения и наметились иные пути.