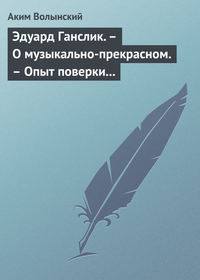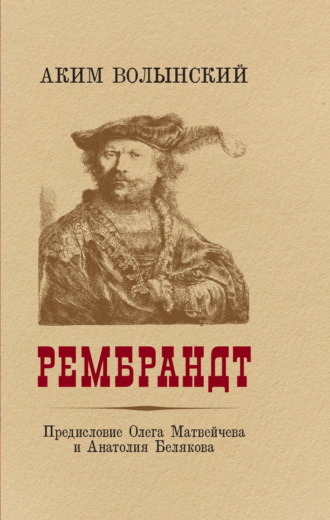
Полная версия
Рембрандт
Возвращаясь к лейпцигскому портрету, весьма замечательному в художественном отношении, мы начинаем ощущать в нём какое-то определенное содержание. Женщина вынула серьги из ушей, заплела волосы по-ночному, сняла с себя дорогое ожерелье. Сейчас сбросит она с себя тяжелый, шитый костюм и в рубашке направится к брачному ложу. Сколько святости во всех этих, в сущности, прозаических, обескрашивающих ⁄ разоблачающих, а не наряжающих. Человек идет к своему естеству, а не на бал. В таких чистых, безыскусственных формах проходит перед нашими глазами весь пророческий процесс библии, с его славными пастушескими романами и здоровой сердечностью сближающихся между собою полов. Чистота сексуальных отношений тускнела с годами. Габима вливала в это русло свои яды. Но ещё деды и прадеды наши рождались в условиях благочестного сотрудничества мужчины с женщиной, в благословенной атмосфере духовных воздействий синагоги, предания, общественного мнения и теплого сердечного внимания родных и соседей. Теперь раскрыты настежь все окна, врывающиеся ветры развевают все древние священные покровы. Христианский альков стал предметом чуть ли ни скандальной хроники дня. Но в иные времена всё тут было окружено молчанием и тишиной, хотя девическая честь ограждалась от всякой сплетни чуть ли ни задним числом, и всенародным ритуалом. Мать приходит к молодоженам в утренний час, для осмотра белья новобрачной, и радостная уходит к соседям, чтобы возгласить чистоту своей дочери до брачного союза. Она отдала потоку истории неповрежденное первозданно чистое существо.
В Стокгольмском портрете той же девушки она вся представлена в пышном наряде. Если лейпцигский портрет представляет собою ночь, то этот портрет мог бы быть назван олицетворением дня. По лицу разлился утренний свет, туалет заботливо закончен, надеты все драгоценности, великолепно украшен головной убор. В руке светло мерцающая резная, изукрашенная рукоятка веера. Это утро солнечного дня. На портрете так называемая сестра Рембрандта представлена с легким оборотом головы влево. Всё та же девушка. Всё те же соломенно светлые волосы, оттененные едва приметным головным убором. Убор этот скрывается в тени. На груди ряд бус и нитей. Выражение лица, глаза и уши – все знакомого нам типа. Два дивных портрета этой девушки в Париже и в Лондоне ничего не прибавляют ко всему сказанному. Но семитические черты девушки из года в год выступают в изображении Рембрандта всё рельефнее и рельефнее. На лондонском портрете, из коллекции Робинсона, перед нами молодая, пухленькая, с надутыми щечками, с невинно нетронутыми, честными глазами, настоящая евреечка. А темные глазки, как две изюминки на белом твороге, такие же бесхитростные и такие же сладкие. Венский портрет, из частного собрания Риттера фон Гутмана, не совсем удачный с точки зрения светотени – какая-то белая сова с мазком тени под самым носом – производит неблагоприятное впечатление. Если взглянуть на него с точки зрения структуры лица, то по общему его виду и выражению нельзя не признать его совершенно еврейским. Такому впечатлению содействует ещё и чрезмерная перегруженность украшений на голове и на теле, на плечах и на груди. Лицо становится обрюзглым. Намечается второй подбородок. Наконец, берлинский портрет из коллекции Голлитшера. В изюминках больших глаз появилось в своём роде мудрое выражение: это уже не девушка, а женщина. Даже самый контрпостный поворот головы, почти в три четверти, заключает в себе след личного опыта, уже некоторую зрелость. Иногда женщины смотрят вбок осмысленно апперцептивным взглядом, наполненным обширным внутренним содержанием. Это не первый взгляд открывающихся глаз, а повторно-контрольный взгляд, свойственный много жившим и много видавшим глазам. Так называемая сестра Рембрандта что-то схватила в душу, нарушившее былую безмятежную удовлетворенность. На губах печать скрытого протеста и недовольства, второй подбородок окончательно определился.
27 мая 1924 года
Расовый каркас
Можно пожалеть о том, что Рембрандт не оставил нам изображения своей сестры в офорте. Линии офорта точнее передают нам человеческий облик, чем краски, свободно налагаемые кистью. Конечно, и в линиях можно фантазировать до бесконечности, пересоздавая действительность по предвзятым планам. Так Леонардо да Винчи, в своих бесчисленных рисунках, оперирует над клочками действительной жизни с такою свободою, что объект в результате работы становится почти неузнаваемым. Портрет Изабеллы д-Эсте в обоих вариантах, углем и сангиною едва ли похож на оригинал, если судить о мантуанской герцогине по другим изображениям, но сам по себе рисунок может точнее передать изображаемый предмет, чем самая лучшая краска, развлекающая, отвлекающая и ослепляющая глаз. В рисунке внешняя форма предмета отражается со всеми его деталями. Игла и карандаш обязывают к определенности. Мастера германского возрождения являлись по преимуществу графиками. При этом они старались копировать каждую деталь, каждый волосок, каждую складку человеческого лица. В этом отношении они были настоящими воспроизводителями натуры, стоящей перед глазами. Заяц Дюрера, хранящийся в венской Альбертине, кажется совершенно живым. Видна чуть ли не пыль на его шерсти. То же самое надо сказать о голове старика-еврея Дюрера из той же коллекции. Вот повод провести параллель между евреем, в изображении типично германского художника, и евреем в изображении Рембрандта. У Дюрера рисунок дает нам слепок природы. Если бы Христос в самом деле отпечатлелся на полотенце Вероники, то он не мог бы быть более реально отражен, чем простой еврей на этом рисунке. Типичные еврейские волосы, обыкновенно вьются колечками – на портрете Дюрера большая густая борода старца вся в струях и кольцах. На голове ермолка, в которой виден каждый шов. Если сопоставить эту ермолку с лоснящимся пергаментом морщинистого лба, то получается жуткое впечатление такой верности передачи, что она кажется волшебною. Всё лицо, весь лоб, даже рука, подпирающая голову, в переплете самых разнообразных складок, как это и бывает на живом человеке. Никакая кисть, конечно, не способна изобразить ничего подобного: что-нибудь она смажет, что-нибудь затрет, что-нибудь слижет, что-нибудь прикрасит. Выражение опущенных, едва видных глаз старика обусловлено столь же правдивой передачей внешних деталей. Но мы стали бы напрасно искать в этом великолепном изображении семитической музыки, которая выплывает из каждого офорта Рембрандта, где голландский мастер отнюдь не гонится за воспроизведением реальной действительности во всех её подробностях. Это лицо старого еврея не рембрандтовская гармоника, то сжимающаяся, то раздвигающаяся, то в углубленных складках, то в складках расправленных, всегда поющая на еврейские мотивы быта и религии. Это именно только пергамент, только пожелтевшая бумага, почти безжизненный труп, каждый волосок которого зарисован. Во время своего раннего расцвета германское графическое искусство, если исключить из него островок кёльнских мастеров, неотменно держалось этого направления – погони за деталями. Гравированный Дюрером портрет Пиркгеймера 1524 года, будучи вообще шедевром портретного искусства, отличается такою же безмерною любовью к деталям. Забота о подробностях доведена до того, что в глазах видно отражение оконного переплета. После этого, в течение долгой ночи, наступившей в жизни Германии, в период междоусобных и религиозных войн, её графическое искусство, претерпев сильное французское влияние, воскресает в Ходовецком и затем в Менцеле, уже значительно освобожденное от старого пристрастия к подробностям. Только очень поздно, только у какого-нибудь Либермана, немецкая графика становится импрессионистическою. Она дает существенные детали в минимальном числе линий. Это искусство ограничиваться изображением квинтэссенций предметов, жертвуя мелочами и даже старательно их изгоняя, находит в Рембрандте такое воплощение, что Амстердамский мастер, по всей справедливости, может в этом отношении считаться главой и образцом для всех исканий новейшего времени. Рембрандт дает нам существо лица, иногда в двух-трех прикосновениях иглы, но совершенно ясно, резко и определенно. Если бы мы имели его сестру в офорте, перед нами была бы еврейская девушка, со всею её типичностью, со всею её лирическою напевностью, звучащею со всех других его иудейских офортов. Притом же в офортах злоупотребление светотенью не столь возможно, как в красках. Работает всё-таки игла, на доску из-под неё ложится мыслящая линия, а не играющий мазок. Перед нами был бы психологический документ большой важности, какой мы можем найти только в искусстве Рембрандта.
Но как мы сказали выше, такого офорта среди произведения Рембрандта мы не имеем. В нашем распоряжении находится зато гравюра Марсенэ, сделанная по оригинальной картине 1632 года, не дошедшей до нас. Гравюра эта очевидно передает нам сестру Рембрандта с возможною точностью и существенностью, свойственными графике. Те черты этой девушки, которые убегали от нас в потоке красок, здесь собрались вместе в один типический клубок. Волосы расчесаны с правильностью парика, с пробором на середине. Сестра Рембрандта украшена жемчугами настолько обильно, что сама гравюра получила название «Жемчужная Дама». Это уже штрих из мира еврейских праздничных туалетов. Но и лицо в этом праздничном великолепии совершенно еврейское, в живой простоте семитического типа. Глаза открытые, слегка неподвижные, во что-то упирающиеся. Нос длинный, чуть-чуть припухлый, со всеми погрешностями, свойственными семитическим носам. Вообще нос у еврея является почти всегда слабым местом его физиономии, иногда чрезвычайно красивой. Выражение рта при сомкнувшихся довольно полных губах, с их характерным разветвлением посередине, отражает капризную придирчивую, требовательную душу – с оттенком сварливости и даже злобы. Эта сварливость, эта злоба отдает почти старостью даже на молодом лице. Но не только эти раскалывающиеся губы, с разделительным углублением посередине, но и застывшие глаза на гравюре, больны тою же старостью. Как вообще определить впечатление от глаз еврейской женщины? В них всегда и неизменно есть какая-то тяжесть, даже порою удушливая тяжесть, – без игры, без кокетства, без той смеющейся забавы, с которою мы встречаемся у женщин других народов. Еврейская женщина вносит в свою апперцепцию весь груз веков, всю свою расовую старость. Вот она кокетливо всем улыбнулась, и в глазах выражение прежней серьезности. Но именно это сочетание серьезности с улыбкою внушает какое-до недоверие. Чудится пророческая усмешка там, где в действительности её нет: женщина легко и беспредметно улыбнулась вам навстречу, а вышло что-то не радующее и даже тяжеловесное. На пиршествах любви, когда сердце ищет легкой и возбуждающей утехи, еврейская женщина, в сознании исполняемого космического долга, всегда способна опечалить вас своею тяжкою торжественностью, не покидающею её, кажется, ни на минуту. Иная женщина – другой народности – поощрит и развеселит там, где еврейская стеснит и парализует вашу экстатическую предприимчивость. Нет звяканья драгоценностей, нет звона бокалов, нет взрывов непринужденного смеха в любовных интонациях еврейки. Ещё она невеста, а уже пахнет будущими пеленками, и безответственному чувству не разгуляться на свободе. Возвращаясь к гравюре Марсенэ, мы должны сказать, что все эти семитические черты, и прискорбные, и радующие в одно и то же время, нашли в ней отражение полностное и законченное. Перед нами еврейка во всех подробностях, выступивших с особенною наглядностью именно потому, что в ней нет глубокомысленной философии Рембрандта, с её сложными наваждениями. Человек жив – жив, всегда прикрытый своим прелестным подобием. Раса выступала в нём слабо, будучи заслонена светом универсального лика. Но вот умер человек. Маска-подобие слетела, и расовый каркас перед нами. Так и в этой гравюре Марсенэ. Она больше разобранных нами портретов отображает еврейский характер сестры Рембрандта, потому что она проще рембрандтовских картин, элементарнее и каркаснее во всех отношениях. Она дает нам ключ к разгадке одного из секретов рембрандтовского сложного, а иногда и запутанного искусства.
28 мая 1924 года
Автопортрет
Мы имеем автопортреты многих художников различных национальностей. Обозреть их все невозможно, но все они вместе взятые представили бы огромный интерес для изучения. Каждый портрет по типу и духу представляет собою почти замкнутое художественное явление. Дюрер и Лука Лейденский, Ватто и Леонардо да Винчи, Рейнольдс и Беклин писали свои лица в том или ином стиле. Иные художники, например, Мазаччи, фра Филиппо Липпи и Боттичелли вложили себя в разные сложные композиции, выходившие из-под их кисти. Это живая галерея индивидуальных самоотражений, характерных для эпохи, страны и для самих художников. Дюрер, гений тевтонской расы, изобразил себя углем на венецианской бумаге, в юности, а также и на склоне дней в чудесном ксилографическом портрете. Это создания серьезного духа, вдумчивые, совершенно честные, верные природе, как и упомянутый нами в предшествующей главе еврейский старец. Реализм полный, и если не хватает каких-либо деталей, отдельных волосков или морщинок, то это зависит только от самого материала творчества. Нельзя углем вырисовывать тончайшие черточки и нельзя их гравировать на дереве. Но в целом портреты Дюрера великолепно отражают стиль германского возрождения – точный и правдивый при высокой интеллектуальности, без декламаций, без позы, но и без формальной внешней красоты. Германский дух тяжел, дискурсивен, прям и моралистичен – таковы же и автопортреты Дюрера. Никакой игры карандашом, никакого шаловливого каприза здесь нет в намеке. Во всём вдумчивая наблюдательность без истеричных взлетов в высоту. Так же мало кокетлив и патетичен портрет другого художника германской расы, Луки Лейденского, этого нидерландца, открывшего в графике воздушную перспективу и давшего в условно-церковных религиозных картинах зачатки голландского бытописательства и жанра. Он изобразил себя в оригинальной гравюре, в левом профиле, с беретом на голове. По общему типу графической работы портрет отдаленно напоминает Меланхтона дюреровской гравюры. Но лицо Луки Лейденского менее сурово, менее торжественно, чем лицо Дюрера, при общей обоим художникам исключительной искренности в самом изображении. Если в картинах этого художника, как и в картинах родственного ему «пропущено» много религиозной муки и бури, при ипокритской разработке главных тем, то в автопортрете никакого ипокритства нет, всё сглажено и упрощено до яснейшего реализма. Это тем более замечательно, что в области церковно-библейских сюжетов Лука Лейденский явился родоначальником не только голландской живописи, но и чуждого ей целого направления антверпенских мастеров, с Гемскерком и Мартином де Фосом во главе, обслуживавших иезуитскую пропаганду своими декламационно торжественными картинами. Но в автопортрете своём этот великий двойственный художник выразил лучшую половину своей сущности, а именно – свою чисто германскую душу, склонную к благородной скромности в самооценке.
Какой скачок от Луки Лейденского к другому нидерландцу новейших веков, к великому валаамскому мастеру, Антуану Ватто, претворившему в себе французскую культуру до такой степени, что он не только сделался чистейшим французом, но дал имя целому виду рококо. Ватто представил себя в парке, рядом со своим другом и покровителем Жюльеном. Вся условная и вместе с тем поэтическая выспренность французской души того времени сказалась тут в общей
трактовке сюжета и обстановки. Деревья этого парка декоративно-сентиментальные, в духе настоящего Ватто. Вся будущая сентиментальность века чувствуется в этой ранней картине. Французский пафос вообще услащен изюминкой чувствительности, в нём слышатся веселые детские голоса, которые придают моменту подъёма характер шумной аффектации. По улицам льются рекою движение и восторг. Где-то глухо стучит топор гильотины. Но во всём движении, захватившем целый народ, проблескивает постоянно веселящими пятнами полудетская невинность, и на самый эшафот осужденный всходит с улыбками, с песнями, или с фразами в духе Андре Шенье или мадам Ролан. В автопортрете Ватто мы находим влияние той же , но ещё в эмбрионе. Насколько в этом отношении Ватто отличается от Леонардо да Винчи! Автопортрет этого последнего художника, в рисунках сангиною. в профиль и enfoce представляет собою типичнейшие создания своеобразного гения. При всей значительности этих портретов в них есть ясно выраженный элемент самолюбования, без наивности французов и без суровой скромности германцев. Ощущается какое-то художественное…
Такой бороды, какую расчертил в туринском рисунке Леонардо да Винчи, в природе не существует. Эти бесчисленные кольца волос, струящиеся живописными потоками, не принадлежат никакому смертному. Да и самое лицо в провалах – это уже не старческая гармоника, о которой мы так много говорили, а целый орган, могущий пропеть любой ораториум. И несмотря на универсальность этого гения итальянского ренессанса, всё в автопортрете Леонардо да Винчи отдает духом Италии. Огромное волевое напряжение в театрально ипокритском костюме до мельчайших подробностей. Это не только автопортрет, но и автобиография, разрисованная со всем великолепием самопознания, переходящего в самогордыню. «Я Фауст – вот кто я такой», – как бы говорит нам художник с незабываемых листов. В душе Леонардо да Винчи было много секретов, лично ему принадлежавших. Никто хорошо до сих пор не разгадал изломов этой натуры в сексуальном отношении. На портрете от этих изломов – ни единой черты. Всё закрыто, запечатано и замкнуто тайным, неповторимым ключом. Немало было в жизни этого человека удач и неудач, триумфов и разочарования. То он всходил на высокую гору славы, ласкаемый герцогами и королями, то стоял с горечью в душе перед папою в Риме. То он у себя в родной Флоренции, то в праздничном Милане. То он в грохоте битв и в лагере Цезаря Борджиа, то в почетном изгнании в далеком, почти пустынном Амбуазе. Но вся эта сложная эпопея ничем почти не отразилась в автопортретах Леонардо да Винчи. Перед нами клочок космоса, клочок скалы, в котором всё – мир, воздух, земля и небо, что-то тревожно бесформенное и хаотическое, ничего минутного и индивидуального. Это полное противоположение германскому духу, сохраняющему во всём и всегда принцип индивидуальности, даже среди безбрежных своих обобщений, как и духу французскому и духу голландскому. Есть тут на этой высоте и некоторая игра. Но игра эта – игра почти титанического безумия, в которой вздымаются волны стихийного бытия. Что касается Рейнольдса, то этот великий портретист Англии сочетал в своей душе влияния фламандские и итальянские.
Картины большого масштаба, с мифологическим и иным содержанием ему не слишком удавались, и художник сиял преимущественно в портретах, особенно женских и детских, доставивших ему всемирную славу. В мужских портретах Рейнольдс соединял правдивую передачу сущности лица с подчеркнутой красотой позы, не оскорбляющей глаз никаким преувеличением. Точно так же он изображал себя не однажды, почти всегда с палитрой в руке. Это ряды автопортретов, достойных уравновешенного англосаксонского духа, с его замкнутыми крепостями – людьми, с его гипертрофированным индивидуализмом. Таким же выступал и другой отпрыск англо-саксонской расы, предтеча английской живописи XVIII века, Гогарт. Всё тут твердо в смысле рисунка и совершенно индивидуально. Наконец – Беклин, писатель германского гения, величайший немецкий живописец XIX века, уже далекий от традиции Дюрера, но всё ещё хранящий в своей душе тревожную пляску мертвых великого коллеги Гольбейна и всех позднейших гольбейновских подражателей в этом последнем мотиве. В мыслях о бренности существования написал Беклин и свою картину в . Изображая самого себя в автопортрете, Беклин представил себя стоящим с палитрою в руке и со смертью за спиною в образе скелета. Это типично германский портрет. Тут вся любовь к деталям. Лицо художника выписано со всею реальною правдою. Интеллектуальный подъем ощущается решительно во всём. Но стоящая за спиною смерть свидетельствует о тенденции германского гения всё видеть и всё изображать в последних углублениях и обобщениях.
Но каждый автопортрет, к какой бы народности он ни относился, являет собою исповедь человека в той или другой степени правдивости, искренности и экспансивности. Тут вся биография художника в ракурсе житейской перспективы.
29 мая 1924 года
Ипокритство и актерство
Самопортрет есть вся автобиография, вся исповедь, которая может иметь откровенный характер. Есть люди скрытные и люди откровенные. Одни никогда не покажут себя на картине рядом с женою или возлюбленною, а другие, как Рембрандт, изобразят себя с женою на коленях. Скрытность имеет много видов и градаций. Это не всегда обман или укрывание чего-нибудь. Иногда это высокая и благородная сдержанность, не выступающая из границ, порою очень узких. Но и откровенности тоже имеют свои степени. Один человек покажет в слове, в письмо, в летучем рисунке, всего себя, без малейшего резерва, без всякой прикрасы, так полно и экспансивно, что мы видим всего человека. Он сбросил с себя идеальную маску и оказался перед людьми в совершенном обнажении: выспреннего на нём ничего не осталось, выставлено только всё зверино-человеческое. Другой человек кое-что приоткроет, но кое-что спрячет, или хотя и выставит вперед, на суд окружающих, но непременно в параде или торжественном великолепии. У такого человека даст себя чувствовать некоторая склонность не расставаться ни на минуту со своим идеальным подобием, и среди потоков откровенных излияний он то и дело вводит в рассказ слегка утрированную орнаментацию своей личности. Да и вообще можно поставить вопрос, что собственно представляет собою откровенное излияние со всею разнузданностью распахивающейся души, если сброшена при этом лучшая часть существа, привычки и порывы великодушного сердца, вся высшая потенция интеллекта. Получится ли тогда правильный или просто полный портрет. Мы можем в этом сомневаться. Так называемая правда, сказанная прямо в глаза – кухонный нот, который сует в вас несдержанный и неделикатный человек – эта правда-матка нашего поганого житейского обихода, эта правда на чистоту, говоримая злонамеренным грубияном, – что всё это такое, как не насильническая ложь, прикрытая претенциозною откровенностью. Чтобы сказать о человеке, хотя бы по отдельному случаю, настоящую правду, надо схватить всё целиком, не забывая ни дурных, ни хороших сторон, необходимо выразить нечто обобщающее, синтезирующее, а не разлагающее. Перечисление же недостатков ближнего или собственных своих недостатков всегда не только не полная правда, но даже материал для извращения, если не для карикатуры. Мы очень часто говорим сплошными гротесками, памфлетарно и пасквильно, и при этом, в силу странной иллюзии, убеждены в том, что изрекаем настоящую правду. Но правда эта – удел серединной части человечества, может быть и подавляющего большинства людей, над которыми отдельные индивидуальности, с щепетильным чувством скромности и беспристрастия, высятся редкими одинокими утесами.
Исповедь, записки, дневник могут писаться для себя или для других. Мария Башкирцева писала для себя, со всею женскою откровенностью, иногда со всею бабьею экспансивностью и тщеславием. Вы прямо входите в её душу. Вот почему, несмотря на выдающиеся моментами литературные достоинства её дневника, он является для нас настоящим человеческим документом. Тут и кровь, и слезы, и радость, и испуг – во всём калейдоскопе меняющихся настроений, летящих в вечность минут и мигов. Знаменитая исповедь Жан-Жака Руссо была писана им, при всей её распущенной откровенности, для других, для широкой публики. Человек, обнажая себя до полной наготы, доходил в своём рассказе до величайшей откровенности, но всегда сохранял тут же оглядку на читающие круги. При этом Жан-Как Руссо часто делался жертвою своих иллюзий и маний, вводя в заблуждение не только самого себя, но и других. То он воображает себя гонимым энциклопедистами, объектом каких-то заговоров, то он обвиняет самого себя в разных, не совершенных им преступлениях. То хватает из хаоса своей биографии невозможные или противоречивые дела, впадая моментами в страстный бред. Сообщительность Жан-Жака Руссо доходит иногда до невозможных пределов откровенности, не только в области душевных движений, где он является предтечею Достоевского, но и в описании интимнейших сторон своей сексуальной жизни. Величайший человек Франции всех времен, создатель теории общественного договора и народного суверенитета, первый по времени вздыхатель о равенстве людей, вождь и основатель литературного сентиментализма, этот гений из французских гениев купал иногда свою голову в грязи и откровенно затем выносил эту грязь на свет с настоящим упоением. Но вот черта, верная для целого народа в полной его характеристике, как и для самого Жан-Жака Руссо, в частности. Все откровенности этого человека, все интимнейшие его саморазоблачения, вся эта музыка двойственной натуры, переживающей вечные какие-то трагедии, всё это во всём своём объеме настоящее ипокритство. Как бы далеко ни заходил зонд его самоанализа, мы всё же в глубине глубин, могли бы найти нечто простое и неразложимое, чего Руссо всё-таки, в конце концов, не показал нам. В том-то и дело, что всё это ипокритство, вид защиты каких-то идей, каких-то правд. В исповеди своей, больше чем где бы то ни было, Руссо является настоящим барабанщиком ипокритского французского духа, ибо, скажем со всею откровенностью: галльские наследники Рима, с их пафосом, с их пышными тогами гражданских добродетелей, с их величественными рапирами, обнажаемыми в защиту тех или иных идей, – существенно театральны, как театральна и ипокритична сама Великая французская революция. И мадам Ролан – ипокритка и палач Сансон – ипокрит, спускающий над нею нож гильотины. Скажет человек резкое слово о самом себе, со слезами, с биением в грудь, с потрясающей интонацией, а между тем всё это – в сущности – ничто иное, как великолепная сценическая маска. В такой маске люди живут и умирают во Франции, ибо театральность – их вторая натура. Даже отдаленно я не имею в виду какого-либо обмана или притворства.