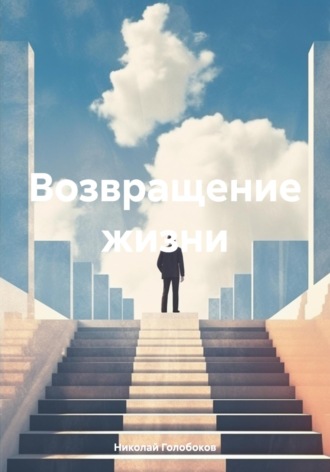
Полная версия
Возвращение жизни
Это точно сатанинская планета завезла своим кукурузником на нашу Землю, рассаду-зоопарк, и нас тоже разновидность, смотрят там в свои бинокли – третьим глазом и хохочут над нами и нашими братьями меньшими.
Так вот и у этой женщины, бедолаги, у которой лицо поролоновое, смастерили. Это не наказание, а скорее казнь и такая жестокая…
Жена, ты ведь грешишь, осуждаешь своего Творца, а то ведь схлопочешь, и в следующем воплощении увидишь плоды твоих осуждений, или просто трепотни.
Зрители-пассажиры-соглядатаи, разделились на два антагонистических лагеря, кроме дремавшего на заднем сидении второго гончара. «Портвешок» усыпил его возвышенные эротико-эстетическое восприятие действительности.
Одни не видели плохого в том, что им улыбалась сама Амфора, и второй ряд соглядатаев, который обречен был таращиться и отворачиваться от такого. Буд-то играли в жмурки, как в детстве.
И эти две противоборствующие группы, особенно обречённые, тянули шеи, чтобы хоть как-то разбавить чёрное – светлым. Ругали судьбу, злились, отворачивались… Эка, дурило! Закрой свои глазенки слепыша, да лети на берег моря, или к любимой девушке, в свое детство. Нет же, тупорылый сидит, таращится, казнится, как будто его загипнотизировал этот экспонат для кунсткамеры. Э, э, совсем плохой, ругает водителя, медленно едет. Вот бы мой сын так осторожно, всегда…
А то и не увидишь, что там за окном. Летом туристы снимают кадры прямо на ходу через стекло. А быстрая езда, то на «хвост» смотришь, не врезался бы, а он уже таращится на стометровку прямой дороги и рвётся обогнать. Мать твою!!!
О, Амфора, за окном лепота. Крым, это все-таки Крым. Не знаю кто и что лучше. Но ты сказка.
А это.
А эта?
Анти амфора.
Опять её закрыли спины пассажиров, крутой поворот и толпа леглааа… Это. Снова это. Эта. Антиамфора…
Господи, слава Тебе. Вспомнил. Вспомнил её. Видел. В некрополе Херсонеса Таврического, первого-четвертого веков, нашей эры… Да, да, да. Вот она эта наша эра. Смотрю в книгу, а вижу, конечно, дело. Вот она, сидит в автобусе наша эра… Вот она, красавица! Мать твою.
Она была хорошей роженицей, таки тебя выносила, а не лягушку-квакушку. Вот оно, вот оно, на свисток намотано. Вот он, симбиоз.
Может ошибка генетиков? Ни кентавры, ни минотавры, а что-то грустное: среднее от фибулы погребения и сосудом типа амфоры использовали их в качестве урн в Херсонесе античного периода.
Оно, конечно, кррасотааа – неописюемая, но шлейф, какой шлейф положительных эмоций за всей этой красотой. Прости меня, дорогая! Не судом строгим сужу, не испражняюсь, в ослословии, но эмоциями и видением художника, хоть и по горшкам. Это ведь тоже твоё творение моими руками. Эх, милая страшилка, ну была бы ты… ну хотя бы намёком похожа на сосуды из той же коллекции, из стекла, в которых хранили ароматы для бальзамирования, или для благовоний. Ну, в крайнем случае, стакан с ободком с коньяком и трех звёздочек свеклы, или хотя бы амфора, но с душистой изабеллой. Увы, не дано. Дано. Только то, что дано…
Заработала.
Во. Хорошо. Опять остановка. Иш ты, как тихо подъехал. Сыну моему показать, как нужно водить его «божью коровку», как мы её окрестли. Фирма Япона мать. Тойота.
Хорошая, умная, уютная, милая, и самое главное мало жрёт. Так вот, сынок, быстро едешь – берегись поцелуя – ты или тебя, в твою прекрасную сиделку. И ладно, если в японскую и то жалко, а если в твою. Да еще и в шортиках?
– А если с дуру двадцать взял в кредит?!!!
Не бери у этих жуликов кредит. Мы, помню, изучали историю, в университете, удивлялся, и чего это во все смутные времена бьют и жгут банкиров. Ан есть за что. Как-то взяли кредит немного денег, во время гасили по частям, как и положено, последний взнос задержали на один день, они же нам зарплату не дали во время и с нас слупили за этот день задержки 500 рубликов из суммы две тысячи. Да хорошо живут банкиры, но мало, и мало их щелкают. За их обман и проценты. То-то они пьют снотворное. Спи спокойно, дорогой товарищ…
Рано ушёл. Заработал…
Молодец, сынок, что взял машину за наличные. Не подставляй зад пиявкам.
Пооееехали. А она, это урна погребальная, сидит, гррремит рёбрами и пытается нижней губой прикрыть крючковатый баклажан-нос. Что-то спросила у водителя…
Он с короткой дистанции, в упор, увидел её… Что это??!
И, так резко крутанул рулём, что стоячие стали лежачими, на руках сидячих… Автобус вместе с благодушными и негодующими чуть не врезались, въехали в мое любимое глинище у дороги, недалеко от селения…
Бедный водила, хотел удрать от этого… Ошарашен был таким, как будто удирал от гаишников. Вот так и улетают в другую галактику – измерение…
Остановка «Аромат».
Она встала, как встает лебедь на крыло, перед взлетом с воды, взмахнула крыльями, окинула, одарила, взглядом-улыбкой и… как её зовут навек осталось тайной.
Это опять Генрих Гейне, волновавший душу и сердце гончара, как тогда… – 68 лет, 3 месяца и 2 с половиной дня тому…
А оно, сердце и сейчас млеет, рыдает и поёт. Вон, и шофер, протёр глаза, смахнул непрошеную слезу. Слезу радости.
Автобус стоял и думал. Думал ни о чем, просто стоял и не хотел никуда двигаться. Включил фары-глаза и смотрел, будто свет помогал узнать, где живет это, – ундина. Вот тебе и предвосхищение жизни, – жить этим, что пережил и почувствовал сейчас…
– Эй, водитель! Ну, мать твою, почти шёпотом пропел проснувшийся на заднем сидении маэстро-гончар. Заводи свой керогаз, прокричал мужик. Конечно, он не рыдал от разлуки, но глаза на всякий случай протер. Покосился налево направо и увидел боковым зрением фибулу погребальную из Херсонеса. Ясно усмотрел и то, что гончар её порядочно деформировал. А его взгляд блуждал, душа рыдала и всхлипывала. Сжал челюсти, скрипнув зубами, как сорвавшийся домкрат из – под колеса Белаза и, газанул до отказа. Его верный кормилец автобус, рванул как бешеный бык, которому воткнули в его холку копья и ножи, а перед носом размахивают какой-то красной тряпкой…
Взгляд, опыт взяли своё. Люди. Полный автобус. Отвёл свои глазки, взгляд оттуда. Улыбнулся.
И.
И, снова пошёл писать по виражам и серпантинам.
Он вёз её.
Они были рядом.
Она была в его сердце.
Ореол, её дух, нежный и светлый… Гладили его душу.
Теперь он боялся расплескать Амфору, её содержимое, и жаль было тех сидящих стар… Стар – пёров…
Да Бог с ними.
Они, все, ещё доолго, будут жить этим.
Жить этим днём.
Этой поездкой.
Этим эхом весны.
А неравнодушный автобус катил вдаль к древнему городу, ушёл по виражам и серпантинам горного Крыма, выписывал движениями своих ржавых боков, такоое, такие пируэты, как пишут и рисуют своей талией и тем, что пониже талии, красавицы на конкурсе мисс Вселенная.
Двоечник. Второгодник. Маяк.
Лето приближалось семимильными шагами. И уж совсем не верилось, что оно, лето вообще когда-нибудь наступит. Мрачные тучи кутали, кутали Солнышко, прятали его, в свои лохматые, мокрые лапы, – от тех, кто ждал его тёплых лучей…
Так и уходили дни за днями, но и весны, и, конечно же, лета так и не дождались. Да и какое тепло, когда от северной столицы, несколько часов, по прямой петровской железке. Вперёд и вперёд в солнечную Лапландию сто шестьдесят километров, поближе к полюсу холода и айсбергов.
Двоечник сидел и таращился, в этот дурацкий теле – еле, и ни о чём не хотел думать. Билеты на юг, к Чёрному морю уже спрятаны в дальний угол их жилища. И, уже казалось никто и ни что не смог бы помешать, им видеть себя беззаботными счастливчиками, которые лежат, валяются на берегу солнечного, тёплого моря и сами себе поют я дома, дома, дома.
Семь лет прошло – пролетело такой жизни, в этом воплощении, таком сыром, холодном, болотном краю, и уже не верилось, что это последние деньки. Радостно и печально было расставаться со своими работами. Музей лицея, где он преподавал, остались, – его живопись, графика, фонтаны, настенная роспись. В Финляндии часто тоже работал у русского керамиста, и, вообще предлагали остаться. Но привезти из России все свои живописные полотна. Музей, мой, будет, рядом работы Рериха…
Контейнеры со скарбом – добром нажитым здесь отправлены и уже две недели едут, ползут в том же направлении, – на Юг. К морю, домой.
Экран теле – еле, показывает море, рыбок, всякую живность, дразнили, ох как дразнили – манили эти бирюзовые волны. И, надо же было такому случиться.
Заработал телефон. И пошла весточка от родной внучки.
Ей, тоже, купили билет и она радовалась, что поедет домой, в Крым, где они жили раньше.
Она там родилась, но вот уже два года живёт почти в самом сердце Лапландии. И, конечно скучает – хочется туда – домой.
Домой!
Она школьница, правда, теперь финской школы, и за короткое время не совсем свободно, но говорит на их языке.
Юная чистая душенька теперь не знает, где же её дом?
Дом.
Бабушка приняла сообщение, и загрустила, внучка пропускала занятия в школе, по болезни и много дней ушло на оформление документов и надо же, почти приговор, так, по крайней мере, показалось бабушке. Ей, внучке, дали дополнительное задание на лето. Бабушка в шоке. Прыгнуло её давление – как у кенгуру, когда убегает от больших, красивых кошек, кошечек, полосатеньких, – тигры, пантеры, какие-то.
Протрезвев от валосердина, она решила, что это так как у нас, в России. Не успевает, значит, двоечница, неужели оставили на осень, как дедушку в пятидесятых годах, а потом в августе контрольная, и, и, на второй год. У деда такое было.
Позор то какой!
Позор…
Да. Так было раньше. Прошло всего то, каких-то пол сотни годков…
А чего же её хвалили на классном собрании. По всем предметам?!
В таких скорбных раздумьях, и тревоге угробили весь вечер и¸ почти ночь.
А на экране телевизора снова бирюзовое море. И, и радостные улыбающиеся рыбки, – пираньи. С чего бы это они так улыбались? Чему радуются? … А у нас. На юге. Неет…
Двоечник.
Дед схватил карандаш и стал записывать текст – пояснение, к кадрам на экране, а там, где бликовало море всеми цветами импрессионистов: солнце. Море, блики и снова молниеносно проносились рыбки, креветки, брызги, вот и рак отшельник, вот и красивая – пластичная мурена. Любуется тоже красотой подводного царства. Порядок наводит, как наша милиция и ГАИ.
Дед, второгодник, никогда об этом, грустном прошлом, своей внучке не хвалился, но вот, чтобы хоть немного её отвлечь, решил записать текст, хотя бы смысл этой полезной сказки – притчи, самого, великого Леонардо, которые очень редко передавали по теле. А ведь зря. Он был мудрее, чем всё наше совсем уж не великое теле – еле – видение.
*
Рак отшельник, долго сидел в своём домике. Отожрался. Разбух. Щёки на его прекрасном лице были видны, со спины.
Он любил часто и хорошо, покушать, от пуза – есть булки – звёздочки с изюмом, сухарики, ромашки – булочки такие, постоянно хлеб, любой, просто так, от нечего делать, селёдку копчёную, любую рыбу, даже с загаром, и, без меры яблоки…
Он вырос и вверх, но не очень, больше округлился, живот разбух. Мал ему стал его домик. Морока искать новый. Тем более квартиру. Нет. Малогабаритная, хрущёвка ему не подходит, там туалет совместили с ванной, а вот потолок с полом – не успел соединить, нет. Такое ему не годится.
Да и вообще кто ему даст даже такое уё…., ой, нет, гробище, когда фронтовики ждут с сорок пятого года. Вот, опять обещают… тем, кто уже почти уходят в новое воплощение.
Счастливчики, ушли. Там они скорее получат. Получат, за всё, что заработали. Ох, и те, они, эти, рыдать и землю есть будут, всякие заслуженные и застуженные. Да будет воздано им, будет и по заслугам, каждый награждён, тоже будет.
Он, рак – отшельник ещё не пенсионер. Попробуй заработать, если воровать негде.
А за окном, то снег, то дожди. Дождь – дефолт, или кризис, а ему то что.
Просто так, за здорово живёшь – не получишь, отнять? – Опасно! – Опасно, потом всё равно посадят. Так оно и бывает. Только дурни в это не верят. А зря.
А, а, а вот и домик. Просторный, хороший, красивый.
Во! А там хозяин…
Ах. Ох. Как же быть?
Как же, быть с хозяином?
Залез в домик, примерялся.
Хорошшооо. Хорошо.
А дом ещё и красивый.
А хозяин???
А хозяина, маллюска…
Съел.
Не выбрасывать же его, бездомного, на улицу.
Как на земле, люди.
– Ой, нет, это неелюди.
И вот дед, двоечник – второгодник, решил немедленно отправить эту шутку,– грустную историю, телепутешествующую на экране, и в головах любимого народа, историю о раке – отшельнике. Что бы хоть немного их заставить подумать, отвлечь своё любимое чадо.
Но у бабушки вдруг и не вдруг, снова давление.
Заработал её компрессор – так дед называл её агрегуй, которым она измеряла своё давление, теперь уже подпрыгнувшее, как хороший спортсмен, на палке – шесте, на семь метров.
Её компрессор, пыхтел, надувался, а, значит, скоро связь не пойдёт.
Давление, опять это её давление, потом пошёл её обычный ритуал, волшебное исцеление, тридцать капель валосердина. А дед под шумок, тридцать капель настойки, домашнего изготовления, без всякого компрессора, что меряют давление.
Так и прошёл остаток вечера, в приятной беседе о давлении, вредном напитке, хоть и целебном. О дурном учителе, который не понял, что их внучке не нужны такие узурпаторские русско – финские методики. Кануло в лету, пропала дедова просьба. Отправить антистрессс – внучке. Не помогло и лекарство – Балтика – девятка.
Но мысли толпились, роились в дедовой голове, где красовались когда то остатки большой шевелюры.
И он, всё – таки, решил написать письмо.
… Дорогая ты наша внучка, драгоценная. Потом перечеркнул драгоценная и написал бесценная. Решил, что так будет теплее, и дальше продолжал: поедем мы с тобой на море, в Учкуевку, а там и море нам по колено. Успеешь написать и почитать ты эти тексты, а пока время есть, тебе помогут, твой уважаемый любимый папочка и дед.
Ещё летом поедем и на Арабатскую стрелку. Вот где море, вот где красотища. А песочек, ракушки, мелко и очень тёплая водичка, потому что там мелко, море хорошо прогревается на мелководье.
Вот там мне перепало, то, что и тебе сейчас.
Я тогда окончил третий курс университета, факультет, худграф. И приехал на Арабатку писать этюды. Был уже вечер. Море светилось, а солнышко только чуть – чуть замочило краешек, красного арбуза.
Я стоял, смотрел и не мог оторваться, от алого зрелища, но до конца пункта было ещё далеко. А мне, ох как мне хотелось, навестить свою одноклассницу Раю. Но времени уже не оставалось.
Подошёл к домику, крыша глиняная, трава на ней посохла, стены белые, отливают перламутром, цветом закатного солнца. На лавочке у домика, в виноградной беседке сидели старушки. Я спросил Андросовых. Одна, длинная такая, как когда то её дочка, но с такими же долгими, длинными морщинами, что казалось, и лица нет, одни морщины вспахали и избороздили это лицо. Волосы белые, то ли седые, а может солнышком выбелило, выгорели, как там говорят. Она встала и поздоровалась. Спросила, кто я, и удивилась, столько лет прошло, а я нашёл их дом. Сколько лет, сколько лет прошло.
Вспомнила, что жили мы в Счастливке, у Степановых, а не в Генгорке и я приходил к ним заниматься дополнительно.
Да, Рая вас двоечников тянула, это её заставляла ваша классная руководительница, Полина Сергеевна, Малькова, а Раечка вас по воскресеньям гоняла. Да что там и Рая, тоже дурака валяли, а не занимались арифметикой. Уроки почти не учили, и она тоже с вами, дома ничего не делала. И от вас толку не было. Она мне дома всегда всё делала. И кизяк для зимы готовила. И полы глина с кизяком мазала, сама, не то, что вы. Лентяи. Но училась Райка хорошо. Всегда. А вы что, только по садам да виноградникам носились, и на море днями пропадали.
– Ты, правда, к рыбакам ходил, помогал перебирать бычков, барабульку, камбалу, калканов. Баркас был полный с камсой. А тебе целую сумку, наваливали рыбки, жалели тебя, ты сумку через плечо и домой. Жалели тебя, рыбаки то рано ставники трусили, ты, молодец уже в четыре, как доярки, был там, на берегу. Так что хоть так да помогал родителям. Годы были тяжёлые – голодовка. Ты и раков хорошо драл, помнишь? Два пруда было. Нет их теперь – высохли. И ключи пропали. Один остался, вот и ездим туда, на тачках за водой. Тачка и бочка. Трудно с водой, вот что.
Да. Так вот. Вы тогда, летом пробегаете, уроки ничерта и не учили. А осенью опять двадцать пять. Вот тогда вас и оставили на второй год, по арифметике, не соображали. Вас и оставили. И оставили на второй год в пятом классе. Что там скажешь. Потом вы уехали на материк. А мы вот здесь доживаем свой век. Нам то что, вон кладбище на горе. Глина, правда, но сухо. И ни кустика, ни цветов тебе на могилках, а на Бирючем, помнишь, остров? Был шторм, так гробы унесло в море. Вот беда-то. У них там, на острове, и не роют могилки. Насыпают песка, копать нельзя – два щтыка и, вода. А потом шторм, первый, и, и поплыли. Так, теперь, говорят, их увозят в Геническ. Не знаю, правда или брешут. Ты видишь, не смыло нас.
– Бирючий, правда, два раза заливало, гардеробы приносило к нам, на берег, и всякую там плавающую мебель. А у нас, видишь, ничего, не утонула стрелка, хоть брехуны и каркали. А вы, Рая говорила, уехали на материк, в Джанкой.
– Она у меня умная, окончила полную школу. Семь классов!
– Выучилась. Долго училась. Целый год. Писала письма. Она заботливая у меня. Сейчас работает в городе. В сельпо. Продавец! Грамотная такая, все её по отчеству зовут. Да. Уважают. Человек она стала большой. Начальницу посадили, а её хотят поставить главной. Вот. Ценят её на работе. В отпуск приезжает домой. Подарки привозит каждый раз. В прошлом году косынки красивые. А в этом году – платок, весь в розах, красные, красивые. Я их спрятала. Одеваю по праздникам. Как невеста. Оччень, красиво. Бабы говорят, не задавайся и у нас тоже есть, но мы их бережём. Это же подарки от детей. Их беречь надо, а не трепать по будням. У Раи семьи пока нет. Много работы. Некогда. Да и женихи пристают, много, но это так, не серьёзно, то пьянь, а то и вовсе разведецы – алиментщики. А зачем ей пьянота? Она говорит, я один раз буду выходить замуж. Вот какая она серьёзная. А ты холостой. Это хорошо. Что рано толку – хомут себе вешать?! Ты молодец. Глянь на парня похож. А был такой шкет. Доходяга, как ты только сумку с рыбой таскал? Через весь карьер. Молодец, мал золотник да дорог. А Рая больше ростом тебя была. И училась она всегда хорошо. Смотри, вырос и холостой. Напишу Раечке. Только у тебя причёска бабская. Что, каплаухий? Чтоль? Так вроде бы нет, уши у тебя были не торчком, поперёк головы. И у брата твоего уши как уши. А, а, а, это у Тарлясика, уши были каплаухие, он не выговаривал какую то букву – и звали его так, так ещё и Тарас, Григорьевич, Шевченко. Каплаухий, вот. Он точно был. Но симпатичный. Ямочки на щёчках, как у девки. Он и ушами мог шевелить. И, сам смеялся с этого, дурил вас, вы же какими росли, да ещё ему и дарили, кто пряник, кто конфетку, а годы были тяжёлые, конфетка – праздник! Дурил вас, а вы смеялись до усцыку. Ну да что? Жили вы весело. Хоть мать и порола вас, как сидоровых коз. Тебя и брата. А что пороть! Я, свою, и пальцем не тронула, не то, что пороть! Что толку? Всё равно балованными росли. Козла у Степановых, помнишь, был, Борька, звали, – перцем намазали под хвостом.
Он, бедный, потом всю задницу изодрал – ездил по земле. А какая у нас земля, острые ракушки, поцарапал себе, бедный козёл. А красавец был, серёжки, бородка, рога большие, и, кучерявый, А вы его ироды мучили. Он, правда, ваши саженцы сожрал. Они потом засохли, а вам поставили двойки.
В школьном саду, помнишь задание на лето, что бы поливали. А воду носили с пруда, на коромысле. Трудно. Далеко. Лето. Жара. Вот вы ему и дали перцу.
А вас тоже потом пороли! Помнишь? Все в деревне об этом говорили. Живодёры чертовы.
И Филя, садовод, жаловался, надоели вы ему своими набегами на сады и виноградники, да ещё подсунули в бедарку ёжика, когда он сидел в парикмахерской, и притрусили соломкой. Чтобы не заметил. Он, со всего маху и присел, своей толстой задницей. Орёт, а вы хохочите в кустах. Ох, и дураками же росли.
Ну а ты что? Школу хоть окончил?! Сколько классов? Раечка полную школу, семь классов! А в дипломе только две тройки, остальные четвёрки, и две пятёрки.
По физкультуре и пению. Бегала она хорошо, всех обгоняла на уроках, Полина Сергеевна хвалила, говорила отличница ваша Рая.
– Ну, расскажи о себе. А то и одёжка у тебя как у стиляги. Рубаха в клетку, как у старушек платье, как стиляга, тошно смотреть. Штаны то чего закатал выше колен?
– Жарко.
– Так и нам жарко. Мы то, не раздеваемся наголо. Стыдоба.
Посидели.
Помолчали.
– Ну чего молчишь? Ай, хвастать нечем?!
– Да уже поздно. Не до рассказов.
– Вон уже огни в хатах – мазанках зажгли. Свет так и не провели?
– Мне уже пора двигать. Ещё до Счастливки три километра.
– Ну да ладно, доберусь. Вон как луна полная светит. Песок светится как у Куинджи, Ночь на Днепре…
– Чего, чего?? Да это в Третьяковке картина такая…
– Нет, ты нам про себя расскажи!
– Про свои картинки…
– Ну да ладно доберусь. Заблудиться здесь невозможно.
…– С лёгкой руки вашей Раечки, дай Бог ей здоровья.
– Во, молодец, правильно сказал про здоровье.
– Да вот, и она нам отвешивала подзатыльники, а рука у неё была лёгкой на этот стимулятор – подзатыльник, а сдачи мы из за, большой её эрудиции, ну это рост её, мы не могли отдать, ответить, тем же макаром.
По затылку ладошкой, не могли мы себе позволить, – как не крути и не верти. – Она наша училка. Вот так-то.
– Так вот, окончил я семь классов, и весьма успешно, – ни одной двойки. Приняли в комсомол.
– Надо же, а двоечников не принимали в комсомол, значит и правда учился хорошо. Правда, твоя. Молодец.
К тому времени я духовно созрел и, двоек не было. А пятёрки были – по рисованию и по пеню. Слух говорили абсолютный.
– А как это, ты же глухой вроде бы и не был?
– Да нет, это другое, ну так, различать, как петух кукарекает, а не гавкает. И во время, главное кукарекать во время.
– Мудрёно зубы заговариваешь.
– Ну вот, окончил школу. Надо учиться. А где?! Куда?
– Как, куда?!! – На продавца. Это ого, такая специальность!!! Вон, Раечка!
– Я написал два заявления. В Керчь, в ремесленное училище, и в Симферополь, в художественное училище. Вызов пришёл сначала из Симферополя, а потом из Керчи.
– Надо же! Вот тебе и второгодник, двоечник. А может в тебя въедались учителя!!! Такое бывает!!!
– Вот тебе и набеги на сады и виноградники. Вот тебе и колорадский жук, садов и виноградников! Это же надо два вызова!
–Да это вызовы только на экзамены.
– А, а. Ну всё равно.
– Но мой дедушка, умная голова, дай ему Бог здоровья, сказал, как отрубил: – картинки это баловство, а ремесло в руках мужика, это всегда кусок хлеба. Да и кто тебе будет помогать. Вон еле концы с концами сводите.
– Общежитие? Дают! Рраз! Одевают, и суконные штаны, парадные дают – два. Кормят три раза в день, три. Подумай. А как сироту, тебя сразу примут. И как сына Крымского партизана.
Окончил училище, ремесленное конечно, судосборщик – корпусник, третьего разряда. Поработал два месяца, перевели в художника – оформителя. Я тогда уже заочно учился в Москве, в доме творчества имени Крупской. И зарплату дали такую же, как и нашим однокашникам после ремесла. Но в красном уголке не то, что в цехе, грохот, сварка, нас там и звали – величали – глухарями. А тут красота. Картинки – копии писал, молнии выпускал, лозунги писал.
Потом рассчитался и уехал в Москву, разгонять тоску. Поступил в художественно – промышленное училище. Пять лет пролетели как один день. И я стал художник мастер – резчик по кости. Ну и попутно был секретарь комитета комсомола училища.
– И ещё староста струнного кружка – играл на баяне, соло, ну, это главный, почти дирижёр, – как председатель в колхозе, он, тех, кто плохо играет, посылает в си бемоль…
Да, и, дирижёрской палочкой по лбу…
– Ой, подожди, не так быстро, а то я не запомню, как Раечке написать про всё.
– Даа.
–Так вот. После училища направили в город Орёл начальником костерезного цеха, сувениры из кости и рога делали художники. Комнату дали, в областном городе, а там новая ступенька в судьбе. Поступил в пединститут, на художественно графический факультет. Говорят, что скоро он будет называться университет, Почти М.Г. У. Вот уже перешёл на четвёртый курс. Приехал на Арабатку писать этюды. Три дня тому сдал последний экзамен.
–А мы то, смотрим, что это за чучело идёт. Идёт в такой, не нашей одёжке, наверное, геолог с города, всё нефть ищут. Чемодан, это что?









