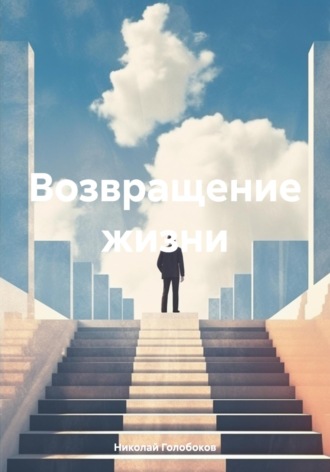
Полная версия
Возвращение жизни
– Ты, учитель?
– Нет, но преподавал 15 лет в художественной школе. А сейчас кто его знает, кто я?
– И рисую и леплю, пишу этюды акварелью, скорее художник.
– Я знаю, я видел вас, с художниками они рисовали мечети, и горы, а вы карандашиком тоже на бумаге рисовали.
– Знаете ребята, интернат это ещё не всё, и не самые несчастные вы.
– Я ведь тоже был в детском доме. 1947 году, полтора года. Мы пухли от голода, а домашняки, это те, которые жили у себя дома, ох мы им завидовали, у них и макуха, и картошка, и кукурузная каша, а мы позавтракали, – ждём обеда, пообедали, – ждём ужин. За пайку хлеба, если у кого с заначки стянет кто, умудрится, чинили тёмную. В поле бегали. Свеклу рыли и ели сырую, аж в горле драло. Домашняки зимой просто умирали с голоду, а мы, ничего, все выжили.
– Это, ребята после войны такое житие было. Бывало. А вы, по субботам ещё домой, да летом в лагерь, пионерский, да?!
– У вас рогатка в детстве была?
– Была, ребята, была.
– А в птиц стрелял?!
– Стрелял, ребята, ну, правда, не попадал, а однажды до сих пор помню.
– Стыдно…
– Чуть, нет, таки побили, свои же ремесленники и просто отдубасили. Я и теперь не верил, что дет дом, интернат, ПТУ одни разбойники.
– Вот представьте себе. Тогда дрались как дураки. Ремесло на городских. Пряжками, прутьями, свинчатками, кастетами. Были и смертельные случаи. Ну, головотяпы и всё.
– Но было и такое.
– Нас, ремесленников, после первого года обучения, конечно у кого и отметки были хорошие, и поведение, лучших, кто занимался в кружках, – на белом теплоходе, как мы его назвали,– пассажирский, отчалили из порта Керчь, на Ялту. Там разместили в красивом здании, кормили хорошо, кино показывали часто, на оперетту даже водили, хоть она нам и не нужна была. Ну что темнота деревенская, где кино редкость и ещё и света не было в деревнях. Керосиновым лампам были рады. Но совсем забитым тупым не был. Кто то подарил мне книгу Генриха Гейне, Лирика и сатира, я уже читал и даже запомнил такие, … девушка стоя у моря, и ещё, красавица рыбачка, причаливай сюда… И вечерами в общежитии, где тридцать но не три богатыря, а ремесленские ишаки, как мы иногда дразнили, когда кого хотели шпигануть за что-то недозволенное.
– И вот однажды, мы вышли из клуба, я увидел гнездо ласточки.
– Говорят чертей нет. Есть. Теперь точно знаю есть. А тогда, если не они, то кто мне такое вразумил делать…
Это я понял чуть позже. А тогда меня мои же однокашники… отдубасили и изваляли на не совсем стерильной, и, не Муромской дороженьке.
– И вот, это самый чёрт, таки он, чёрт, меня дёрнул, взять палку и сбить гнездо ласточки. Старое пустое, без птенцов.
– Ох!
– Уух!
– И было…
– Но хорошо, что птенцы уже улетели. А то бы ещё добавили.
– Как они потом мне признавались.
– Позже.
– Много позже…
– Ребята однокашники, и побили меня. Неделю потом не разговаривали. Необитаемый остров. Не знаете?
– Никто не разговаривал со мной неделю. Целую неделю, отворачиваются, отворачиваются.
– Ох, и противно! Ух, и, тошно.
– Вот тебе и ремесло и П.Т.У…
– А ласточки…
– Когда длинной палкой лез туда, они чуть макушку не расклевали мне, а надо было. …Это я так думал потом, когда уже прошло много дней.
А сейчас, они, носились быстрее молнии.
– Прямо косяками, да с криком и стаей, носились и молниеносно пролетали у самой головы, нагоняя страх и угрозы,– беги отсюда, вредитель…
– Дружно, вот молодцы.
– Птицы умнее нас.
– Я, на другой день после, урока, который устроили мне мои однокашники, приходил туда, где ещё валялись остатки, кусочки бывшего гнезда, увидал ещё один урок… тупым варварам.
… Ласточки, видимо и те, которые тогда старались меня отогнать, они, эти строители, теперь всей своей дружной стаей, восстанавливали разрушенное гнездо, на том же месте, где оно было целым ещё вчера.
– Летают к высохшей луже, совсем рядом, в грязь, клювиком берут и лепят по малюсенькому кусочку.
– Три дня лепили.
– Сделали гнёздышко.
– А, вы знаете…
– Понимаете, какая радость была мне и всем нашим ребятам ремесленникам. Помните всегда о моих ласточках и, конечно не забывайте о тумаках. Это тоже в жизни уроки, награда за наши подвиги. Как старики говорят кому бублик с маком, а кому дырка от бублика. Радуйся, ты такое заслужил, заработал.
– Жизнь у вас только начинается.
– Всегда попадаются, да и будут на вашем пути люди, расскажут, научат.
– Смотрите, слушайте, разумейте, не спутайте где дырки от бублика вам поднесут.
– Я всю жизнь теперь помню об этом. Казню себя за тот свой поступок.
– Не разоряйте гнёзд. Не отнимайте дома у братьев меньших.
– А Ласточки.
– Они три дня от рассвета до заката.
– Большой стаей.
– Дружной семьёй.
– Лепили клювиками.
– Из кусочков глины.
– Дом.
– Гнездо
– Жилище своим будущим птенцам.
Две амфоры.
Горы. Скалы. Каньоны и леса. Раскопы, черепки, пифосы, амфоры, квеври. Всё это было и есть на этом древнем острове. Ушли в небытие скифы, печенеги, готы, гунны, хазары.
Были.
Многим помогали, ускорением, пинком под зад…
Сейчас его, этот остров населяют, живут и радуются, много разных потомков садоводов, виноградарей, хлебопашцев и уж конечно, умельцев, на все руки. Да вот только лето какое-то выдалось почти по Писанию… только наоборот, и сорок дней палило солнце, ни капли дождя.
Они, дожди, теперь и у нас, в Крыму, обходили стороной, хорошо хоть не всё лето, а, сейчас, всё, что росло и радовало ароматом – засохло и пропало. Солнышко, которому все и всегда рады, теперь, теперь прятались от него. Но в этой горной деревушке люди провели канавки-арыки и лелеяли свои сады и огороды как могли.
Автобус, на конечной остановке, стоял в тени огромного ореха, вошли несколько пассажиров. Один из них дед, гончар. Он жил-поживал долго, может очень долго, как говорили злые языки. Его 73 годика, которых он прожил в трудах и заботах о хлебе насущном, не смогли и не съели ни засуха, ни сырость в сезон осенних и зимних дождей, ни слякоть природная и людская… Его спасали и радовали гончарный круг и она, живая глина. И вот они, его шедевры: посуды, горшки, амфоры, всех времён и эпох.
Его друзья и не совсем друзья говорили, что всё уже сделано, посмотри, музеи всех городов их острова заполнены этими творениями древних. Полюбуйся, -Египет, Греция, Италия, Грузия. А? Какие формы, размеры. А квеври?
Тебя можно туда посадить, ведь делали! И как! А кувшины, амфоры-холодильники для воды и вина?!
Но он лепил и ваял «своё». Делал дело, и не искал «нишу», просто вдыхал в свои работы настроение, в этих, казалось, похожих формах, которые всегда отличались от той музейной классики. Не мог и жить просто, так как все, пить вино, есть хлеб.
И.
Смотреть просто на девушку, как на жену, сосед рассказывал у него, бывает, сварливую и жадную; любоваться тёщей, которая и своей родной дочери стала – мачехой, сына лелеет, ищет, пьяного утром, не зная, жив ли. А протрезвев, чётко говорит, что бы она медленно собирала деньги себе на похороны. И, старушка мать, умывшись приветствиями сына, благодарит Господа, за всё.
Деду, гончару никак не хотелось об этом думать, но сейчас, уехать бы подальше от этих разговоров, которые жена тёща и соседи, ежедневно жуют, глотают и опять жуют и выплёвывают всем подряд для разнообразия. Его угощают и как салат и на десерт…
Вот, водитель сел, сейчас поедем, думал, дед.
И снова вспомнил свою глину, вот она, и, как говорил Роден, что глина, живая, и он, великий скульптор, прикасается к ней как, к груди матери, которая вскормила Человечество…
Прошёл трудовой день. Солнышко сегодня не просто жгло, а танцевало канкан. Но в этом танце партнёр сбивает шляпу с головы своей дамы ногой. Ничегошеньки себе танец! И солнышко, сегодня долбило по голове, которую забыли прикрыть хоть чем-нибудь. Это уже не тот танец.
Мудрый дед всегда прикрывался панамкой непонятной формы и цвета. Она, эта покрывалка, уберегала всегда от зноя и прямых иногда колючих лучей. Сидел и уже представлял как в верхний открытый люк будет врываться хоть и горячий, но ветерок, доберётся до центра быстро на этом маленьком допотопном автобусе, рождения прошлого десятилетия – перенадстройки гангренозного аппендикса того времени.
Туристов, в этом сказочно таинственном месте, как ни странно, сегодня не было. То ли жара их заманила в каньоны, знаменитые «ванны молодости», в холодных, ледяной воды купелях, отсиживались или на «Серебряных струях» брызгающего водопада, дышат, прячась в капающие и журчащие пещеры, только автобус был почти пустой. А вокруг всё было тихо и спокойно, а сквозь деревья светила, не луна, а солнышко.
… Гончар уселся на первое сидение от двери, потому, что от неё всегда свистел ветерок, ветерок, правда хоть и свежий, но больше своей свежестью напоминал паяльную лампу, когда смалят поросёнка к празднику, бывало и такое в его жизни, и этот освежающий ветерок будет обдувать его самодвижущиеся мощи, хотя он считал себя хоть и не Аполлоном, но не таким уж и худым. А эти языки так иногда его подтрунивали. Хотя всего 73 годика минуло, ещё двигался вполне шустро.
Шутники и друзья часто напоминали ему, что, дескать, ты уважаемый председатель артели гончаров, в своей мастерской, не путай, хоть у тебя и память хорошая, коль цитируешь целые куплеты стихов, которые учил в первом классе, так вот, таки не путай…
37 год, это твой день рождения, а 37 наоборот, получается, так 73 годика, 4 месяца и три дня это тебе уже сегодня, в твоей сберкнижке долголетия и долготерпения.
Конечно, эти мысли не очень-то и волновали его светлую голову, нет, не подумайте, что он хвалится, просто светлая от того, что сверкала зайчиками блестящая лысина и белым-бело седые остатки около ушей, – то ли пёрышки подрастающих цыплят или седой мох болотной травки-муравки.
Пассажиры передавали водителю за проезд, каждый персонально вручал в его собственные руки свои трудовые кровные украинские доллары-купоны-бубоны.
И тут…
Вдруг.
Из ничего.
Из воздуха горного.
Сказочного, альпийского.
Нет.
Крымского.
Марева бирюзового.
Из пены морской.
Появилась она.
Сказка гор.
Трелей соловьиных.
– Песня.
Соловьи, правда, улетели в каньоны, а те, которые отважились в такую жару, радовать нас, остались в густых кронах могучих орехов-баобабов, растущих у родниковых арыков, вот уж много – много десятилетий.
И.
Вдруг.
Онаа.
Березка.
Нет, она амфора! Да. Амфора!
Маревом, дыханием гор, раадугой, вошла, явилась, проявилась, как на фото, как, как, в пустыне мираж с пальмами и родниками в раскалённой пустыне. Мираж исчез и она, совершенно натуральная, не призрачная, и, не прозрачная, села на переднее сидение вполуоборот к чародею водителю.
Это была амфора со всеми её утонченными и выпуклыми формами. Глупость была бы попытка описать её прелесть и красоту. Её ресницы, улыбку, голос, и все женские прелести девочки, которая только сегодня преобразилась в девушку.
Преобразовалась.
… Это была амфора.
Шея, талия, а голос.
Вот он, её голос…
Мотор ещё не рычит… и не урчит как мое чрево от фасоли.
Голос её – вода живого ключика, которая снимает усталость смертельную у путника дальней дороги. И эта животворящая водица льётся из глубоких недр, сердца земли. И моего сердца… И… не только моего. Вот такая она.
Праздничные, светлые, звонкие струи, явились, и осветили души сидящих в этом душном автобусе всех сидящих, вот он живительный бальзам-амброзия, панацея. И, волшебные, они бегут не по камешкам в соловьиную рощу, струятся и журчат в сердцах, улетевших в юность и… и, в детство, всех сидящих пассажиров.
Они уже не слышат, что зарычал яко змей Гаврилыч, мотор, допотопный дизель. А водитель, эх, водитель, забыл обо всём и всё смотрел на неё. Одним глазом пытался увидеть дорогу, а правым и третьим, видимо прорезался только что. И было непонятно, смотрит он и видит ли хоть что-нибудь, вообще. А дорога, да что дорога? Хорошая! Настоящая! Серпантины. Строилась еще при царе-батюшке. Сейчас она, дороженька, извивалась гадюкой многоголовой, и хохотала: «А покажу-ка, я вам, мать вашу, кузькину мать. Такую дорогу надо уважать, а не красотой девичьей глаза портить. И нечего тут млеть от красоты, хоть и неземной… Что же ты, водила, крутишь баранку шустро и невпопад, как улыбающаяся пиранья вертит хвостиком во время ритуального танца, обдирая, чью-то еще живую плоть, … которая бьется в предсмертных конвульсиях…
Автобус медленно тронулся. Остались в холодке стражи порядка, перегородившие дорогу на Ялту, через Ай – Петри. А мы, медленно, нежно проплыли около бывшей чебуречной, на бреющем, мимо бывшего общежития, где жили студенты и школьники с севера, приезжавшие когда-то на сбор лепестков роз. Ну, думает гончар, помолодевший и перепутавший год рождения своего, наоборот, думает, что зарычит этот допотопный зверюга, помчит по серпантинам, быстро и шустро, как его сын, и не увидать высот горных, замелькает всё, зарябит в глазах, и не услышать голос ручейка-амфоры, удушит эта отрыжка и грохот Везувия на колесах. Кракатау ненасытный…странностями мотора, и вождения-вожделения, водилы…
Но, голос ручейка звучал и пел. Из горлышка Амфоры, мерцали искрились струи, похожие на волосы ундины-русалки, волосы как душистое вино «изабеллы» лилось, плескались от ветра, заполняя ароматом её смеха весь салон до последнего дальнего сиденья.
А там успел уже задремать еще один гончар, но уже от другой «изабеллы», которую умудрился принять на грудь целых два стакана, в такую то жару. Герой! И оттуда шёл другой аромат, но его не видели, и не ощущали, да и не хотели.
А водитель вёз амфору, как мастера возят заказчику квеври, огромного размера и значения, которую он ваял и обжигал долго и трудно. Он, мастер, вёз её как знамя, как символ радости друзей, гостей и всего многочисленного семейства горцев.
Даа. Видел он такую, на Кавказе, вез мастер на арбе. Одна, огромная на всю арбу, в два огромных колеса. Кавкааз! А тут, у нас, в Крыму… и уже слышал звуки марша торжественного, радостной музыки Мендельсона…
Шофёр видел другое – её на своих руках, целовал ее волосы, пахнущие солнышком, дышал светом, который она излучала.
А гончар, только силуэт и огромные как китайский веер её ресницы. И почему-то вспомнил, что только прошло три дня, как его сынок прокатил по этой дороге. Они побывали в заросшей травой и колючками, когда-то живой мастерской, а сейчас запустение, не те силы, и времена… Остановились у ключа, попили водицы взяли с собой. Потом сын остановил машину, зашёл в магазин, потом другой. Принёс что-то подмышкой, и торжественно вручил его любимую «Изабеллу». Удивился отец, утро, жарко. И потом поехали медленно, на удивление и теперь можно спокойно смотреть по сторонам, любоваться такими красотами. Остановился, вспомнил, как отец впервые дал ему, пятилетнему сыну рулить.
Хрустнула пробка, и пошел аромат по салону. Отец сделал пару глотков, и они поехали дальше. Потом снова остановка.
– Помнишь, ты оштрафовал меня? Я неправильно крутанул рулём. Снова остановка. Итак ехали тихо, как тогда в детстве. Потом ты сказал: «Дождусь ли я, чтобы ты, сынок, сидел за рулем, а я попивал пивко или «изабеллу»… А теперь сын водил машину быстро, резко и отец его корил, надо ездить как он. Сколько лет. Мотороллеры. Явы. Москвич. Жигулёнок, Дарьяльское ущелье, Баку, Гуниб, тысячи километров и не одной аварии. А ты…?!
Но ответ прост, другие времена, другие скорости. Ну ладно, сынок, ну новая машина, ну опыт, да, японская безотказная… А на «хвосте висеть»?!
Потом, когда у него друзья спросили, почему он так водит, ответил так у меня стаж 25 лет. И рассказал, как он учился здесь на горных дорогах в, свои 5 лет отроду…
Да, сынок, а вот и мост. Помнишь. Ты остановил машину, но условного гаишника проехал. Я тебя отстранил от руля, остановку ты сделал не по правилам. И после отстранения, такую кислую мину выдал, что я снова разрешил, и радости твоей было больше, чем у меня от «Изабеллы» во все времена.
Потом уехал в дальние края на север, к самой финской границе. Край холода и комаров… А, кажется, это было вчера…
Дед забыл про Амфору, сиял улыбкой счастливого отца – сын только окончил университет, теперь юрист международник, сейчас везёт, ведет машину тихо осторожно, как учил отец. Итак, сынок, вёз его, как этот парень шофер везёт не свою Амфору-Амфору Радости. Счастья. Любви. Вот оно где. Предвосхищение жизни. Жить тем, что было. Жить тем, хорошим, что ещё будет. И что уже есть. Сегодня. И сейчас.
Автобус осторожно, крадучись, остановился. Все смотрели на неё. Сойдёт, останется, светить радостью и счастьем. Но толпа резко повалила, и пока она передавала водителю трудовые украинские евродоллары, это был антракт из балета Раймонда. Она, Амфора, периодически, ритмично, сверкала драгоценными камнями глаз своих, одаривала всех и вся. Пассажиры успокоились. Утихли и новые зеваки остановились, примёрзли своими взглядами, на предмете, неет, кумира, общего восторга.
А деду гончару не повезло совсем. Он сначала даже не поверил своим глазам, перед ним стоял барашек, породы каракуль – ноги были волосатые как у его сына спина, но у сына они были как крылышки, мы говорили: сынок, не был ли ты в том воплощение орлом, а тут какой – то барашек ягнёнок, динозавр, каракулевой породы. Вместо ног у этого муфлона, два ягнёнка с закрученными волосами, как на бигуди, как торнадо, волосы чёрные, а в центре торнадо пучок, как штопор похож на кисточки для росписи фарфора, а отдельные гулливеры – волосы, как у ехидны, готовые выстрелить в потенциального врага…
О! Амфора… Где ты? Отзовись!!! Приголубь и приласкай хотя бы взглядом, ну хоть одним лишь взглядом озари…
Муфлон медленно двигал волосами-стрелами ехидны каракулевой породы, перед самым носом деда. Народу прибыло, и гончар уже затосковал, вспомнил… «А счастье было так возможно, так близко, но судьба моя»… Это он, Гейне, которого так любил читать и цитировал при удобном случае в те далекие юные годы… Ремесленное Училище – 16 лет… Море. Керчь.
Автобус хоть и вёз Амфору, но на виражах люди как по команде поошли, то влево, то на правую сторону, они, конечно, не падали, а только дружно как маятник часов-ходиков, а потом как старая баржа – Б.Д.Б.– уходили в крен и деферент. А каракулевый муфлон откатывался тогда в сторону.
Она опять своей величавой красотой явилась ясным очам водителя. …Пассажиры, те, кому ещё, и которым уже только остается смотреть, а он, вдруг, поймал себя на мысли, что шепчет и так громко, что его могли услышать. Любит, не любит! Ой, нет!
– Посмотрит, не посмотрит, осчастливит взглядом, погладит улыбкой… Как в детстве, гадание на ромашку. Старики вертели конспиративно головами, как будто воровали что-то, а он гончар, почти громко: «Можешь, взглядом целый праздник вызвать в чьей-нибудь душе»… Ох! Опять этот козлоногий сатир с ратицами и копытами перед самым моим носом…
Шофёр плавно затормозил и ласково ругнулся: ну, бабуля, ну и торговка. Да здесь же и остановки нет! Но автобус вильнул, заскрипели, зашумели двери, и бабуля с корзинами непроданного урожая туристам, их почти сегодня не было. Она стонала, сопела, но корзинка и ведро с яркими помидорами поставила-таки на волосатые копыта муфлона. Спасибо, бабуля!
Кучерявый ругнулся, но кое-как протиснул свой живот и остальное сокровище кучерявого вида в середину автобуса.
Ах, батюшки святы, вот и онаа. Она.
Снова потянулись шеи и взгляды в сторону Амфоры.
Автобус плыл по волнам-серпантинам и все дышали, дышали радостью и красотой. Снова остановка. Сойдет, не сойдет, опять ромашка – любит, не любит… Но вышли совсем мало пассажиров, и около неё пустовало место.
Вот там и села еще одна. Она. А пассажиры глубоко вздохнули так, что казалось, и сам автобус вздохнул своими железными ржавыми боками. Чего бы это? Все увидели.
Это была хрупкая, стройная, по крайней мере, без трех подбородков и три арбуза вместо живота, но возраст, мда, с возрастом чуть постарше, лет на двадцать пять…
Две амфоры.
Теперь, две.
Силуэт, рисунок похож на Амфору-кумира.
… Но, вот сразу у всех…как шила, взгляды, мысли и улыбки, а голос, словно визг пилы тупой, – она назвала, пропела-проскрипела, что ей, до конечной, до Бахчисарая.
Людей заменили. Они ушли, улетели. Но, ребята! Вы что? Причём она. А мудрецы пишут, что Создатель внешность дает такую, какую он в прошлом воплощении заслужил…
И сколько же надо было натворить гадостей своим современникам, чтобы заработать и получить такое лицо!!!
… У Паганини, правда, тоже профиль был не совсем похож на Аполлона, но он гений! Ну, Данте имел такой же нос, который пытался клюнуть собственную бороду… Так это ж Данте!
Нос.
Бедная не амфора, ну зачем тебе такой нос? Вот носатой обезьяне он даже очень к лицу, так у этого обезьяньего народонаселения – достоинство и знак -главный претендент на почётное звание верный и неповторимый хозяин всего обезьяньего племени. И только он, хозяин и хан этого гарема, достоин, улучшить качество и количество, восстановленной демографии своего народа, и не надо ему никаких государственных копеек, которые не доворовали чиновники всех мастей и рангов.
… К нему, этому красавцу, затаив дыхание, с бьющимся любящим сердцем, украдкой, прибегали, прилетали, на крыльях любви, как белки-летяги, приплывали по бурным потокам соседушки – макаки, шимпанзушечки, горе – гориллочки. Что тут скажешь – сердцу не прикажешь. Хотя они знали, про шило в мешке… И за это они, если это шило торчало из мешка, или чуть пониже, платили клочьями шерсти из своей красивой причёски, а иногда и своей родной плотью и кровью. Эх, сердце моё, не стучи, глупое сердце молчи. Не грусти и не плачь,– это не твой калач. Всё ещё впереди. То ли ещё будет…
И, не только обезьяньему царству государству.
А он, красавец, в порыве лирически-любовного настроя души и сердца, пел. Пел громким, трубным голосом, а его нос, о, это сокровище духового оркестра, и голос-фагот, саксофон, бас труба, огромная, совсем не медная – живая… звала, звала на подвиг, на борьбу соперников, желающих получить право господина. Но его голос перекликался с песнями молодых красавиц, которые пели в роще, почти как у нас в России поют частушки:
… Девки, в кучу, хрен пришёл,
Выделите, я пошёл…
… И потом после частушек начинались танцы игры, точнее прелюдия любви почти тискотека.
А теперь посмотрите правде в глаза. Ревность-пережиток как у людей. И, конечно братьев наших меньших, так это что, а дедушка Дарвин говорил, что его родная бабушка оттуда, на Комодо, деревня, такая, эти носатые живут и сейчас. Так они не меньшие братья, ещё роднее…
А тебе, амфора, которая так и не станет никогда Амфорой, знакомо? Ты знаешь, что такое прелюдия любви. Любовь? Тебе писали записки в пятом классе и позже.
… Люби меня, как я тебя
И будем вечные друзья…
А вот ещё классика…
«Там где цветы всегда любовь, и в этом нет сомненья, цветы бывают ярче слов и краше объясненья»… Тебе писали такое в далёком, увы, прошлом, как деду ещё пятиклассница – первая любовь…
Дед вспомнил своего коллегу, гончара. Он мог, за считанные минуты, выкрутить кувшин или амфору, и творение было достойным остаться на века, не хуже греков, грузин, египтян. Однажды он, тот мастер врезал «портвешку», и решил показать мастер-класс. Показал. Она стояла, и сверкала своим совершенством формы и пропорций. Но винные пары толкнули-придавили макушку мастера, и одно неверное движение, он её погладил, как гладят ребенка по головке неопытной и нелюбящей ладонью и амфора «села» от собственного веса.
Теперь этот, – результат оплошности, содеянный всё же не рукой… родителями, сидит в автобусе, и коптит наши поющие души и сердца.
… Верхняя часть амфоры «села» так, что нос её, когда разговаривала с водителем, нос её «тюкал», клевал собственную бороду…
Потом собачий прикус – наоборот, нижняя губа наползала на нос, и мешала дышать.
Она расплатилась, билет до Бахчисарая…
Бедные пассажиры хорошо, что мне скоро выходить. Потом еще, когда автобус трясло по колдобинам, грохотали и хрустели её рёбра на обезжиренном, почти высохшем,– мумифицированном теле. Была откормлена так, как говорят животноводы и зоотехники, про худых поросят, ниже средней упитанности, глистявый, бесполезно кормить, не в коня корм, его на скотобойню, городским на тушёнку…
Когда моя жена смотрит программу, теле, в мире животных, единственное, что можно ещё смотреть, по её мнению. Решила, животных лепили и ваяли несерьёзно. Вон такая же худая жирафа, смотри, бедная раскарячилась, ноги не гнутся, она даже попить не может по-человечески. А слон? Рук нет, вместо рук хобот. Другие звери как звери пьют воду, лакают, а слону и попить нельзя. Между ног болтается, на х. называется, как увидит п – поднимается… а что толку? Поесть и попить, по человечески не может. Он этим хоботом-рукой заливает себе в рот воду. Ну вот, как ты пьёшь с ладошки, много ты нахлебаешься с ладоней?! А зебру, смотри, как размалевали, и у хвоста, присмотрись, сзади, как вокруг хвоста линии идут, ну правильно, центр композиции хвост и то, что под хвостом. Сказал дед своей бабке. А выражение изуродовала как Бог черепаху. Значит и она урод?! Нет, Бог не мог таких зверюшек лепить или создавать.









