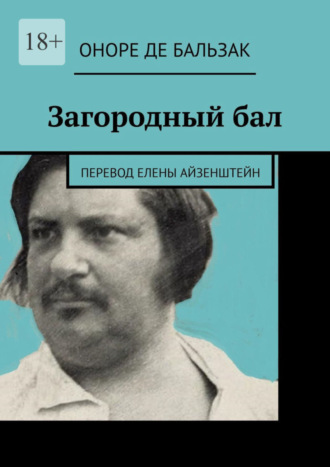
Полная версия
Загородный бал. Перевод Елены Айзенштейн
Природа дала ей изобилие необходимых выгод для роли, которую она играла. Крупная и стройная, Эмилия де Фонтень, по своей прихоти, обладала величественной и игривой походкой. Ее немного длинная шея позволяла ей выразить очаровательный образ презрения и дерзости. Она создала для себя плодотворный репертуар из мелодических поворотов головы и женских жестов, которые так жестоко или счастливо объясняют полуслова и улыбки. От прекрасных черных волос, пышных изогнутых бровей исходило такое выражение гордости и кокетства, что зеркало научило ее через неподвижные или легкие изгибы ее губ возвращать взгляд, холодные или ласковые ее улыбки ужасно изменившимися: или неподвижными, или нежными. Когда Эмилия хотела захватить чье-то сердце, в ее чистом голосе появлялась мелодия; но в нем могла также отпечататься кроткая ясность, когда она укрощала язык назойливого кавалера. Ее белое лицо и мраморный лоб казались прозрачной поверхностью озер, которые одно за другим морщинятся под усилиями ветра или возобновляют радостную ясность, когда успокаивается окружающая среда. Большинство молодых людей, став предметами ее презрения, обвиняли ее в том, что она ломает комедию; но огонь настолько сиял, обещания так били ключом из ее черных глаз, что она оправдывалась, пленяя стучащие сердца элегантных танцоров под их черными фраками. Среди юных модных девушек никто, кроме нее, не знал, как взять этот тон высоты, получив приветствие молодого человека, имевшего талант, или распускал обидную вежливость на людей, на которых она смотрела, как на слуг, и выливала свою дерзость на всех тех, кто пытался идти с ней в паре. Повсюду, где она находилась, она, казалось, получала скорее почтение, чем комплименты; и даже во дворце принцессы ее обороты речи и тон превращали кресло, на котором она сидела, в императорский трон.
Мосье де Фонтень слишком поздно открыл, как нежность всей семьи исковеркала воспитание слишком любимой дочери. Восхищение, которое свет сначала свидетельствовал ее юной персоне (за него свет не опоздает отомстить), еще возвысило гордость Эмилии и повысило ее уверенность в себе. Всеобщее попустительство развило в ней природный эгоизм испорченных детей, подобно королям, веселящимся от всего, к чему приближаются. Благодаря юности и очарованию талантов, ее недостатки в этот момент были скрыты от всех глаз, настолько более ужасные у женщины, которая могла доставить удовольствие только преданностью и самопожертвованием; но ничто не избежало глаз ее отца; мосье де Фонтень часто пытался объяснить своей дочери главные страницы странной книги жизни. Тщетное предприятие! Он слишком часто стонал от причудливой непокорности и иронической мудрости своей дочери, чтобы проявлять упорство в задачах такой сложности, как корректировка ее природной испорченности. Он довольствовался тем, что время от времени давал ей советы, полные нежности и доброты; но он страдал, видя, как самые нежные слова скользят по сердцу его дочери, как если бы оно было сделано из мрамора. Глаза отца прозрели так поздно, старому Вандейцу понадобилось больше одного раза, чтобы наблюдать дух снисходительности, с которым его дочь соглашалась на редкие ласки. Она напоминала маленьких детей, говорящих матери:
– Поспеши меня обнять, чтобы я пошла играть.
Наконец, Эмилия соизволила проявить нежность к своим родителям. Но часто по внезапному капризу, казавшемуся необъяснимым у юных девушек, она изолировалась и показывалась редко; она жаловалась, что должна со всем светом делить сердца своих отца и матери, она становилась ревнивой ко всем, даже к братьям и сестрам. Потом, после того как она сотворила пустыню вокруг себя, эта странная девушка обвинила всю природу в своем дурацком одиночестве и в добровольных наказаниях. Вооруженная своим двадцатилетним опытом, она осудила судьбу, не зная, что первый принцип счастья – в нас самих, она просила, чтобы жизненные вещи принадлежали ей. Она сбежала бы на край света, чтобы избежать брака, подобного тем, какие были у ее сестер. Кроме того, в своем сердце она носила ужасную ревность, видя их женатыми, богатыми, счастливыми. Наконец, несколько раз она давала это понять своей матери, жертве всех ее действий, так что мосье де Фонтень начал думать, уж не безумна ли дочь. Эти аберрации были достаточно объяснимы: ничего нет более общего, чем тайная гордость, родившаяся в сердце юной личности, которая принадлежит семье, высоко стоящей на социальной лестнице, кого природа одарила великой красотой. Почти все они считали, что их матери, достигнув сорока-пятидесяти лет, больше не могли ни симпатизировать их юным душам, ни постигать их фантазии. Они воображали себе, что большая часть матерей завидовали своим дочерям и хотели одеться по их моде с предумышленным замыслом затмить или вызвать их похвалу. Из-за этого случались часто тайные слезы и немые возмущения против утверждения материнской тирании. Посреди этих печалей, становившихся реальными, хотя зиждились чувства на воображаемой основе, они имели еще манию придумать тему своего существования и составляли для себя блестящий гороскоп. Гороскоп заставлял поверить, что они берут свои мечты в реальность. В их долгих размышлениях они тайно решали, согласятся ли их рука и сердце на человека, который выгодно владеет тем и другим преимуществом. Они рисовали в своем воображении тип, которому волей-неволей нужно подобное будущее. После многоопытной жизни и серьезных размышлений, которые приносили годы, глядя на мир и на его прозаическое движение, на несчастные экземпляры, прекрасный цвет их идеальных лиц отменялся; потом, в прекрасный день, они оказывались в текущей жизни, удивляясь, что счастливы без мечты, питавшей их поэзией. Следуя этой поэтичности, мадмуазель Эмилия де Фонтень остановилась в хрупкой мудрости на программе, которая должна была прийти в действие, чтобы ее претендент был принят. С этим были связаны и ее презрение, и сарказм.
– Хотя он юн и древнего рода, – говорила она, – он будет пэром Франции или старшим сыном пэра! И мне кажется невозможным не видеть на панелях моей кареты, бегущей по большой аллее Елисейских полей, посреди плывущих складок лазурного покрова герба, знака пэрства в Дни Лоншана5. Кроме того, мой отец считает, что наступит день самого большого почета во Франции. Я хочу военного, и я оставляю за собой право дать ему отставку. Я хочу наградить его, чтобы нас несли на руках.
Эти редкие качества ничему не служили бы, если бы это существо не обладало бы огромной добротой, красивыми оборотами речи, умом и если бы молодой человек не был бы стройным. Худоба, эта грация тела, хотя и мимолетная, особенно в представительном правительстве, была строгим условием. Мадмуазель де Фонтень имела определенный размер идеала, который использовала как образец. Юноша, который с ее первого взгляда не исполнял желаемого условия, даже не получал ее второго взгляда.
– О, мой Бог! Видите, сколько толстых мосье! – это было у нее выражением самого сильного презрения.
По ее словам, честные, но полные люди – плохие и презренные мужья; они не в состоянии входить в культурное общество. Хотя эту красоту считали изысканной на Востоке, избыточный вес казался ей несчастьем для женщин; но для мужчины это было преступлением. Парадоксальность ее мнения, благодаря веселости ее речи, развлекала. Тем не менее, граф почувствовал, что претензии его дочери, чья насмешливость была очевидна для некоторых как проницательных, так и милосердных женщин, позже станут роковым сюжетом насмешек. Он боялся, как бы странные мысли дочери не превратилась в дурную невоспитанность. Он трепетал, что безжалостный свет уже забавляется персоной, которая так долго на сцене и до сих пор не дождалась развязки комедии, которую играет. Что до актеров, то они, раздраженные отказами, ждали малейшего инцидента, чтобы отомстить. Безразличные, праздные начинали уставать; восхищение всегда утомительно для человеческого духа. Старый Вандеец знал лучше, чем кто-либо, что, чем искуснее выбираешь момент выхода на подмостки мира, двора, гостиной и на сцену, тем труднее выйти кстати. В течение первой зимы, последовавшей после появления на троне Карла X, он также удвоил усилия, совместно с сыновьями и зятьями, чтобы объединить в гостиных лучшие партии, которые могли представлять различные депутаты департаментов. Сияние этих праздников, роскошь залов для обедов, пахнущих трюфелями, конкурировала с известными обедами министров своего времени, которые устраивали подчиненным для уверенности в парламентском голосовании.
Почтенный Вандеец считался тогда одним из самых властных коррупционеров законодательной честности этой страдавшей от обжорства сиятельной Палаты. Странная вещь! Попытки выдать дочь замуж поддерживались блестящей милостью. Может быть, Вандеец нашел выгодную тайну, чтобы дважды продать свои трюфеля. Это обвинение, вынесенное некоторыми либеральными насмешниками, возмещавшими обилием слов редкость их приверженцев в комнате, не имели бы никакого успеха. Положение нашего дворянина было столь благородным и почтенным, что он не получал ни одной из тех насмешек, которыми злобные газеты эпохи окружали триста избирателей, министров, поваров, управляющих, принцев фуршетов и защитников учреждений, поддерживавших администрацию Виллеля6. В конце этой кампании, в течение которой мосье де Фонтень сдал все свои войска, он понял, что собранные им претенденты не станут на этот раз фантасмагорией для дочери и настало время с ней посоветоваться, он чувствовал внутри некоторое удовлетворение от того, как хорошо он выполняет свой отцовский долг. Сделав стрелу из целого дерева, он надеялся, что среди предложенных капризной Эмилии сердец он сможет встретить то, которое она отличит. Не в состоянии возобновить эти усилия, утомленный, впрочем, поведением своей дочери, к концу Великого поста, утром, когда заседание Палаты не слишком повелительно требовало его участия, он решил сделать властный шаг. Пока камердинер артистически рисовал на его черепе дельту пудры, дополненную свисающими на его благородную прическу крыльями голубя, не без тайных мыслей отец Эмилии попросил своего слугу приготовить гордую мадмуазель к немедленному появлению перед главой семьи.
– Жозеф, – сказал он, когда слуга заканчивал ему прическу, – снимите салфетку, натяните шторы, поставьте кресло на место, встряхните ковер у камина и всюду вытрите. Пойдемте! Дайте в мой кабинет немного свежего воздуха, откройте окно!
Граф увеличил свои распоряжения, и Жозеф запыхался, догадавшись о стремлении своего хозяина возвратить хоть сколько-нибудь свежести этой комнате, естественно, самой не убранной в доме, и преуспел, наложив отпечаток гармонии на груды счетов, картонок, святилище мебели, где сражались интересы королевских владений. Когда Жозеф немного привел в порядок этот хаос и разместил на виду, как в магазине новинок, вещи, которые могли быть внешне самыми приятными или создавали своими цветами поэзию бюрократии, он остановился посреди лабиринта документов, размещенных на ковре в каком-то порядке, сам восхитился моментом, наклонил голову и вышел.
Бедный синекурист7 не разделял хорошего мнения своего слуги. Перед тем как сесть в огромное кресло, он бросил подозрительный взгляд вокруг себя, проверив неприятный запах своего комнатного платья, схватил несколько гранул табака, тщательно протер нос, расположил лопатки и пинцеты, разжег огонь, подтянул четвертую часть своих тапок, бросил назад маленький хвост, расположенный между воротником и жилетом, тот, что из домашнего платья, и снова занял перпендикулярное положение. Потом он сделал удар метлой по пеплу очага, которым свидетельствовал настойчивость своего носа. Наконец, после того как в последний раз осмотрел свой кабинет, надеясь, что ничто не могло дать места шутливым замечаниям, которыми его дочь имела привычку отвечать на его мудрое мнение, старый Вандеец сел. Входя во все это, он не хотел компрометировать отцовское достоинство. Он осторожно взял щепотку табака, два или три раза покашлял, словно собирался произнести имя; он слышал легкий шаг своей дочери; она вошла, напевая арию Барбарины8.
– Здравствуйте, отец. Что вы хотите с утра пораньше?
После этих слов, брошенных, как ритурнель9 к напеваемой мелодии, она обняла графа, не с той семейной теплотой, которая возвращала таким нежностям дочернее чувство, но с беззаботной легкостью повелительницы, всегда уверенной в удовольствии, которое она создает.
– Мое милое дитя, – серьезно сказал мосье де Фонтень, – я пригласил тебя, чтобы серьезно поговорить с тобой о твоем будущем. Это необходимость, когда ты, в данный момент, выбираешь мужа способом, который должен вернуться к тебе прочным счастьем…
– Мой дорогой отец, – ответила Эмилия самым ласковым голосом, на какой была способна, чтобы прервать его, – мне кажется, что перемирие, заключенное между нами относительно моих претендентов, еще не истекло.
– Эмилия, закончим сегодня дурачиться по такой важной теме. В течение некоторого времени усилия тех, кто тебя по-настоящему любит, мое милое дитя, объединились, чтобы обеспечить тебе подходящую партию. Было бы преступной неблагодарностью легкомысленно приветствовать знаки интереса, на которые не один я расщедриваюсь для тебя.
Услышав эти слова, ударив копьем пытливого злого взгляда обстановку отцовского кабинета, юная девушка села в кресло, показавшееся ей менее использованным просителями, но сначала перенесла его с другой стороны камина и поставила так, чтобы сидеть напротив отца, и приняла наиболее серьезное выражение, при котором невозможно заметить следов насмешек, скрестив руки на дорогой белоснежной пелерине, беспощадно скомкав многочисленные тюлевые рюши. Глядя в сторону и смеясь над взволнованным лицом старого отца, она нарушила молчание.
– Я никогда не слышала, мой дорогой отец, о том, что правительство занимается делами в домашнем платье. Но, – добавила она, смеясь, – люди не должны быть трудными. Увидим, однако, проекты ваших законов и ваших официальных представлений.
– Я не всегда смогу решать легко ваши дела, юная безумица! Послушай, Эмилия! Мое стремление долгое время не компрометировало мой характер; отчасти он является отражением судьбы моих детей; я привлекаю полк танцоров, и ты громишь их каждую весну. Ты уже была невинной причиной опасных ссор внутри некоторых семей. Я надеюсь, что сегодня ты лучше понимаешь трудности твоей позиции и нашей. Тебе двадцать лет, дочь моя, и вот уже три года, как ты должна быть замужем. Твои братья и две твои сестры так богато и счастливо устроились. Но, мое дитя, расходы, которые возбудили эти браки, домашняя свита, какую ты держишь у своей матери, берут так много дохода, что я тебе смогу дать приданого меньше ста тысяч франков. Сегодня я хочу заняться будущей судьбой твоей матери; она не должна приносить себя в жертву своим детям. Эмилия, если мне придется оставить мою семью, мадам де Фонтень не обязана ни у кого просить милости, должна продолжать наслаждаться простотой, какой я слишком поздно вознаграждаю ее за преданность моим несчастьям. Ты видишь, мое дитя, что малость твоего приданного не может находиться в гармонии с твоей идеей величия. Это была бы жертва, такую я не приносил ни для одного из своих детей; но они щедро согласились не пользоваться преимуществом, творимым мной для самого милого ребенка.
– В их-то положении! – сказала Эмилия с иронией, взволнованно подняв голову.
– Дочь моя, не обесценивайте никогда тех, кто вас любит. Знайте, что щедры только бедные! Богатые имеют достаточно рассудка, чтобы не излишествовать тысячами франков на родственников. Хорошо, не дуйся, мое дитя, поговорим разумно. Среди юных молодых людей, готовых жениться, не отметила ли ты мосье Манервиля?
– О! Он говорит «зу» вместо «жу», смотрит всегда под ноги, потому что считает себя маленьким, смотрит на себя! Впрочем, он блондин, а я не люблю блондинов.
– Ладно. А мосье де Бодёнёр?
– Он неблагороден. Он плохо сложен и толст. По правде говоря, он брюнет. Нужно, чтобы два мосье соединились, чтобы соединились их богатства, чтобы первый дал тело и имя второму, который сохранил бы волосы… и тогда, может быть…
– Что ты имеешь против мосье де Растиньяка?
– Он почти стал банкиром, – злобно сказала она.
– А виконт Портондюэр, наш родственник?
– Дитя, плохо танцующее, к тому же без дохода. Наконец, отец, это люди без титула. Я хочу быть, по крайней мере, графиней, как моя мать.
– Но этой зимой ты видела кого-то, кто…
– Нет, отец.
– Но что ты хочешь?
– Сына пэра Франции.
– Моя дочь, вы безумны! – сказал мосье де Фонтень, поднимаясь.
Но вдруг он поднял глаза к небу, кажется, зачерпнул в религиозной мысли новую дозу безропотности; потом бросил взгляд отцовской жалости на своего ребенка, ставшего взволнованным, взял Эмилию за руку, сжал ее и нежно сказал:
– Бог свидетель, бедное потерянное существо! Я добросовестно выполняю мой отцовский долг перед тобой. Что значит добросовестно? С любовью, моя Эмилия! Да, Бог знает, этой зимой я представил тебе самых честных людей, чьи качества, нрав, характер, были мне известны и казались достойными тебя. Мое дитя, моя задача исполнена. Сегодня я возвращаюсь арбитром твоей судьбы, нахожу себя вместе и счастливым, и несчастным, оттого что освобождаюсь от самых тяжелых отцовских обязанностей. Я не знаю, как долго еще ты будешь прислушиваться к голосу, который, с несчастью, никогда не был серьезен; но знай, что семейное счастье основывается не на блестящих качествах и доходах, а на взаимном уважении. Это счастье по своей природе скромно и несиятельно. Иди, моя дочь, я приму того, кого ты приведешь мне в зятья; но, если ты окажешься несчастлива, подумай, что не имеешь права обвинять в этом твоего отца. Пойми, я не отказываюсь от попыток предпринять шаги, чтобы помочь тебе, но да будет твой выбор серьезен и окончателен! Я не могу дважды компрометировать уважение, к которому обязывают мои седины.
Волнение и торжественность тона, каким была произнесена ласковая речь отца, живо тронули мадмуазель де Фонтень; но она скрыла свою нежность, прыгнув на колени графа, который сидел, весь еще дрожа от волнения; она расточала ему самые милые ласки, так что лоб старика разгладился. Когда Эмилия решила, что ее отец уже пережил мучительность эмоций, тихим голосом она сказала ему:
– Я очень благодарю вас за ваше трогательное внимание, мой дорогой отец. Вы привели в порядок ваши апартаменты, чтобы принять дочь. Вы, может быть, не знаете, что она настолько же безумна, как и мятежна. Но, мой отец, очень трудно все-таки выйти за пэра Франции? Вы говорили, что их делают дюжинами. Ах, по крайней мере, вы не откажете мне в советах.
– Нет, бедное дитя, нет. Я буду кричать тебе: остерегись! Подумай, однако, что пэрство слишком ново в нашем «управлении», как говорил покойный король, чтобы пэры могли обладать большим состоянием. Те, кто богаты, хотят стать еще богаче. Самые богатые из всех членов нашего пэрства наполовину не владеют тем, чем владеют наименее богатые лорды Высшей Палаты Англии. Пэры во Франции ищут богатых наследниц для своих сыновей, неважно, где они находятся. Необходимость заключать денежные браки будет длиться больше двух веков. Возможно, что ожидание счастливого случая, которого ты желаешь, поиск того, кто может стоить самых прекрасных лет, твое очарование, так как в этом веке женятся исключительно по любви, говорю я, осуществит чудо. Когда опыт скрывается под таким свежим лицом, как твое, можно надеяться на чудеса. Не ты ли раньше легко распознавала добродетели в большем или меньшем объеме тела? Это немалая заслуга. Поэтому у меня нет необходимости предупреждать такую мудрую, как ты, в трудности предприятия. Я уверен, что, видя лестную фигуру, ты никогда не предположишь незнакомца с добрым нравом, или не станешь оценивать добропорядочность в нем через красивые обороты речи. Хотя сегодня ничто не отмечено высоким образом, может, кто-нибудь раскроет тебе этих молодых людей. Впрочем, ты держишь свое сердце в узде, как хороший рыцарь, уверенный, что не позволит дрогнуть своему скакуну. Желаю тебе удачи, дочь моя!
– Ты позабавил себя мной, отец! Ладно. Я заявляю тебе, что скорее умру в монастыре мадмуазель де Кондэ, чем позволю себе не быть женой пэра Франции.
Она вырвалась из рук своего отца, гордая быть его госпожой; ушла, напевая арию «Милая не сомневается в тайне брака»10. Случайно семья праздновала тогда годовщину домашнего торжества. За десертом мадам Плана, жена генерала и старшего брата Эмилии, достаточно громко говорила о юном американце, владельце огромного состояния, который так страстно увлекся ее сестрой, что делал чрезвычайно блестящие предложения.
– Это банкир, я полагаю, – небрежно сказала Эмилия. – Я не люблю людей финансов.
– Но, Эмилия, – ответил ей барон де Виллан, муж второй сестры мадмуазель де Фонтень, – ты не любишь и представителей судебной системы; если ты отвергаешь всех нетитулованных, я не знаю, из какого сословия ты будешь выбирать мужа.
– Особенно, Эмилия, – добавил генерал-лейтенант, – с твоей системой худобы.
– Я знаю, – ответила юная девушка, – то, что мне нужно.
– Моей сестре хочется большого имени, – сказала баронесса де Фонтень. – И ста тысяч ливров ренты. Мосье де Морсе, к примеру!
– Я знаю, моя дорогая сестра, – сказала Эмилия, – что я не заключу такого дурацкого брака, какие так много видела. Впрочем, чтобы избежать брачных дискуссий, я заявляю, что буду смотреть, как на врагов моего покоя, на тех, кто будет говорить мне о браке.
Дядя Эмилии, вице-адмирал, семидесятилетний старик, чьи доходы выросли до двадцати тысяч ливров ренты по закону о компенсации, имел власть сказать своей любимой племяннице тяжелые истины; он воскликнул, чтобы рассеять горечь этого разговора:
– Но не терзайте мою бедную Эмилию; разве вы не видите, что она ждет совершеннолетия герцога де Бордо?
Эта шутка старика была встречена общим смехом.
– Остерегитесь, чтобы я не вышла за вас, старый безумец! – сказала юная девушка, чьи последние слова счастливо потонули во всеобщем шуме.
– Дети мои, – сказала мадам де Фонтень, чтобы смягчить дерзость Эмилии. – Неужели вы все не воспримете совета своей матери.
– О, мой Бог! Я не слушала бы никого, кроме себя, в деле, которое касается меня, – очень отчетливо сказала мадмуазель де Фонтень.
Все взгляды обратились на главу семьи. Каждому было любопытно увидеть, что он предпримет, чтобы сохранить достоинство. Благородный Вандеец не просто наслаждался высокой оценкой в свете; но еще более счастливый, чем другие отцы, он дорожил оценкой семьи, чьи члены признавали солидные качества, использованные им, чтобы создать своим состояние. Он был окружен глубоким уважением, которое свидетельствовали английские семьи и некоторые аристократические дома континента представителю генеалогического древа. Он хранил глубокое молчание, и глаза гостей поочередно неслись то к надутому и высокомерному лицу избалованного ребенка, то к строгим лицам мосье и мадам де Фонтень.
– Я позволил моей дочери Эмилии быть хозяйкой своей судьбы, – бросил граф глубоким тоном.
Тогда родственники и гости посмотрели на мадмуазель де Фонтень с любопытством, смешанным с жалостью.
Это слово, казалось, объявляло, что отцовская доброта устала бороться с характером, который семья считала неисправимым. Зятья шептались, братья бросили их женам шутливые улыбки. С этого момента все перестали интересоваться браком юной девушки. Только один дядюшка, как старый моряк, осмеливался доходить до последней черты и сносил ее выходки, никогда не смущаясь отвечать огнем на огонь.
Когда после голосования о бюджете наступило прекрасное время, эта семья, истинная модель парламентских семей с другого края Ла Манша, имеющих «лапу» во всех администрациях и десять голосов в Муниципалитете, улетела, как выводок птиц, через прекрасные места Дольнэ, Дантони, Шатнэ. Богатый генерал купил для своей жены в окрестностях загородный дом, так как в течение летнего сезона она не оставалась в Париже. Хотя прекрасная Эмилия презирала обычное, это чувство не касалось презрения к выгодным доходам, скопленным буржуазией. Она сопровождала сестру на ее пышную виллу не столько из дружбы, не для семьи, которая там укрывалась, а потому что хороший тон властно этого требовал от всех женщин, уважающих отсутствие летом в Париже. Зеленая местность Со изумительно отвечала требованиям хорошего тона и долгу общественных перемен. Поскольку было немного сомнительно, чтобы репутация пасторального бала в Со превысила пределы департамента Сены, необходимо нарисовать некоторые детали еженедельного праздника, по своей важности угрожавшего превратиться в учрежденный на постоянно. Окрестности маленького местечка Со пользовались славой благодаря местоположению; туда перебирались, чтобы ими восхищаться. Может быть, они были самыми обыкновенными и стали известными только по глупости парижской буржуазии, которая, выходила в бездны щебня, чтобы восхищаться равнинами Бос. Однако поэтические тенеты Дольнэ, холмы Дантони и долину Бьевра населяли несколько странствующих художников, незнакомцев, очень сложных людей, множество красивых женщин, у которых не отсутствовал вкус, и это заставляло верить, что парижане правы. Но Со обладало другой, не менее властной над парижанами привлекательностью. Посреди сада, где открывались восхитительные виды, находилась огромная, открытая со всех сторон ротонда, чей купол, легкий и огромный, поддерживался элегантными колоннами. Этот пасторальный навес защищал зал для танцев. В течение сезона редкие деревенские жители, сияющими кавалькадами, в элегантных и легких каретах, припудренных пылью пешеходов-философов, не съездили хоть раз или два во дворец деревенской Терпсихоры. Надежда встретить прекрасную светскую женщину и быть замеченным ею, надежда менее часто обманывающая: увидеть юных крестьянок, таких же хитрых, как их ценители; прибегали на бал в Со в воскресенье многочисленные рои клерков-адвокатов, учеников Эскулапа, и юные молодые люди, чей белый свежий оттенок поддерживался влажным воздухом парижских магазинов, где они стояли у служебного входа. Множество брачных союзов задумывалось под звуки оркестра, занимавшего центр круглой залы. Если бы ее крыша могла говорить, о скольких любовях она бы поведала!

