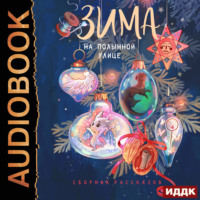Полная версия
Век серебра и стали

Денис Лукьянов
Век серебра и стали
© Лукьянов Д. В., текст, 2024
© ООО «Издательский дом «КомпасГид», 2024
* * *Я Атум в своих восходах, я – Единственный. Я воссуществовал в Нуне. Я – Ра, что поднимается в самом начале, правитель всего сотворенного им.
Я великий бог, породивший самого себя, Нун, что сотворил его имя Паут Нечеру в виде бога.
Я – тот, кто непобедим среди богов.
Я – это Вчера, и мне известно Завтра.
Из египетской «Книги Мертвых»Человеческий род от природы демократичен и склонен к политеизму, за исключением той эволюционной элиты, которая окончательно избавилась от потребности в божественном. Человеку инстинктивно хочется, чтобы богов было много, потому что он – Один.
Салман РушдиПролог
Закат созидающего Атума
О друзья мои, ах, враги мои: как красиво они горят!
Горело правда красиво – звучными вспышками. Но перед тем как рассмеялось немым голосом пламя, была первая искра – а до этого…
Дым дурманил голову и щекотал ноздри даже на улице, в жидком петербургском вечере, разбавляемом газовыми фонарями. Он тонкими струйками, будто нитями паутины, тянулся из щелей и окон, пытаясь добраться до пухлой полупрозрачной луны, но таял призраком, давно забывшим, почему скитается по бренной земле. Дым манил и тянул, соблазнял немногочисленных прохожих свернуть с пути…
Дым без огня.
Дым опиума.
Курительный салон «Нефертити» с золотой лепниной явно не стеснялся своего гордого названия, хоть и расположился в одном из самых бедных районов, рядом с обшарпанными домами без серебряных шпилей и трущобами – хлипкими, будто чахоточными, готовыми в любую минуту развалиться с мерзким треском. Хозяева заведения были людьми смышлеными – знали, что опиум дорожает и отходит на второй план, становясь наркотиком элитным, как никогда прежде. Отсюда и «Нефертити»: всё же досуг для особ царских, не столько по статусу, сколько в душе, – таких всегда больше. Корона не отягощает их головы заботами, но дает необходимый масляный лоск. К тому же чем глубже спрячешь курильню в лабиринтах города, тем проще вести бизнес. Знают лишь те, кому нужно.
Проще. Но только не этим проклятым продавцам модного наркотика – песка Сета.
Если из «Нефертити» дым выползал тонкими струйками, то внутри, в духоте, он застилал зрение зыбкой яичной пленкой. Она притупляла сначала взор, потом сознание. Аромат персикового дерева – а чего еще здесь ждать? – смешивался с неуловимо наркотическим, аморфным, словно подстраивающимся под каждого клиента. Каким захочешь, таким запахом он и будет. Людям, лежавшим на кушетках в окружении мягких бархатных подушек, это явно нравилось.
– Бо-оги, – протянула дама в платье с чрезвычайно глубоким декольте. – Не думала, что мы будем курить эту дрянь после явления богов Старого Египта. А мы…
Мужчина в расстегнутой рубашке, раскрасневшийся, с блестящей от пота грудью, затянулся из длинной толстой трубки в виде грифона и закатил глаза, вдыхая дым. С минуту помолчал, а затем откинулся на подушки и продолжил праздный разговор:
– Дорогая, Китай – дело тонкое! Они не прекратят баловать нас этой своей забавой до конца дней. И никакой песок Сета им не помеха.
– Да-а-а… – И дама затянулась из трубки. После долгой паузы добавила: – Хорошо их, однако, бритты нафаршировали… [1] ух, ух как… ой как хорошо…
– Лучше бы бритты нафаршировали меня одного, обошлись бы без войн. В меня вместился бы весь их опиум, – хохотнул мужчина.
К ним подошел китаец в традиционном костюме и принес два бокала пузырящегося шампанского. Заодно положил рядом газету – свежий выпуск «Северной пчелы» от 15 апреля 1842 года. Откланялся и удалился, оставив гостей наедине.
– Новости. – Мужчина потянулся за газетой, но только с четвертого раза подхватил ее. – Новости – это всегда хорошо. Ну или… э-э… ух… как минимум интересно.
Мужчина пробежал взглядом по страницам, пытаясь уловить смысл слов, скользящих по краю задурманенного сознания.
– О-о! Уже знаешь новость, дорогая?!
– Как я могла бы узнать, если ты забрал обе газеты?
– Разве?
Мужчина разомкнул пальцы. На подушки свалилась вторая «Северная пчела», слипшаяся с первой. Мысли зацепились, спутались в клубок. Вытерев платком пот со лба, мужчина перескочил к другой теме:
– Ты посмотри! Они везут к нам сердце Анубиса! Прямо из Парижа!
– Анубис и Осирис… – пробубнила дама, сверля глазами бокал шампанского, словно гипнотизируя его. Ей хотелось, чтобы блаженные пузырьки поскорее ударили в голову. – И сдалось нам здесь сердце бога? Своего хватает…
– Ну-ну-ну, – поцокал заплетающимся языком мужчина. – Дорогая, не заставляй меня краснеть! Даже нищие знают, что нашли сердце всего одного бога, и его – его! – на неделю привозят к нам. Тут вроде написано, что в Пасху его будут выставлять для паломничества и научного ин-те-ре-са…
– Вроде! – усмехнулась дама, но дальше ее голос ослаб. – Мой муж не может прочитать газету, которую держит у самого носа!
– Моя жена не знает простых истин!
Они ухмыльнулись и рассмеялись. Смех звучал неестественно, будто тоже опьянел от дыма – сладкого, дурманящего, вездесущего, стирающего грани реальности. Мужчина вновь промокнул лоб, потянулся за бокалами. Чуть не разлив один, всё же подал напиток жене.
– За это и люблю тебя, дорогая. За нас!
– За это и люблю тебя, дорогой! За нас! И… – она задумалась. – За старый мир, который был куда проще.
– За старый мир…
Мужчина залпом выпил бокал. Дама только-только поднесла свой к пухлым губам, как вдруг остановилась – принюхалась, нахмурилась. Подошедший китаец забрал газеты и серебряный поднос. Мужчина махнул рукой, и слуга заодно прихватил пустой бокал.
– Дорогой? – Дама все принюхивалась, провожая мужчину настороженным взглядом.
– А?
– Ты ничего не чувствуешь?
– Конечно нет, я обкурился вместе с тобой…
– Нет, я имею в виду… чего-то странного… ай, ладно, забудь, мысли – кони привередливые. И тот мужчина… тебе не показалось, что это был не китаец?
– Китаец, не китаец, какая разница. Азиаты, ха! Главное, что он тут всё делает, пока мы отдыхаем. Заслужили! Верные слуги Его Императорского Вели-чия, да будет он жив, здоров и могуч! Я, между прочим, давно говорил, что эта их китайская традиционная театральность – пережиток прошлого…
Прежде чем «Нефертити» взорвалась и стремительно вспыхнула, чета услышала звон бьющегося хрусталя – резкий, будто начерченный ровной геометричной линией.
Люди в соседних домах просыпались, выбегали на улицы. Смотрели, пытались помочь – суетились во внезапном хаосе, сменившем воздушную тайну наступающей ночи и загадку грядущего дня. В суматохе никто не заметил, как за мгновение до взрыва, принесшего голодное пламя, из «Нефертити» вынырнул человек. Он скинул с себя китайский наряд, потер тонкие руки с набухшими фиолетовыми венами…
…и как же красиво они горят, – подумал незнакомец, наблюдавший за пожаром из тени трущоб; незнакомец в мешковатом балахоне, из-под капюшона которого торчала густая борода – странная, словно уложенная зигзагами и змеиным языком двоящаяся книзу. Незнакомец видел вынырнувшего за мгновение до взрыва человека. И наконец, будто общаясь с мраком на его шепчуще-приглушенном языке, не словами, а оттенками света и тени, проговорил:
– Занятно… Надо рассказать гранд-губернатору, это будет очень полезно… Занятно, весьма занятно.

Книга первая.
Стопами солнца
– Раб, соглашайся со мной!
– Да, господин мой, да!
– Что же тогда благо?
– Шею мою́, шею твою сломать бы,
тела в реку выбросить – вот что благо!
Кто столь высок, чтоб достать до неба?
Кто столь широк, чтоб заполнить всю землю?
– Хорошо же, раб, я тебя убью, отправлю первым!
– А ты, господин, надолго ли меня пережить собрался?
Фрагмент вавилонского «Диалога о благе»…Смерть в этом свете видится хитросплетенной выдумкой, уловкой коммерсантов-философов.
Рома Декабрев
1
Петербургский цирюльник
Восход юного Хепри

Искры очерчивали темноту крыльями феникса: отрывались от затухающего пламени, гипнотизировали, туманили взгляд, словно пытаясь спрятать обугленные остатки сгоревшего здания.
Вахмистр Виктор Говорухин – ему вечно говорили, что морщинистое лицо его, в особенности профиль, напоминает самого Рамзеса II, – наклонился, поднял обугленную ножку некогда изящного стула и прикурил от нее. Чуть не подпалил длинные усы.
Бессвязно выругавшись, Виктор пустил струю сизого дыма – сам закашлялся от крепости папиросы, курил редко, но со вкусом, в кресле, не привык на ходу по ночам. А тут, на́ тебе, вызвали – и ладно случилась бы какая ерунда, но вот оно что… Виктор пытался сосредоточиться, укутаться в мысли, как в шелковый плед – часто видел такие в витринах, особенно в последнее время, – но какой-то неразборчивый, назойливый фоновый шум не давал этого сделать. И откуда он только брался…
– Ваше благородие, – наконец расслышал Виктор. – Господин вахмистр!
Виктор дернул головой, как плохо пошитая кукла, – резко и неуклюже. Рядом, теребя в руках исписанные листы, нервно покачивался молодой полицейский.
Или теперь правильно говорить «жандарм»?
Виктор все никак не мог разобраться.
– Боги, я же сто раз просил, не называйте меня по званию. Раздражает, как плохая скрипка в руках неумелого музыканта…
Увидев, что жандарм занервничал еще сильней, Виктор смягчился.
Сет побери, или не жандарм?! Всё же полицейский?!
– Ладно, что там у тебя? Тела удалось опознать?
– В таком состоянии… с трудом, с трудом. – Молодой человек снова скомкал бумаги. – Но местные рассказали о посетителях. Говорят, видели их не в первый раз – и те всегда бронировали опиумную, гм, целиком…
Виктор, зажав папиросу в зубах, взял бумаги.
– Граф и графиня Богомазовы, – произнес молодой жандарм-полицейский, пока Виктор изучал страницу, исписанную темно-синими, как беззвездная июльская ночь, чернилами.
– Да, с такой-то фамилией. Ну и шуточки, Сет побери.
Виктор так увлекся материалами, что поднял глаза, только когда молодой человек кашлянул – он так и стоял на месте. Удивленно уставившись на жандарма-полицейского и наконец затушив папиросу, Виктор поинтересовался:
– И что ты стоишь, дорогой? Всё, свободен. Что ж вас никак нормально не научат… боги, раньше было куда проще!
Молодой человек, получив разрешение, тут же убежал в сторону разрушенной «Нефертити». Виктор вздохнул, поправил форму: темно-синюю твидовую куртку и такого же цвета фуражку с золотистым крестом-анкхом. Присел на холодную землю – в его возрасте, всегда считал Виктор, беспокоиться о здоровье уже поздно.
Да, раньше действительно было проще. Хотя бы год назад. Тогда Виктор точно знал, что он – полицейский. Точка. Никаких дополнительных приставок, званий, титулов и прочих глупых придумок. Но потом Его Императорскому Величеству – да будет он жив, здоров и могуч! – вздумалось начать реформы. Казалось бы, не столь значимые на фоне изменившегося мира, но головной боли чиновникам и служащим всех мастей они прибавили немало.
Третьего отделения тайной канцелярии вдруг не стало. Никто не догадывался, что Александр II, взойдя на престол, распустит ее, освободит просторные дворцовые залы. Виктор, впервые прочитав новость в газетах, был только рад и решение поддерживал – просиживавшие кресла Третьего отделения солидные господа давно перестали быть дерзкими хищными птицами, готовыми к малейшей опасности. Они постарели, ссутулились, привыкли к вкусной еде, мягким подушкам, комфортной одежде, сладкой и беззаботной семейной жизни. Их когти притупились. А ведь каких-то двадцать лет назад именно они подталкивали к действиям императора Николая – может, без их ласковых подсказок он бы и не решился на столь жесткие, радикальные меры…
Бесчисленные советники, вливавшие яд в помыслы, Николая и погубили. Говорили, что Его Императорское Величество поскользнулся на лестнице и неудачно упал, ударился головой, долго мучился, стонал на белоснежных перинах в окружении тяжело вздыхавших священников и недовольно цокавших медиков. Скончался. Но знать, еще не утратившая остроты ума, всё понимала – да и не только знать; все заставшие события двадцатилетней давности. Ответ читался и в глазах Александра, стоявшего на той же самой лестнице со свитой совсем других коршунов: молодых, дерзких, голодных до власти. И понимающих, что память народа о жестоких расправах прочна, как гордиев узел: так почему бы не сделать Александра новым Македонским, знаменующим времена новых богов, людей, порядков?
Но это осталось в прошлом. Жандармерия, лишившись шефов, осталась у разбитого корыта и перешла в ведомство Министерства внутренних дел. Их всех, как голодных зверей с разных континентов, затолкали в одну новую структуру. Виктор помнил, как на общих собраниях им пытались доходчиво объяснить новый порядок. Получилось – в лучших традициях, шиворот-навыворот. Чтобы не плодить названий – полицейские такие-то, полицейские сякие-то, – всех поголовно стали звать жандармами, новую единую организацию – звучно, красиво, жандармерией. Только поделили служащих на два больших отдела: по делам исключительно внутренним и внешним. Получилось как в старой сказке про бедную падчерицу – в одном мешке и ячмень, и просо, полный кавардак.
Никого, конечно, не спросили. Практический смысл у затеи отсутствовал: жандармы продолжали преследовать, полицейские – патрулировать. Зачем все это устроили? Сет их знает – только добавилось путаницы и лишних бумажек. И еще эти новые дурацкие должности, звания… Вахмистр Виктор Говорухин! Ради богов, всех и каждого, что это такое?!
Да, проще, все было проще, даже год назад…
А уж двадцать лет назад – тем более.
Ведь он еще в те годы чувствовал, как в воздухе даже не носится – это еще цветочки! – а буквально искрит одержимость Востоком. Тогда, конечно, она проникала в бытовую кутерьму только сквозь прозу, картины и стишки. К слову, стишки Виктор никогда не любил – считал пустой тратой времени. Не для поэтов – они-то пусть творят что хотят, и так не от мира сего, – а для самого себя. Есть ведь вещи куда более практичные и приземленные. Но было в то время нечто… такое неуловимое, как покалывание на кончиках пальцев. Словно первый, мягкий минорный аккорд аскетичного пианино перед чем-то бо́льшим – громогласным свинцовым орга́ном.
Это самое бо́льшее случилось двадцать лет назад, в 1822 году, когда Жан-Франсуа Шампольон [2] расшифровал египетские иероглифы.
Тогда боги Старого Египта явили себя миру.

У усатого господина дернулся глаз.
Садясь в мягкое кожаное кресло, господин даже представить не мог, что ближайшие двадцать минут пробудет как на иголках.
Нет, тут же исправился господин, хуже: как на раскаленных углях.
Усатому господину рекомендовали это место друзья, коллеги, родственники, да даже случайные знакомые, иногда краем уха слышавшие разговор, поддакивали: мол, да, да, и мы были, и мы рекомендуем! Все говорили, что это лучшая цирюльня среброглавого Санкт-Петербурга, другой такой не сыщешь даже на самых роскошных улочках Лондона, Парижа или Праги; нужно вкусить сей опыт, восхищенно добавляли друзья и знакомые, как алхимическую prima materia [3], только тогда можно познать мир в полноте, получить ни с чем не сравнимые впечатления и сказать, что жизнь прожита не зря!
Умение здешнего мастера стало легендой, одной из тех, которыми живет любой уважающий себя город. Усатому господину постепенно становилось даже неловко, что все вокруг брились здесь, а он – нет. Так что в этот прекрасный во всех отношениях день он собрался, нацепил шляпу и дошел до цирюльни на втором этаже приличного доходного дома по адресу набережная Екатерининского канала [4], дом 35.
Сидел он в светлой комнатке, плотно заставленной мебелью: шкафчиком, столом, парой стульев и комодом с огромным зеркалом в дубовой раме. Но в отражение сейчас предпочитал не смотреть. При мысли открыть глаза во время бритья все существо усатого господина брыкалось, он начинал ёрзать в кресле еще сильнее.
Потому что руки, Сет побери, эти руки…
Может, друзья перехвалили мастера?
Цирюльник Алéксас Óссмий орудовал бритвой так искусно, что она плясала в его руках, притом сразу несколько разных танцев – от нежного вальса до озорной джиги. Но при первом взгляде на него в голову даже не приходила мысль, что такой человек может брить. Руки, как у мясника – сильные и грубые, все в мозолях, – скорее напоминали чугунные валики. Да и сам по себе цирюльник казался каким-то… угловатым, будто обелиск, выточенный из монолитного камня: мощного, крепкого, ли-шенного urea mediocrĭtas [5], всякого изящества и грации – качеств, как думалось усатому господину, столь важных для человека, одно неверное движение которого могло привести к весьма печальному исходу.
Но руки этого Алексаса Оссмия творили невероятное. Бритва скользила по белоснежной пене. Цирюльник словно играл на пианино с виртуозностью, выдававшей годы опыта.
– Готово. – Цирюльник совершил последнее воздушное движение бритвой и снял белое полотенце с шеи усатого господина.
– Вы уверены? – дрожащим голосом промямлил тот, зачем-то ощупывая шею.
– Уверенней некуда, – устало вздохнул Алексас.
Пришлось пересилить себя и открыть глаза.
С точки зрения стороннего наблюдателя, на лице господина, все еще усатого, ничего не поменялось: каштановая растительность по-прежнему топорщилась в обе стороны пушистыми мягкими помазками. Но усатый господин, большой педант, замечал малейшие отклонения от самолично принятой нормы – как дракон из старых северных сказок замечает пропажу каждой монеты из неисчерпаемой сокровищницы. Пригладив усы, с точки зрения же господина, теперь наконец-то выглядевшие по-человечески, он потер идеально выбритый подбородок. Присвистнул.
– Честно, я от вас такого не ожидал. Простите, но ваши руки…
– Руки делают, – парировал Алексас.
– А глаза боятся? – хмыкнул господин.
– Не-а. Боялись бы – руки б не делали.
Усатый господин уже было открыл рот, придумав колкое замечание – ex nihilo nihil fit! [6] – но благоразумно промолчал. Шмыгнул носом – и перевел тему, как часто делал в таких ситуациях, чтобы не показаться растерянным, глупым или, чего хуже, не желающим продолжать светскую беседу.
– Вы слышали про сердце Анубиса? Они везут его к нам! Это чудо, causa causārum [7] всей грядущей суеты. Поверьте, говорю наверняка, все департаменты взвоют! Говорю как бывший чиновник.
– Следую хорошему совету не читать газет по утрам, – пожал широкими плечами Алексас и принялся натачивать бритву, с силой проводя по грубому кожаному ремню.
– Честно вам сказать, мне даже трудно поверить, что такое оказалось возможно! Что это все, ну вы понимаете, возможно. Истинные чудеса вокруг! А кто считает иначе, что же, damnant, quod non intellĕgunt! [8]
Алексас, покончив с бритвой, беспокойно покрутил в руках кулон с солнечным скарабеем.
– Да уж, и не говорите…
Усатый господин помнил, как это случилось, – смутно, эфемерными, словно струйки сигарного дыма, образами. Будь он в те дни не так занят государственными бумагами, параллельно изучая латинский словарь – верно напирала жена, что uidquid latine dictum sit, altum videtur [9], – может, захлебнулся бы волной общей эйфории. Но когда Жан-Франсуа Шампольон научил мир читать иероглифы, люди перевели тексты: со стен гробниц, с уцелевших папирусов, фигурок, сфинксов и обелисков, – и тогда…
Поняли, что магия Египта – реальна, что боги его – реальны. И посмертная жизнь – тоже.
Словно в доказательство, боги Египта заявили о себе, чтобы ни у кого больше не оставалось сомнений. Они снизошли, ничего не требуя, не диктуя законов, – просто дали понять, что люди не ошиблись. Тогда мир сошел с ума: может, от откровения, а может, от невероятного аромата, что источали божества, от их золотого с бликами лазурита сияния. Первые годы были страшными, но в то же время неуловимо-прекрасными – как пир во время чумы.
Время шло, и все поголовно, от прачки до двоечника-гимназиста, кинулись изучать древние тексты, часами сидели в библиотеках. Мир, наполненный светом новых богов и орошенный густой кровью восстаний, менялся. В городах появились новые храмы: в каждой столице – в честь своего бога. А сам Египет стал местом паломничества: там археологи продолжали копать в бесконечном поиске новых знаний, новых откровений.
И они их получили.
Когда откопали настоящее, черное, бьющееся сердце Анубиса – это господин помнил хорошо, – даже последние скептики убедились в реальности нового мира. Теперь научное сообщество, вечно ищущее lapis philosophorum [10] чистого знания, на мгновение сбросило серый нафталиновый хитин консервативности и принялось гадать: что это вообще такое, что оно значит, найдут ли сердца других богов?..
И вот: сердце Анубиса пусть на несколько дней, но в Санкт-Петербурге…
Усатый господин повернулся к распахнутому окну – его привлек ворвавшийся внутрь медовый запах цветущей весны. Тот колокольным звоном напевал о том, что уже через несколько дней наступит Пасха. Усатый господин не помнил, когда сирень зацветала так рано, к празднику, тем более – после такой-то убийственно холодной зимы, когда от одного прикосновения мороза можно было окоченеть, а дрова в доходных домах (и, поговаривают, даже в самом Зимнем дворце) кончились напрочь.
Вдалеке, за чередой ажурных домов, дымом возносящихся кверху и мерцающих в отблесках серебряных шпилей, высились купола собора Вечного Осириса – огромные, искрящиеся изумрудным стеклом, они напоминали три оазиса, нависающие над городом.
– Прошу прощения, – господин вдруг сморщился. – У вас не будет спирта?
– Простите? – не сразу сообразил цирюльник.
– Спирта, – повторил господин, когда Алексас повернулся к нему. – По-моему, у меня на щеке небольшой порез. Сущие мелочи, хотя, конечно, не стоит забывать о важнейшем принципе memento mori, но сейчас не об этом! Просто…
На пустяковой царапине, даже ребенку не страшной, проступила капелька крови – крохотная, меньше и представить сложно.
Алексас Оссмий эту капельку увидел.
И тут же свалился в обморок.
Алексас Оссмий не переносил вида крови.

Велими́р изучал яйцо с таким неподдельным интересом, будто в нем крылся смысл бытия. Впрочем, по утрам гранд-губернатор Санкт-Петербурга смотрел так абсолютно на всё. Морок спадал только после третьего умывания и плотного завтрака – мир наконец-то становился простым, привычным. Без философии.
На продолговатом столе просторной обеденной залы стоял привычный набор, без которого гранд-губернатор не мог представить своего существования: фарфоровая чашка крепкого черного кофе, только из турки, два яйца в серебряных рюмках, такой же серебряный графин с горлышком в форме головы петуха и ножками-лапками (внутри, увы, постоянно оказывалась вода), телячья вырезка и хлеб с толстым слоем сливочного масла.
Велимир всегда предвкушал завтрак с ночи. Сейчас его глаза чуть ли не слезились от наслаждения и вожделения. Он поправил салфетку на груди, глубоко вдохнул и запустил ложку в яйцо – скорлупка сверху была заблаговременно снята.
– Сэр?
Велимир вздрогнул, чуть не выронив ложку.
– Почему ты всегда подкрадываешься так незаметно, Парсо́нс!
– Простите, сэр. Но вам надо принять лекарство, сэр.
– О боги, Парсонс…
– Именно они, сэр.
Личный врач гранд-губернатора – высокий, бледный, худой, в строгом зеленоватом сюртуке чуть ли не до пола, – снял с серебряного подноса граненый хрустальный стакан. Прозрачная жидкость почему-то блестела в солнечных лучах. Идеально гладкое, остроскулое лицо Парсонса тоже блестело, поярче серебряных тарелок, – как и налысо выбритая голова. Врач поставил стакан на стол.
– Ваше лекарство, сэр. Утром натощак, сэр.
– И сегодня обязательно его пить? – сморщился Велимир.
– Да, сэр. Три раза в день, сэр. Еще три дня.
Велимир ничего не ответил – просто заерзал, бурча что-то невнятное. Зажмурился, залпом осушил стакан, поморщился еще сильнее и закашлялся.
Парсонс забрал пустой стакан – как всегда, двумя легкими элегантными движениями. Получил прекрасное европейское образование, а потом познал древние мистерии на святой земле Египта. Всегда был тактичен, учтив, не задавал лишних вопросов; вечно говорил «сэр» – не любил ни общепринятого «господина», ни устаревшего «сударя».