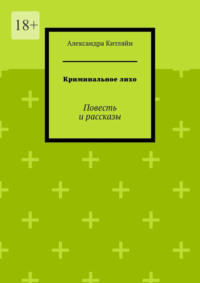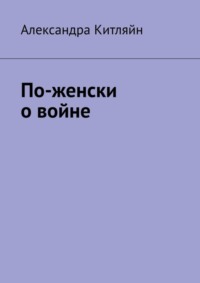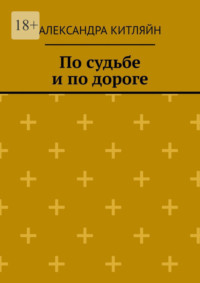Полная версия
Обыкновенная жизнь. Роман
И, наверное, в трудные минуты жизни приснится им когда-нибудь, как мама Мария зовёт певучим голосом по имени. И тепло им будет от таких снов.
Глава 7. От перемен не отвертеться
А Никита Калачёв нехотя тащит хомут в колхоз. На душе муторно, ведь долгожданное благополучие отдаёт своими руками. Мечтал за зиму обновить всю упряжь и начал с него, с хомута. Кожи купил на обшивку, потник приготовил. Клещи, решил, будут берёзовые. Заказ сделал шорнику из соседнего села – мастеру доверил. Сбрую наметил сшить сам. Терпеливо ждал радости, что весной нарядит Карьку во всё новое. Потратил десять рублей, весь заработок за сложенную печь-боярыню в доме Гороховых. Хомут-то справил, а прочее задуманное, так и не осуществил. Изрядные помехи возникли – государственное переустройство началось. От перемен не отвертеться! Время несётся, а жизнь, с одной стороны, бушует, а с другой, в семье, в доме, – стоит как вкопанная. Усложнилась. Началось обобществление – то есть организация крестьянских коллективных хозяйств советской властью, сокращённо – колхозов. Коллективное объединение из самых бедных уже создано в Черемшанке, но председателем назначен человек временный, не из своих, из другой деревни.
Много слухов ходит о раскулачивании, которого боятся – вдруг сошлют в самые дальние медвежьи углы России, и – кукуй. Вот и вступают в «артель», так называют люди деревенские крестьянские объединения. Их село в этом деле среди отстающих по двум причинам: далеко от райцентра расположено и невелико – дворов семьдесят всего.
Первого марта в Черемшанку из Питера рабочий с семьёй приехал. Удивились деревенские: «С какого квасу явился? Неужто сам в их глухомани жить захотел?»
Поселили его в оставшемся без присмотра белогвардейском доме, слева от усадьбы Калачёвых, расположившейся в середине короткой улицы, спускающейся к Черемшанке, к тому месту, где табун перегоняют через речку на пастбище. Никите и невдомёк было, какую роль сыграет приезжий в его судьбе. Помогал ему по-соседски, как положено. Огород перед посадкой тальником оплёл, заметив в этом деле полное неумение горожанина. Молоденькую дочку нового соседа, которую учительницей в школу взяли, подбадривал:
– Не тушуйся, девонька! Детей учить надо. Взрослые и то ликбезы проходят.
А жена у соседа тоже образованная, но в школу не согласилась. Библиотеку начала собирать, взрослых учить грамоте.
До приезда питерских в деревенской четырёхклассной школе была одна учительница. На дальнейшую учёбу детишек везли в другое село. Двое из Никитиных сыновей, Егор и Антон, окончили по семь классов, для чего в Баево, у Николая, его двоюродного брата, по три года жили. А дома бы учились – какая красота! Теперь вот ещё грамотная добавилась, глядишь, семилетку откроют. Сам-то Никита случайно читать и писать выучился, у попа тамошнего, где жили. Тот заметил любознательного и возился с ним по охоте, ни копья не взял за обучение. Хоть и малая грамотёшка, а всё-таки пользу давала – Святое Писание сам читал. Никита убеждён, что его пацанам грамота тоже пригодится. Старший сын, моряк Володя, тоже учён, потому и во флот попал.
С появлением питерского в деревне участились сходки да собрания. В них участвовали агитаторы из Баева, а то аж из Барнаула. Орали, спорили на этих сборищах в конторе до хрипоты. Никите, как и многим, непонятно, как можно нерадивых с работящими объединить. Да кто ж из них, из организаторов городских, поймёт крестьянскую жизнь, крестьянского труда не нюхавши.
Черемшанка издавна не едина, староверческая (коренная) и православная (приезжая). Люди до революции отличались ещё по трудолюбию, умениям, а семьи – по числу едоков да по земельному наделу. Но крепких хозяйств и четверти не насчитывалось. Скотины раньше поболе держали. Было у иных и по две коровёнки, как у Калачёвых, но это же на сколько душ. Лошадные тоже имелись. Но теперь полно безлошадных.
Как только смута поднялась, так всё искорёжила, что жить удавалось, разве себя забывши. В двадцатых годах мужчины уходили в партизаны, чтобы защитить свою землю от Колчака да чехов. За то белые деревню сожгли, пришлось заново строиться. Старая улица только на песках уцелела. И вот снова пертурбация…
Сосед питерский тихонько обосновывался по май месяц. И тут очередной уполномоченный предложил его в председатели. Вот те на – руководить приехал! Голосовали «за» – «грамотный», «партейный».
А скрытный какой Семён Кузьмич Зубов оказался! На таком условии и приехал: «Сначала разберусь, что да как. Смогу ли? Боязно браться за то, чего не делал». К тому же случалось: ликвидировали партийных организаторов весьма жестоко.
До вступления в должность приезжий вёл с крестьянином-соседом разговоры бытовые, домашние. А тут начал всё чаще затевать после собраний, когда возвращались ночью домой, речи о планах партии. Никита и не подозревал, что у кого-то насчёт человека планы могут быть. Какие планы? Некому их, кроме самого мужика, строить. Нет, зудит и зудит Зубов. На том в пух и прах разругались однажды.
– Ну и ну, – сказал Семён Кузьмич, – тёмный ты мужик, хотя кое в чём и соображаешь.
– Ты что ли светлый?
– Я – рабочий! А кто революцию сделал? Кто мир от монархии освободил? Бога ещё вспомни! Он помог тебе? – придрался он, да так сердито пообещал: – Мы вас и от этой зависимости спасём!
Но мужик в карман за словом не полез:
– А я, хоть и маловато, да собственным умом всё ж таки маракую. Бог землю сотворил. От земли я и живу! Он мне не мешал. А ты хочешь и землёй, и мной распоряжаться? И от этого мне счастье будет? Умный выискался! Ещё и на весь мир замахнулся!
– Ещё раз тебе говорю: я – питерский рабочий и большевик. Руки видишь? – Сунул прямо в лицо такие же, как у крестьян, грабары. – Вот этими руками жизнь свою строю, а не уповаю. Кто из нас быстрее до счастья дойдёт? И не один я, а с партией!
– Ишь ты! С партией! Начальников всё больше – работников всё меньше! Да как вы можете скопом моё счастье углядеть?! С какого панталыку? Откуда оно возьмётся? Как солнышко, выглянет и спрячется. А нам, мужикам, без бесперечь лямку тянуть надо, чтобы жить. Другого способа нет и не будет.
Ничего не ответил питерский. Сверкнули очами друг на друга соседи и пошли рядом, но с тех пор как будто и не сближались.
Объявились две правды. И вот ходят порознь.
Но Семён Кузьмич убедился, что деревню из ямы вытаскивать надо и что деревенские мужики – те же труженики. И сосед его Калачёв такой.
Никиту подтолкнули вступить в колхоз не агитаторы, а произошедшие перемены да сомнение, как жить, да вера в способность народа объединяться в противостоянии бедам. Думал, думал и вступил.
Примечание
Либез – ликвидация безграмотности, процесс борьбы с неграмотностью населения после революции.
Большевики —
Глава 8. Калачи
Никита не отсталый и косный, как бывают мужики крестьянского корня, для вида – простота сермяжная, болтун – баешник, а внутри закалённый жизнью, думающий мужик. Высокий, сухопарый, уже седой, старше жены лет на семнадцать. Он приехал в Черемшанку в конце прошлого века из-под Курска в составе большого семейного клана, овдовел, остался с двумя ребятишками, годков десяти – дочь Нюра, Нюша – как жена Мария зовёт, да малолеток – сын Вовка. И он, и дядька Тихон, и родной брат Михаил, и двоюродный Николай, что в Баево поселился, рослые, сильные, характерами не то что упрямые, а скорее твёрдые. Никиту послушавши, «на алтайские просторы „позарились“ и на то, что крестьянину вольнее здесь». Никита потому и чувствует на себе ответственность, что за ним родственники потянулись.
В Черемшанке устроили им проверку на пригодность, подселив сначала к одиноким да малосемейным. Велено было им за ночь печь сложить и затопить, на таком условии землю дадут. Втроём кирпичную соорудили, на рассвете растопили, дым из трубы пошёл, местные, что вечером обзывались "– приехала расея засеря», утром, увидев, что задание выполнено, проверили и согласились, что деловые мужики приехали. Осталось воспоминание, как курские земельный надел хапнули. С той поры и звали Калачёвской или Никитовой хаповкой.
«Мы – Калачи тёртые, в жизнь упёртые. Нападать не нападаем, и битыми не бываем!» – таковыми себя осознавали, так говорили при знакомстве. И звали их, по преимуществу, Калачами.
После смерти жены Никита посватался к сироте Марии, рассудив, что для него это лучший выбор. Жалел её, а детей, и от первого супружества родившихся и совместных, учил уважать мать, не позволял и разу ослушаться.
Все Калачёвы и за помощью, и за советом – к нему. А не раз бывало, что поднимал он всю родню на подмогу кому-нибудь, и сам первый участвовал. Родственники посмеивались: «Никиту не остановить теперь, пока до благополучия не доведёт!» Сам он притыкался к дядьке Тихону Воробьёву – за умом, а за дополнительной силой – чаще к брату Михаилу.
Жила семья Никиты Калачёва небогато, но надёжно. Жена оказалась характером кроткая, а в делах сноровая: и за огородом ходить, и лён сеять, и ткать, и прясть. Сам он, кроме земледелия, и сруб мог поставить. Много чего ещё умел: сшить удобную повседневную одежу, обувку какую-никакую стачать, хлебы испечь, печку-барыню во всю русскую избу воздвигнуть. Оба трудились тяжело и много. В деревне его звали чаще, чем Калач, Никитой Запалючим и за характер, и за трудолюбие. Утро чуть начинается, глядь, а он, плечами вперёд уже рассекает пространство, куда-то бежит по делам.
Сила, ловкость да работоспособность – вот на чём держался. Что ещё надо? Бога в душе, чтобы себе и людям жизнь не испортить и сохранить здравый ум. Так думал Никита Калачёв, а жизнь перевернулась. Который год смотрит он на неё, и понять до конца не может. Особенно, с чего это так резво новая власть на каждого мужика накинулась – никуда от неё не деться. Дерут тебя, как сидорову козу. Алтай – это ж какая даль и от Питера, и от Москвы! Ан, нет, трясут мужичков за грудки. У него уж и поговорочка готова: «Нам от новых властей не спасти своих костей» взамен прежней – «Вшей гнобили, шубу спалили», которая была приговором революции, и на которую однажды весьма отрицательно отреагировал Семён Кузьмич.
– Здорово, Никита Лукич! Куда это ты с хомутом торописси? В три погибели согнулси, – окликает догнавший его невысокий колченогий мужик.
– Нос к земле тянет – вот и согнулси, – передразнил Лупана, – Всю гордыню мою перевесил.
– В колхоз-то записалси?
– Один я что ли записался? Куды крестьянину от земли деваться? Колхозы землёй заниматься будут. А ты, Лупан Гаврилович?
– Погожу ещё малость. У меня, ты же знаешь, сын Макар где-то скрывается с «недобитыми» белыми. Кто они, бандиты или армия, не понимаю. Начальство не знает, поди. Молчи, тебе только сказал, весточка от сына была – забегал один вчерашней ночью.
– Не думаю, что не знает, – откликнулся Никита. Ждут чего-то. Я-то не скажу. Сам не брякай.
У конторы они застают нескольких односельчан.
Председатель Семён Кузьмич, в пиджаке, в отличие от мужиков, одетых в зипуны, в полвосьмого бодро врезается в толпу. С одним здоровается за руку, остальным кивает.
– А вы, Никита, – приостанавливается и добавляет, – Лукич, хомут несите на конюшню, там вам и справку дадут, что сдал. Обратился на вы, официально – дуется за то, что мужик «собственным умом маракует». Секретарь открывает навесной замок, и вместе с председателем и приезжим из района они ныряют в контору. Через мгновение он снова появляется на крыльце и приглашает:
– Лупан Гаврилович, а зайдите к уполномоченному.
– Ну, вот, – исподволь зыркнул Лупан на всё ещё медлившего идти на конюшню Никиту Лукича, – началося!
Тот ответил мимолётным понимающим взглядом и пошёл прочь.
Глава 9. Молчун и Запалючий
Восток разгорается всё больше. Солнышко весёлой розовой полосой отделяет на горизонте землю от неба. Поглядывают туда крестьяне – хорошей погоде радуются. Черемшанка негромко звучит петушиным пением, гусиными вскриками с речной заводи, плеском, когда птицы плюхаются в неё, собачьим брехом, мычанием, скрипом и хлопаньем калиток. День всё больше входит в трудовое русло, заполняется обычной жизненной маетой, на которую люди тратят все свои силы, чтобы соответствовать природному расписанию, несмотря ни на какие перипетии. Весь их опыт диктует, что иначе и быть не может. «Помирать собирайся, а рожь сей», – учит крестьянская мудрость.
Знакомая мужская фигура, в кепке и тёмной рубахе на выпуск, появляется из одной избы и двигается посредине главной улицы навстречу Никите Лукичу, не размахивая руками. Это братка Михаил.
– Здоров, Никита! – протягивает первым руку младший.
А тот, переложив хомут подмышку, правой любовно трясёт его шершавую хваталку:
– Будь и ты здрав, Миха! Куда?
Михаил младше Никиты на десять лет. Чуть ниже его ростом, плечами круче, волосом тоже сед, лицом тёмен от солнца, бритый. Всё крепко в его внешности, тяжёлый подбородок, мощная шея. В отличие от брата в глаза собеседнику глядит редко да и собеседников не ищет. Молчун. Так их и различают. Кто ссылается на Калачёвых, обязательно уточняет – «Молчун» или «Запалючий». На этот раз братишка смотрит на Никиту буром:
– В коровник колхозный. Скотничать. И Нинка моя туда же рано убежала, доить. Всякий день плачет по Жданке нашей, уж месяц как. Тебе одну коровёнку оставили, знамо, из-за детишек. А у меня… не семеро по лавкам, забрали единственную, —произносит медленно, с нескрываемой досадой.
Он живёт со своей завистливой и тщеславной женой Нинкой и любимым поздним ребёнком – сыном «Димитрием» – так супружница выговаривает имечко отпрыска. Чадородием не страдающая, она наделена чрезмерной сварливостью да болтливостью – редким в Черемшанке женским качеством. Никого мимо себя не пропустит без «комментариев». Только сам Михаил и может урезонить жену. А Никита за лучшее почитает с ней не связываться. Умную женщину можно и послушать, а эту… А ведь мог и высмеять так, что надула бы губки-то. Но нет! В своё семейное – разлад не вноси! И, вообще, он чаще в свой адрес что-нибудь ляпнет, насмешит до колик. Про других чего распространяться? Не умно.
Там, где появится Никита, мужики, глядишь, скучкуются. Прибаутки из него, как из рога изобилия, сыплются. Это свойство у одних вызывает восхищение, других люто раздражает, так что и ему, Запалючему, косточки перемывают.
– А я – на конюшню, брат. Карька – там, так что и сбрую – туда. Вот иду, кумекаю: имущества сдал немало, а другой – ничего, и теперь мы одинаковые. Это если взять и молоко водою разбавить – такая и есть среда общая. А трудиться теперь, как я должен в том разбавленном молоке?
Молчун хмыкнул и отозвался необычной для него, длинной речью, какую мог только перед братом отчебучить:
– Слышь, Никита, Сидел я на том собрании, где председатель про колхоз сказки рассказывал. Помнишь, какие вопросы задавал: кто строить, ремонтировать будет, печи класть, кто умеет то или другое делать, спрашивал. Часто на тебя пальцем мужики показывали. А ты, чё молчал? Я-то по привычке. А ты? Заездит тебя колхоз, вот что я думаю. А на тебя взгляну, как глухой пенёк, сидишь. Я бы на твоём месте…
– Посмотрим, как оно будет. Жить, брат, надо, ребятишек – вон у меня сколько!
– Да. Вперёд дорогу калачёвскому роду ты мостишь.
– Бог знает, как оно будет! А вдруг твой Димитрий бесчисленному потомству начало положит? Слыхал – на шофёра учиться хочет?
– Мечтает. Рад буду на старости лет горох перед собой видеть. Сколько сил ты на них, ребятишек своих, тратишь! И даётся тебе, Запалючему! Хочу только предупредить: завистники у тебя есть. Молчу, а слышу и вижу. Знаю.
– У всех они есть. Зато я им не завидую. Приходи вечерком, потолкуем.
– Приду, брат. Прояснишь что. Вот я и дальше терпеть буду. Вот скажи, как это так?! От Колчака да от чехов землю свою защитили. А теперь её у нас отбирают. Ты тогда правый был в который раз по жизни, если считать от переезда нашего из-под Курска на Алтай, что в партизаны всех наших позвал. И сейчас я за тобой готов, и Тихон за тобой пойдёт.
– Трудно мне это на себя брать. Твоего терпения бы чуток! Хотя твоё терпение – жены заслуга, – хохотнул старший, – У неё, что на уме, то и на языке.
– Думаешь, несуразное орёт? А она хитра и зла бывает. Тебе только сказать могу.
– Не трожь лиха, пущай сидит тихо, – без насмешки обронил Никита, приподняв видавшую виды шляпу в знак прощания.
– Вот-вот, – не поспорил Молчун.
Братья направились в разные стороны, В голове Михаила крутились надоедливые мысли. Отстояли землю. Обжились чуток. И вот обобществляют её, землицу-то… Как оно будет? В колхоз-то вступили, а кое-где и бунты поднимают.
Глава 10. Бестолковщина
Ворота конюшни открыты. Никита заходит внутрь. Стойла пустые. Лошадей уже перегнали на пастбище. Посевную на объединённых полях с горем пополам в колхозе закончили. И по этому поводу Никита с председателем столкнулся. Пахать было пора, а они всё организовывались да по дворам бегали, искали кулаков -«экслутаторов». Оттого и сев затянули больше, чем надо.
Терпкий конский запах, который он не спутает ни с каким другим, не выветрился из помещения, радует крестьянское сердце, хотя лошадей совсем немного, десятка полтора – больше не набралось. Обнищало крестьянство, но и с беднейших дворов кое-что наскребли. А самого богатого, с табуном под сто голов, давно белые и красные «раскулачили», семья его заблаговременно уехала, незнамо куда. Конюшня на месте заброшенной усадьбы, несколько в стороне от деревни, только и осталась. Домостроение разграблено и растащено. А конские дворы, сложенные из толстенных брёвен, чудом сохранились и пригодились. Пройдя через них насквозь, Никита увидел Митяя, категорически, на все времена безлошадного крестьянина, назначенного с его дядькой Тихоном Воробьёвым для работы. Сегодня они заняты починкой крыши. Поздоровались. Митяй ощупал и погладил хомут, пощёлкал языком:
– Новенький! Таких ещё не сдавали.
Дядька Тихон кивнул Никите, сидя на крыше, скинул оторванные старые доски, прикрикнул на напарника:
– Залазь, Митяй, побыстрее, нечего лодыря гонять.
Тот закинул несколько новеньких досок, вскарабкался, вроде без обиды подчинился. Мужики работают, а для Никиты время в бездействии идёт томительно долго. Сидит молча, не мешая, думает: «А что если с колхозом получится? Вот ведь сейчас на глазах не больно шустрый Митяй работает рядом с усердным Тихоном. Так и подтянутся все, глядишь. Работой существует народ. Вот Бога для чего запретили? Дуракам закон не писан», – думает Никита Лукич и вспоминает, как Святое Писание, упаковав в мешковину да рогожу, зарыл без свидетелей. Зря и молитвослов не спрятал, Марии доверил. Нашли активисты в сундуке замотанным в бабьи юбки и конфисковали вместе с иконами. Идут времена безбожные… И притащат они немало испытаний, и достанутся они их детям.
Старший конюх явился больше чем через час.
Хомут был принят и поставлен около стола, на котором Степан Яковлевич писал расписку о получении, и рядом с которым уже была навалена кое-какая сбруя, пожалуй, и похуже калачёвской старой.
– Карьку твоего вместе с хомутом председателю определим.
– Чё это его председателю? Он пашет хорошо, косилку тоже потащит, – возразил бывший хозяин, терпеливо ожидая, когда Стёпка нацарапает бумагу.
– Не старый ещё, сытый, таких мало. И лошадей добрых, и оснащения мало ко мне сюда поступает. Кто нажить не успел, кто не сумел, а кто и припрятал от советской власти. Новая жисть… Я вот в должность вступил – через руки кое-что плывёт. Хотя… ловить-то нечего, сам знаешь… – откровенничает старший конюх, но и остерегается, не договаривает, оглаживая вещь жадными руками.
Приостановил словесный поток ненадолго и снова завёлся:
– Ты вот тоже с грамотёшкой дружишь, мог бы пристроиться, ан – нет. Карактер у тебя не тот, – поводил перед носом Никиты Лукича бумажкой. – Ну, чего ты с Семёном Кузьмичом споришь, прямо, как клещ, цепляешься. Ты кто перед ним, перед властью? Как теперь к нему подойдёшь?
– А кто велел коня моего…? – проигнорировал Никита всё сказанное, кроме первой фразы болтуна, вырывая расписку.
– Сам и велел, – быстро сообразил конюх, чем заинтересовался мужик, – Сбрую сгоношу поновее к твоему хомуту, – заспешил языком, чтобы обрадовать и успокоить бывшего хозяина, но не сработало.
– Вот тебе и колхо-оз! – неодобрительно пророкотал Никита Лукич.
– А чё тебе не ндравится?
– Бестолковщина не ндравится. Лучшее – под начальство, худшее – для тяжёлой работы. Этак мужички быстро надорвутся, и хорошее кончится, – громкоголосый ответ Никиты слышат и снаружи. Наверху перестают стучать молотками.
– Ты, Никита Лукич, языком трепли да не шибко, – не спускает начальник.
– Это ты треплешь, а я по делу говорю.
– Деловущий! Иди, куда положено! К сенокосу пора готовиться. Топай на бригаду. Своё делай, а сюда нос не суй.
– Как это не суй? – взыграло у Лукича ретивое. – Мало я в колхоз отдал? Хочу, чтобы с моим, как положено, обращались.
– Было – твоё, таперя – обчественное! – предъявил с превосходством подкованный конюх. – Эх, ты-и!
– «Обчественное», – передразнил Никита – Чем гордишься? Был, как все, а теперь больши-и-м стал? Радуешься, чужое добро перебирая? Крохобор! – шагнул и зажатым в кулаке бичом, который так и не выпустил из рук, наказав сынков, стукнул об стол. Насквозь видел новоиспечённого начальника. Конюх побледнел.
– Смотри ты у меня. А то мужички спесь собьют, на должность не посмотрят. Бога не боишься, совесть потерял. Греби под себя, да не шибко! – предупредил хапугу.
Тот вскочил, упёрся трясущимися руками в крепкую грудь нависшего над ним мужика, к которому и сам притягивался, как бабочка к свету:
– Ты чего, Никита, ты чего? А ну, давай, успокойся! Скажи, чего те надо от колхоза? А я при чём?
– Тьфу, на тебя, с…а! Нет у меня для тебя другого слова.
Повернулся круто и ушёл.
А конюх, уняв дрожь, пнул хомут, только что сданный Калачёвым, и выругался. Утерев со лба пробивший пот, запер коптёрку и рванул к председателю.
Глава 11. Хорошо, когда есть родня
Между тем ребятишки заняли своё место в круговерте дня, получая положенные впечатления из окружающего мира, наполняясь нехитрым деревенским опытом, развиваясь доступными способами.
Ванятка уверен, что лучше Коляна брата быть не может. Он как будто и не слышал, когда тот ворчал на него или гнал от себя – всё это перекрывалось их тесной общей жизнью, которая состояла из разговоров, игр, посильных трудов, ребячьих приключений. Как безудержно он обрадовался, увидев подошедшего к лестнице братишку, какой лучезарной улыбкой осветилось его личико.
– Колян, я жду, жду тебя.
– Телка видишь? Чё он там, не оторвался? – деловито спрашивает, отодвинув все переживания брат, и лезет на нагретую солнцем крышу.
– Пасё-отся. Уши вижу. Близко к полыни подошёл. Нажрётся – молоко будет горькое.
– Не будет!
– А когда у Красавы горчит, мамка говорит: «полыни хватанула».
– До Красавы этому далеко. Хотя… Мы все на него «телок» да «он». И ты всё перепутал. Если это бычок, то какое от него молоко? Вообще-то, – это тёлочка, девочка, понял?
Колька хохочет рано огрубевшим голосом: «Г-г-гы, г-г-гы». Брат присоединяется тоненьким хихиканьем и на взвизге спрашивает:
– Откуда знаешь?
– Четыре титечки что ли не видел? Они ж родятся с выменем.
– Пойдём, посмотрим, а вдруг – нет. Я не видел.
– Малявка ты, потому и не видел.
– А чё обзываться-то? – насупился обиженно.
– Да я так, от нечего делать… Ты, брат, настоящий пацан. Не дуйся!
– Конечно, настоящий. Я про огурцы никому не сказал. Ты сам первый признался!
Колян выплюнул былинку, которую жевал:
– Я старший, мне и отвечать. Чё тут такого? По-мужски – это правильно. «Себя подведи, а другого, брата, друга – не смей!» Батя говорил. Смотри, няньки Нюрин Ванька идёт.
Старшую дочь Никиты они все нянькой зовут, Марииных первых сынков нянчила. А как же? Потому и нянька. За то и Мария для Маруси нянька.
– Ванька-а, – закричал ему во всё горло, – ты куда?
– Вас искал, – подбегает тот, – Надоело с Марусей разбираться. Обзывальщица. Делать ей нечего! А ещё старшая сестра! То «Иван – болван», то «лысая башка, дай пирожка!» – передразнивает писклявую девчачью интонацию Ваня и лезет на крышу. – Смотрите, как папка меня оболванил, – гладит он свою розово сияющую голову и окидывает место сборища блестящими глазёнками. – А чё? Хорошо на лето. Вшей не накупаешь, и гребёнка не нужна. Сбежал я от сеструхи. У вас – лучше: ни одной девчонки – пацанская семья. Не могли уж мне братку мамка с батей родить.
Колян обнимает Ваньку, который усаживается с противоположного от Ванятки бока. Обоих руками прижимает к себе: